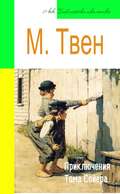Марк Твен
Жанна д'Арк
Глава VI
Третье заседание суда состоялось в той же обширной зале на следующий день, 24 февраля.
Как же началось оно? Как и раньше. Когда закончились все приготовления, когда судьи в своих мантиях разместились по креслам, а стражники и приставы заняли свои посты, то Кошон с высоты своей трибуны приказал Жанне положить руки на Евангелие и клятвенно обещать, что она будет правдиво отвечать на все предлагаемые ей вопросы!
Глаза Жанны загорелись, и она встала; гордо и величественно стояла она и, повернувшись лицом к епископу, сказала:
– Остерегитесь, господин мой: ведь вы, мой судья, берете на себя страшную ответственность, и вы можете зайти слишком далеко.
После этих слов поднялся сильный шум, а Кошон бросил ей ужасную угрозу: он пригрозил, что она будет осуждена немедленно, если откажется повиноваться. Кровь застыла у меня в жилах, и я заметил, как вдруг побледнели окружавшие меня лица; ведь эта угроза означала: позорный столб и костер! Однако Жанна, продолжая стоять, ответила ему гордо и бесстрашно:
– Все духовенство Парижа и Руана не могло бы осудить меня, потому что не имеет на то право!
Снова шум – и рукоплескания зрителей. Жанна села на скамью. Епископ продолжал настаивать. Жанна сказала:
– Я уже раз присягнула. Этого достаточно. Епископ закричал:
– Отказываясь принести присягу, ты навлекаешь на себя подозрение!
– Пусть. Я уже присягнула. Этого достаточно. Епископ не отступал. Жанна говорила, что «она будет говорить только то, что знает, но не все, что знает».
Епископ так долго мучил ее, что она наконец сказала с усталостью в голосе:
– Я пришла от Бога; здесь мне нечего больше делать. Возвратите же меня к Богу, от Которого я пришла.
Горько было слышать это; она как бы говорила: «Вам нужна только моя жизнь; возьмите же ее и оставьте меня в покое».
Епископ снова забушевал:
– Еще раз приказываю тебе…
Жанна оборвала его своим небрежным «Passez outre», и Кошон прекратил борьбу; но отступил он на этот раз не с совершенно пустыми руками: он предложил взаимную уступку, и Жанна, неизменно сохранявшая ясность ума, увидела тут возможность самозащиты и охотно согласилась. Она должна была присягнуть, что будет говорить правду «относительно всего, что внесено в proces verbal». Теперь они уже не могли завлечь ее за известные границы: путь ее был определенно нанесен на карту. Епископ дал больше того, что желал, и больше того, что мог выполнить без ущерба для истины.
По его приказанию Бопэр возобновил допрос подсудимой. Так как дело было во время Великого поста, то они надеялись уличить ее в небрежном исполнении каких-либо религиозных обязанностей. Я мог бы наперед сказать им, что они потерпят в этом неудачу. Ведь в религии был весь смысл ее жизни!
– Когда ты ела и пила в последний раз?
Если бы она вкусила хоть крупинку съестного, то ни ее молодость, ни та голодовка, которую ей приходилось терпеть в тюрьме, – ничто не спасло бы ее от опасного подозрения в пренебрежительном отношении к предписаниям Церкви.
– Я не ела и не пила со вчерашнего полудня. Священник опять перевел вопрос на Голоса.
– Когда ты слышала Голоса?
– Вчера и сегодня.
– В какое время?
– Вчера это было утром.
– Что ты тогда делала?
– Я спала, и Голос пробудил меня.
– Прикоснувшись к твоей руке? Благодарила ли ты его? Стала ли ты на колени?
Понимаете? Он имел в виду сатану и надеялся, что мало-помалу можно будет доказать, что она поклонялась заклятому врагу Бога и человека.
– Да, я его благодарила; и я стала на колени на моей постели, к которой я была прикована, и сложила руки, и молила послать мне помощь Божию, молила просветить меня и научить, какие ответы должна я давать на суде.
– И что же сказал тогда Голос?
– Он сказал мне: отвечай смело, и Господь поможет тебе. Затем она повернулась к Кошону и сказала:
– Вы говорите, что вы – мой судья; повторяю еще раз: остерегитесь, потому что я воистину послана Богом и вы подвергаете себя великой опасности.
Бопэр спросил, не отличались ли советы Голоса двойственностью и непостоянством.
– Нет. Он никогда себе не противоречит. Не далее как сегодня он повторил мне, что я должна отвечать смело.
– Приказал ли он тебе отвечать не на все вопросы?
– Насчет этого я вам ничего не скажу. Я получила откровения, касающиеся моего государя, короля, и этого я не сообщу вам.
Тут сильное волнение овладело ею: слезы показались на ее глазах, и она сказала тоном горячего убеждения:
– Я глубоко верю – так же глубоко, как в учение Христа, как в искупительную жертву Спасителя, – верю, что через этот Голос говорит со мной сам Господь!
Когда ее снова спросили о Голосе, она сказала, что ей не разрешено говорить все, что она знает.
– Не думаешь ли ты, что Господь разгневается, если ты поведаешь всю правду?
– Голос приказал мне передать некоторые слова королю, а не вам; и кое-что было открыто мне совсем недавно – даже в последнюю ночь; ему следовало бы узнать об этом как можно скорее. Он тогда мог бы обедать гораздо спокойнее.
– Почему Голос не заговорит с королем, как говорил с тобой? Почему ты не попросишь его об этом?
– Я не знаю, такова ли воля Господа.
На минуту она задумалась: мысли ее витали где-то далеко. Потом она проронила замечание, в котором Бопэр – неизменно бдительный, неизменно внимательный – увидел новую возможность расставить ловушку. Не думайте только, что он тотчас ухватился за эту возможность, открыто радуясь своей находке, как поступил бы новичок, еще не изощрившийся в крючкотворстве и лукавстве! О нет, глядя на него, вы и не догадались бы, что он запомнил ее слова. Он тотчас равнодушно заговорил о другом и принялся задавать праздные вопросы: он, так сказать, старался обойти кругом, чтобы неожиданно напасть из-за угла. То были докучные и не идущие к делу вопросы о том, не предсказал ли ей Голос освобождение из тюрьмы; не указал ли он ей, какие ответы она должна давать во время сегодняшнего заседания; был ли он окружен ореолом света и есть ли у него глаза – и так далее. А опасное замечание Жанны заключалось в следующем:
– Без Божественной благодати я ничего не могла бы сделать.
Судьи видели, что у попа была какая-то задняя мысль, и они с кровожадным любопытством следили за этой игрой. Бедная Жанна была задумчива и рассеянна; вероятно, она утомилась. Ее жизнь висела на волоске, а она и не замечала этого. Минута была вполне благоприятная, и Бопэр потихоньку, крадучись, подставил свою ловушку:
– Пребываешь ли ты в состоянии благодати?
О, среди судей были все-таки два или три честных человека; один из них был Жан Лефевр. Он вскочил с кресла и воскликнул:
– Это – страшный вопрос! Подсудимая не обязана отвечать!
Лицо Кошона почернело от злости, когда он увидел этот спасительный круг, брошенный утопавшей девочке; и он зарычал:
– Молчать! Садитесь на место! Подсудимая должна ответить на вопрос!
Не было надежды на спасение, не было выбора. Ибо каков бы ни был ее ответ – да или нет, он ее погубил бы: ведь Священное Писание говорит, что человек не может знать этого. Подумайте, какое нужно иметь черствое сердце, чтобы, расставив эту роковую западню, гордиться своей работой и ликовать. Минута ожидания была для меня мучительна; казалось, прошел целый год. Все собрание заметно волновалось, и по преимуществу то было радостное волнение. Жанна обвела невинным, непотревоженным взором все эти жадные лица и затем скромно, смиренно изрекла тот бессмертный ответ, который смахнул ужасную сеть, словно легкую паутину:
– Если я не пребываю в состоянии благодати, то молю Господа сподобить меня; если же пребываю, то молю Господа не отнимать ее у меня.
О, какое впечатление произвели ее слова! Вы никогда не увидите ничего подобного, не увидите за всю вашу жизнь. Сначала воцарилась гробовая тишина; люди изумленно переглядывались, а иные, устрашившись, осеняли себя крестным знамением. Я слышал, как Лефевр пробормотал:
– Придумать такой ответ не под силу человеческой мудрости. Откуда же снизошло столь дивное вдохновение на этого ребенка?
Вот Бопэр снова взялся за свою работу; но он, видимо, был удручен своей позорной неудачей: неохотно и вяло исполнял он свое дело, которому уже не мог отдаться всем сердцем.
Он задал Жанне чуть ли не тысячу вопросов о ее детстве, о дубовом лесе, о феях, о детских играх и забавах под сенью нашего милого Arbre Fee de Bourlemont. Проснулись потревоженные тени далекого прошлого, и голос Жанны оборвался; она немного всплакнула. Но по мере сил она сдерживала себя и на все отвечала.
В заключение священник снова коснулся вопроса о ее одежде. То был вопрос, который надо было все время держать на виду в погоне за жизнью этого невинного существа – надо было, чтоб он все время висел над ней, как угроза, в которой скрыта погибель.
– Хотела бы ты носить женское платье?
– О, еще бы! По выходе из этой тюрьмы, но не здесь.
Глава VII
После того суд собрался в понедельник двадцать пятого. Поверите ли? Епископ, нарушая условие, в силу которого допрос должен был касаться только того, о чем упомянуто в proces verbal, опять потребовал от Жанны безусловной присяги. Она возразила:
– Пора бы вам удовлетвориться. Довольно я присягала. Она твердо стояла на своем, и Кошону пришлось уступить.
Возобновился допрос о Голосах Жанны.
– Ты заявила, что в третий раз, как ты услышала их, ты узнала, что это Голоса ангелов. Каких же именно?
– Святой Екатерины и святой Маргариты.
– Откуда ты знаешь, что с тобой говорили именно эти две силы? Как могла ты отличить одну от другой?
– Я знаю, что это были они; и я знаю, как различить их.
– Каков же признак?
– Они по-разному приветствовали меня. Последние семь лет они руководили мной, я знала, кто они, потому что они мне это сказали.
– Кому принадлежал Голос, услышанный тобою впервые, когда тебе было тринадцать лет?
– То был голос святого Михаила. Я видела его воочию; и он был не один, но сонм ангелов сопровождал его.
– Видела ли ты архангела и сопровождавших его ангелов во плоти или же – духовно?
– Я видела их своими телесными очами, как теперь вижу вас. И когда они ушли, я заплакала, оттого что они меня не взяли с собой.
Мне вспомнилась та грозная, ослепительно белая тень, которая однажды спустилась к Жанне у подножия Arbre Fee de Bourlenont, и я снова затрепетал, хотя это было очень давно. В действительности это произошло не так уж давно, но казалось – много лет тому назад, потому что с тех пор случилось столько событий.
– В каком образе являлся святой Михаил?
– Мне не разрешено говорить это.
– Что сказал тебе архангел, когда явился в первый раз?
– Сегодня не могу ответить вам.
Вероятно, она давала этим понять, что сначала ей надо получить разрешение Голосов.
Вскоре после того, как ей задали несколько вопросов относительно откровений, переданных через нее королю, она указала на бесполезность всех этих расспросов:
– Повторяю то, что я неоднократно уже говорила во время предыдущих заседаний: я уже ответила на все эти вопросы перед судом в Пуатье; не лучше ли было бы вам заглянуть в отчет этого суда и прочесть там все необходимое. Прошу вас, достаньте эту книгу.
Ответа не было. То был вопрос, который надо было всячески обходить и замалчивать. Книгу эту предусмотрительно запрятали подальше, потому что там заключались такие вещи, которые здесь были бы крайне нежелательны. Между прочим, там значилось определение суда, гласившее, что Жанну надлежит признать посланницей Бога, тогда как целью теперешнего, низшего, суда было именно доказать, что она послана дьяволом. Было там и разрешение Жанне носить мужское платье, а этот суд старался воспользоваться мужским платьем как тяжким обвинением против нее.
– Что побудило тебя отправиться во Францию? По своей ли воле ты пошла?
– Да, по своей воле и по приказанию Всевышнего. Когда б не воля Господа, я не пошла бы. Скорей я согласилась бы, чтобы лошади разорвали мое тело на части; но не пошла бы вопреки Его воле.
Бопэр опять перевел разговор на мужское платье и повел торжественную речь на эту тему. Терпение Жанны было подвергнуто искусу; наконец она прервала его, сказав:
– Ведь это пустяк, не стоящий внимания. И надела я мужское платье не по совету людскому, а по велению Господа.
– Роберт де Бодрикур не предписал тебе носить его?
– Нет.
– Как ты думаешь: хорошо ли ты поступала, нося мужскую одежду?
– Я всегда поступала хорошо, когда повиновалась приказаниям Господа.
– Ну а в этом частном случае считаешь ли ты, что поступала хорошо, надевая мужскую одежду?
– Я ничего не делала иначе, как по повелению Бога.
Бопэр всячески старался завлечь ее в противоречия самой себе; старался также найти в ее словах и поступках несоответствие со Священным Писанием. Он вернулся к ее видениям, упомянул об окружавшем их свете, о ее встречах с королем и так далее.
– Был ли ангел над головой короля в тот день, когда ты его увидела в первый раз?
– Именем Пресвятой Марии!..
И, сдержав свое нетерпение, она договорила спокойно:
– Если и был ангел, то я его не видела.
– Был ли свет?
– Там было более трехсот солдат и пятисот факелов, не считая света духовного.
– Что заставило короля поверить тем откровениям, которые ты сообщила ему?
– Ему были знамения; кроме того, он посоветовался с духовенством.
– Какие откровения получил король?
– В нынешнем году вы этого от меня не узнаете. Затем она добавила:
– Меня в течение трех недель допрашивало духовенство в Шиноне и в Пуатье. Король получил знамение, прежде чем уверовал, а духовенство пришло к заключению, что в моих поступках заключено добро, а не зло.
На время эту тему оставили, и Бопэр занялся чудотворным мечом из Фьербуа; он надеялся хоть этим способом навлечь на Жанну подозрение в колдовстве.
– Как ты узнала, что в земле зарыт старинный меч – за алтарем церкви Святой Екатерины в Фьербуа?
Жанна не стала этого скрывать:
– Я знала, что там лежит меч, потому что мне сказали Голоса; и я попросила прислать мне его, чтобы я могла носить его на войне. Мне казалось, что меч зарыт в землю неглубоко. Причт церкви отдал распоряжение отыскать его; они вычистили меч, и ржавчина легко отстала.
– Был ли он при тебе во время битвы при Компьене?
– Нет. Но я всегда носила его, вплоть до моего ухода из Сен-Дени, после нападения на Париж.
Существовало подозрение, что этот меч, найденный при столь таинственных обстоятельствах и столь неизменно приносивший победу, был наделен колдовскими чарами.
– Благословили ли этот меч? И какое именно благословение было призвано на него?
– Никакое. Я любила его только потому, что он был найден в церкви Святой Екатерины: я очень любила эту церковь.
А церковь эту она любила за то, что она была воздвигнута в честь одной из являвшихся к ней святых.
– Не клала ли ты его на алтарь для того, чтобы он принес тебе счастье (он говорил об алтаре в Сен-Дени)?
– Нет.
– Не молилась ли ты о том, чтобы меч твой был счастлив?
– Поистине нет ничего преступного в пожелании счастья своим доспехам.
– Так не этот ли меч был у тебя во время битвы при Компьене? Какой же был тогда при тебе?
– Меч бургундца Франкэ д'Арраса, которого я взяла в плен в битве при Ланьи. Я взяла его себе, потому что это был хороший булатный меч; им хорошо было рубить и наносить удары.
Эти слова были произнесены простодушно; и разительное несоответствие между ее маленькой, хрупкой фигуркой и воинственно-суровой речью, столь непринужденно сорвавшейся у нее с языка, заставило многих зрителей улыбнуться.
– Что стало с другим мечом? Где он теперь?
– Говорится ли об этом в proces verbal? Бопэр промолчал.
– Что ты любишь больше: твое знамя или меч?
При упоминании о знамени глаза ее радостно вспыхнули, и она воскликнула:
– Мое знамя мне дороже, о, в сорок раз дороже, чем меч! Иногда, нападая на врага, я сама несла его, чтобы никого не убить. – И она наивно добавила, снова проявляя забавную противоположность между своей почти детской внешностью и воинственной речью: – Я не убила ни одного человека.
У многих это опять вызвало улыбку; и вполне понятно почему: подумайте, какая она была нежная и невинная с виду девочка. Не верилось даже, что она когда-либо видела, как убивают друг друга люди: слишком не соответствовала этому ее внешность.
– Во время последнего сражения при Орлеане не говорила ли ты солдатам, что стрелы врагов, камни, пущенные из их катапульт, и ядра их пушек ни в кого не попадут, кроме тебя?
– Нет. И вот доказательство: больше сотни моих солдат были ранены. Я сказала им, чтоб они не боялись и не сомневались, что нам удастся снять осаду. Я была ранена стрелой в шею во время взятия той бастилии, которая охраняла мост, но святая Екатерина утешила меня, и я исцелилась в пятнадцать дней; мне не пришлось даже покинуть седло и прервать работу.
– Знала ли ты накануне, что ты будешь ранена?
– Да; и я еще задолго сказала о том королю. Я узнала от Голосов.
– Когда ты взяла Жаржо, то почему не потребовала выкупа за военачальника крепости?
– Я предложила ему беспрепятственно уйти вместе со всем гарнизоном, грозя, что в противном случае я возьму крепость приступом.
– И ты, конечно, так и сделала?
– Да.
– Не получала ли ты от Голосов указаний насчет взятия крепости приступом?
– Не помню.
На этом закончилось утомительное, долгое и бесплодное заседание. Были испытаны все средства, чтобы уличить Жанну в злоумышлении, в злодеянии, в неповиновении Церкви, детских или недавних прегрешениях, но – совершенно безуспешно. Она безупречно выдержала искус.
Пришел ли суд в уныние? Ничуть. Само собой, судьи были весьма удивлены и поражены, когда увидели, что работа, которая казалась им крайне простой и легкой, встречает на своем пути столько неожиданных затруднений. Однако у них были могущественные союзники, как-то: голод, холод, усталость, травля, обман, предательство; и направлено все это было против беззащитной и простенькой девушки, которая должна же, наконец, будет уступить духовной и телесной усталости и угодить в одну из тысячи расставленных ей ловушек.
Но достиг ли суд каких-нибудь успехов в течение этих якобы бесплодных заседаний? Достиг. Он ощупью отыскивал себе дорогу, присматривался и, наконец, нашел кое-какие следы, по которым можно было бы мало-помалу добраться до желаемой цели. Например, мужской наряд, видения, Голоса. Никто, конечно, не сомневался, что она видела сверхъестественные существа, говорила с ними и получала от них указания. Никто также не сомневался, что с помощью сверхъестественных сил Жанна свершала чудеса; так она узнала в толпе короля, которого ни разу не видела раньше, она отыскала меч, зарытый под алтарем. Безрассудно было бы отрицать такие вещи: ведь мы все знаем, что в воздухе витают бесы и ангелы, которые видимы, с одной стороны, чернокнижникам, с другой – людям безупречной святости. Но вот в чем сомневались многие, а быть может, и большинство: действительно ли видения, Голоса и чудеса Жанны были от Бога? Судьи надеялись, что со временем им удастся доказать, что источником этих явлений был сатана. А потому вы поймете, что упорство, с которым судьи то и дело возвращались к этому вопросу, сновали вокруг него и допытывались, – вовсе не было праздным занятием, а стремлением к строго определенной цели.
Глава VIII
Следующее заседание происходило в четверг, первого марта. Присутствовало пятьдесят восемь судей – остальные отдыхали.
По обыкновению, от Жанны снова потребовали, чтобы она дала клятву говорить правду, ничего не скрывая. Она не выказала раздражения на этот раз. Она чувствовала себя достаточно защищенной тем соглашением относительно pro-ces verbal.
– Я буду отвечать на них свободно, ничего не скрывая, – да, ничего не скрывая, как если бы я стояла перед самим Папой.
Здесь был очень удобный случай для судей! У нас было трое Пап тогда; конечно, только один из них мог быть настоящим. Каждый благоразумно уклонялся от разрешения вопроса, который из Пап был истинным, потому что вмешательство в такие дела было очень опасно. Но здесь представлялся удобный случай завлечь в западню беззащитную девушку, и бесчестный судья не преминул воспользоваться этим. Он спросил притворно беспечным и рассеянным тоном:
– Которого из них ты считаешь настоящим Папой?
Все судьи в глубоком молчании ждали ответа, который должен привести жертву в западню. Но когда раздался ответ, он поверг судей в смущение, и можно было видеть, что многие из присутствующих тайком усмехались. Ибо Жанна спросила тоном, почти обманувшим даже меня, – до того он был невинен:
– Разве их два?
Один из попов, способнейший среди них и отчаянный богохульник, сказал настолько громко, что почти все слышали:
– Клянусь Богом, это был мастерский удар!
Как только судья оправился от смущения, он снова принялся за допрос, благоразумно оставив слова Жанны без ответа:
– Правда ли, что граф д'Арманьяк прислал тебе письмо, спрашивая у тебя, которого из троих Пап он должен признавать?
– Да, и я ответила ему.
Копии обоих писем были представлены и прочитаны перед судом. Жанна заявила, что копия с ее письма была не совсем точна. Она сказала, что получила письмо графа в тот момент, когда садилась на лошадь, и прибавила:
– Я продиктовала несколько слов в ответ, говоря, что на его вопрос постараюсь ответить из Парижа или из какого-нибудь другого места, где остановлюсь на отдых.
Ее снова спросили, которого из Пап она считала настоящим.
– Я не могла сказать графу д'Арманьяку, которому из Пап он должен повиноваться. – И затем добавила с полным бесстрашием, представлявшим особенно яркий контраст с этим скопищем двуличных плутов: – Но что касается меня, то я думаю, что мы должны признавать только нашего святейшего Папу, который находится в Риме.
Этот вопрос был оставлен. Была прочитана копия первого воззвания Жанны – воззвания, которым она убеждала англичан прекратить осаду Орлеана и покинуть Францию, – поистине великое произведение для неопытной семнадцатилетней девушки.
– Признаешь ли ты, что прочитанный документ был написан тобой?
– Да, за исключением того, что в нем есть ошибки – вставлены слова, которые имеют такой смысл, как будто я придавала себе слишком большое значение.
Я знал, что должно последовать; я почувствовал тревогу и смущение.
– Например, – продолжала она, – я не говорила: «Сдайтесь Деве» (rendez a la Pucelle); я сказала: «Сдайтесь королю» (rendez au roi); и я не называла себя «главнокомандующим» (chef de guerre). Все эти слова вставил мой писец; он или не расслышал, или забыл, что я говорила.
Говоря это, она ни разу не взглянула на меня. Она не захотела привести меня в замешательство. Я не ослышался и не забыл ее слов. Я намеренно изменил их смысл, потому что она была действительно главнокомандующим, она имела полное право на этот титул; и следовало именно так называть ее; и кто мог бы сдаться королю? Королю, само имя которого было в то время лишь пустым звуком? Нет, сдаться можно было только благородной Деве из Вокулера, уже знаменитой, уже грозной тогда, хотя она еще не нанесла ни одного удара.
Да, этот эпизод мог бы кончиться для меня очень неприятно, если бы эти безжалостные судьи узнали, что на заседании присутствует тот самый секретарь Жанны д'Арк, который писал под ее диктовку вышеупомянутый документ, и не только присутствует, но и составляет отчет судебного заседания; и что, кроме того, через многие годы ему суждено будет свидетельствовать против лжи и против извращений истины, допущенных Кошоном, и предать действия судей вечному позору!
– Ты признаешь, что диктовала это воззвание?
– Признаю.
– Сожалеешь ли ты об этом? Отказываешься от своих слов?
Тут уж она не смогла сдержать негодования!
– Нет! И даже эти цепи, – она потрясла ими, – и даже эти цепи не могут охладить надежд, которые я тогда питала. И даже более! – Она встала и с минуту стояла, между тем как странный, Божественный свет озарил ее лицо, и затем слова вырвались у нее неудержимо, как поток: – Предостерегаю вас, что не пройдет и семи лет, как на англичан обрушится бедствие, о, во много раз сильнейшее бедствие, чем то, которое постигло Орлеан. И…
– Молчи! Садись!
– …И тогда, вскоре после этого, они потеряют всю Францию!
Подумайте теперь вот о чем. Французская армия более не существовала. Французская нация и французский король были одинаково бессильны; никто не мог и предполагать, что с течением времени появится коннетабль Ришмон, возьмет на себя великий труд Жанны д'Арк и доведет его до конца. И среди таких обстоятельств Жанна произносит это пророчество – произносит его с полной уверенностью, – и пророчество ее исполняется!
Потому что через пять лет (в 1436 году) Париж был взят, и наш король вступил в него под знаменем победителя. Таким образом, первая половина пророчества исполнилась в тот год, – в сущности, почти все пророчество; ведь имея Париж в своих руках, мы были обеспечены относительно исполнения остального.
Двадцать лет спустя вся Франция была наша, за исключением только одного города – Кале[78].
Это должно напомнить вам о другом, более раннем пророчестве Жанны. В то время, когда она старалась взять Париж и могла бы сделать это легко, если бы только наш король согласился, она сказала, что это было золотое время; что если бы Париж был у нас в руках, вся Франция была бы нашей через шесть месяцев. Но если упустить этот неоценимый миг, когда еще есть возможность без труда воссоединить всю Францию, то, сказала она: «Я даю вам двадцать лет, чтобы сделать это».
Она была права. После взятия Парижа в 1436 году потребовалось двадцать лет, чтобы завоевать обратно всю Францию, город за городом, замок за замком.
Да, первого марта 1431 года она стояла там перед лицом судей и произнесла свое изумительное, необъяснимое пророчество. Случается иной раз, что какое-нибудь пророчество сбывается, но если вы поглубже вникните в дело, то почти всегда окажутся значительные основания подозревать, что пророчество было сделано задним числом. Здесь же было совершенно другое дело. Пророчество Жанны, сделанное перед судьями, было занесено в судебные отчеты, в тот самый день и час, когда оно было произнесено, за много лет до его исполнения, и эта запись может быть прочитана каждым, хоть сегодня. Через двадцать пять лет после смерти Жанны запись была представлена великому Суду Восстановления, удостоверена под присягой Маншоном и мною, а также оставшимися в живых судьями, подтвердившими точность записи своим свидетельством.
Поразительное изречение Жанны, сделавшее столь знаменитым день первого марта, возбудило такое волнение среди присутствующих, что тишина водворилась не сразу. Весьма понятно, что все были встревожены, потому что пророчество всегда кажется чем-то ужасным и зловещим, все равно, исходит ли оно из ада или падает с Небес. В одном только были убеждены эти люди – что вдохновение, руководившее словами Жанны, было искренним и могучим. Они бы готовы были отсечь себе правую руку, лишь бы только узнать, каков источник ее пророчества. Наконец снова приступили к допросу.
– Откуда ты узнала, что все это должно случиться?
– Узнала из откровения. И знаю это так же верно, как знаю то, что вы сидите здесь передо мной.
Такой ответ не мог уменьшить распространившуюся тревогу. Поэтому после нескольких незначительных вопросов судья перешел к другому, менее затруднительному предмету.
– На каком языке говорили твои Голоса?
– На французском.
– И святая Маргарита так же?
– Конечно; почему же нет? Она за нас – не за англичан!
Святые и ангелы, которые не желают говорить по-английски! Это тяжкая обида. Их нельзя было привести в суд и наказать за такое пренебрежение, но судьи могли записать ответ Жанны как улику; так они и сделали. Это могло пригодиться им после.
– Носили твои святые и ангелы какие-нибудь драгоценности – короны, кольца, серьги?
Такие вопросы казались Жанне кощунственным пустословием, недостойным ее внимания; она отвечала на них равнодушно. Но последний вопрос напомнил ей одно обстоятельство; и она сказала, обращаясь к Кошону:
– У меня было два кольца. Их взяли у меня во время моего плена. Одно из них у вас. Это подарок моего брата. Возвратите его мне. Если же не хотите возвратить, тогда я прошу передать его Церкви.
У судей мелькнула мысль, что Жанна, быть может, носила эти кольца как орудие наваждения. Нельзя ли с их помощью причинить ей вред?
– Где другое кольцо?
– У бургундцев.
– Откуда ты его получила?
– Это подарок моих родителей.
– Опиши его.
– Оно простое, гладкое, и на нем вырезаны слова: «Иисус и Мария».
Каждый мог видеть, что подобное кольцо не могло служить орудием для колдовства. Таким образом, приходилось отказаться от этой придирки. Но все же один из судей спросил Жанну, не случалось ли ей исцелять больных прикосновением своего кольца. Она сказала, нет.
– Теперь перейдем к феям, которые водились близ Домреми, о чем свидетельствуют многие рассказы и предания. Говорят, что твоя крестная мать в одну летнюю ночь застала этих фей танцующими под деревом, которое называется l'Arbre Fee de Bourlemont. Может быть, твои мнимые Голоса и ангелы были просто эти феи?
– Есть ли это в вашем proces?
Этим ограничился ее ответ.
– Беседовала ты со святой Маргаритой и святой Катериной под этим деревом?
– Не знаю.
– Или у источника, близ дерева?
– Да, иногда.
– Какие обещания давали они тебе?
– Только те, которые позволил им Господь.
– Но какие именно?
– Этого нет в вашем proces; но я могу сказать вам: они обещали мне, что король будет владеть своим королевством, несмотря на усилия врагов.
– И что еще?
Настала пауза; потом Жанна ответила смиренно:
– Они обещали повести меня в рай.
Если человеческое лицо выражает мысли и чувства человека, то многие из присутствующих почувствовали тайный страх при мысли, что, может быть, здесь, перед их глазами, стараются затравить до смерти избранную слугу и посланницу Божию. Внимание усилилось. Движение и шепот прекратились. Тишина стала почти мучительной.
Заметили ли вы, что почти с самого начала заседаний содержание вопросов, предлагаемых Жанне, показывало, что спрашивавший в большинстве случаев уже знал все то, о чем он спрашивал? Заметили ли вы, что вообще все допрашивавшие знали заранее, о каких тайнах и каким способом допытываться у Жанны? Что им была уже известна вся ее жизнь, все ее прошлое – о чем Жанна и не подозревала – и что теперь они только старались завлечь ее в ловушку, так, чтобы она сама призналась во всем?
Помните ли вы Луазлера, этого лицемера и предателя, это орудие Кошона? Помните ли вы, что Жанна, уверенная в неприкосновенности тайны исповеди, чистосердечно и доверчиво рассказала ему обо всем, за исключением лишь немногого, касавшегося ее откровений, говорить о которых кому бы то ни было ей воспретили святые, и что этот неправедный судья, Кошон, спрятавшись, слышал всю ее исповедь?