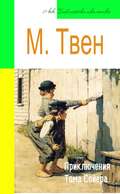Марк Твен
Жанна д'Арк
Глава XXIII
На следующее утро, чуть свет, Тальбот и его войска покинули свои бастилии и ушли, даже не удосужившись хотя бы сжечь или разрушить укрепления или прихватить кое-какое добро: они оставили крепости в полной неприкосновенности – со всеми складами провианта и оружия, со всем, что было запасено для продолжительной осады. Население с трудом верило, что действительно совершилось это великое дело; что они вновь получили свободу и могут выходить и возвращаться через любые ворота города беспрепятственно и спокойно; что грозный Тальбот, этот бич французов, этот человек, одно имя которого могло привести в оцепенение французскую армию, – что он ушел, побежденный, вытесненный, прогнанный девушкой.
Город опустел. Изо всех ворот потянулись толпы народу. Точно муравьи копошились они вокруг английских бастилий, но шумели, не в пример этим созданиям; унеся припасы и орудия, они обратили все двенадцать крепостей в чудовищные костры, в подобие вулканов, над которыми поднимались огромные столбы густого дыма, словно подпиравшие небосвод.
Восторг детей проявлялся иначе. Для иных малышей семь месяцев – все равно, что целая жизнь. Они успели забыть, какова с виду трава, и зеленый бархат лугов был раем в их изумленных и счастливых глазах, так давно не видавших ничего, кроме грязных улиц и дворов. Они не могли надивиться на этот простор широких полей, где им можно было вдоволь бегать, плясать, кувыркаться, резвиться после долгого, безотрадного сидения взаперти. И вот они отправились блуждать по живописным окрестностям, в ту и в другую сторону от реки, и вернулись только к вечеру, насобирав кучи цветов и раскрасневшись от свежего сельского воздуха и благотворных подвижных развлечений.
После сожжения укреплений взрослый люд начал ходить с Жанной из церкви в церковь, посвятив остальную часть дня благодарственным молитвам по случаю освобождения города. А вечером в честь Жанны и ее полководцев было устроено торжество, улицы расцветились огнями, и началось всеобщее веселье. Незадолго до рассвета, когда население уже давно разбрелось по домам, мы оседлали лошадей и двинулись в Тур – с докладом к королю.
Обстановка нашего путешествия могла бы вскружить голову кому угодно – только не Жанне. Все время нам приходилось ехать среди восторженных, благодарных поселян. Они толпились вокруг Жанны, чтобы прикоснуться к ее ногам, к ее доспехам, к ее коню; они становились на колени посреди дороги и целовали отпечатки подков ее коня.
Вся страна боготворила ее. Знаменитейшие сановники Церкви отправили королю послание, в котором превозносили Деву, сравнивали ее с библейскими героями и святыми и предостерегали короля, чтоб он не позволял «неверию, неблагодарности или иным несправедливостям» замедлять или пресекать Божественную помощь, ниспосланную через нее. Можно подумать, что слова эти были пророческими, – не станем оспаривать. Но, на мой взгляд, они были подсказаны сим великим мужам не чем иным, как точным знанием суетной и предательской души короля.
Король выехал в Тур для встречи с Жанной. Этого жалкого человека и поныне называют Карлом Победоносцем, во внимание к победам, которые были одержаны за него другими; но тогда у нас в ходу было для него иное прозвище, которое гораздо вернее отражало его облик и вполне соответствовало его личным заслугам: Карл Подлый. Когда мы вошли в приемную залу, он восседал на троне, окруженный своими мишурными выскочками щеголями. Начиная с талии и до низу платье на нем было так затянуто, что он напоминал собой морковь с раздвоенным концом; его башмаки отличались непомерно длинными, гибкими, похожими на веревки носками, которые надо было пристегивать у колен, чтобы не споткнуться во время ходьбы; накинутый на плечи бархатный малиновый плащ едва доходил до локтей; на голове у него была высокая войлочная шляпа в форме наперстка, повязанная вышитой жемчугом лентой, за которую было заткнуто перо, торчавшее словно из огромной чернильницы; а из-под этого наперстка ниспадали пряди жестких, кончавшихся завитками волос, так что голова вместе с убором была похожа на ракетку для игры в волан. Весь наряд его был из богатых и ярких тканей. На коленях у него лежала, свернувшись калачиком, крохотная левретка, которая рычала и скалила белые зубы при малейшем беспокоившем ее движении. Королевские щеголи были одеты столь же пышно, и когда я вспомнил, что Жанна назвала военный совет Орлеана «собранием переодетых горничных», то я невольно подумал о тех людях, которые все свои деньги тратят на пустяки, ничего не сохраняя для приобретения полезного; вот для таких-то людей следовало бы приберечь это прозвище.
Жанна упала на колени перед его королевским величеством и перед другим, столь же ничтожным животным, покоившимся у него на руках. Мне мучительно было видеть это. Что сделал этот человек для своей страны или для кого-нибудь из живущих в ней? За что она и другие преклоняют колени перед ним? Другое дело – она. Ведь она совершила великий подвиг, единственный во Франции за пятьдесят лет, и освятила его своей кровью. Им бы надлежало поменяться местами.
Впрочем, говоря по правде, Карл на сей раз в общем поступил очень хорошо – гораздо лучше, чем он привык поступать. Передав собачонку одному из придворных, он снял шляпу перед Жанной, как будто она была королева. Затем он сошел по ступенькам престола и поднял Жанну, проявив самую искреннюю и благородную радость, приветствуя ее и благодаря за ее необычайные подвиги на его службе. Мои предубеждения возникли позднее, и если б он остался таким же, каким он был в ту минуту, то я составил бы о нем другое мнение.
Да, он поступил хорошо. Он сказал:
– Вам не подобает преклонять предо мною колена, мой несравненный полководец. Вы сражались по-королевски, и да воздадутся вам за это королевские почести. – Заметив ее бледность, он продолжал: – Но вы не должны стоять; вы проливали кровь за Францию, и ваша рана еще свежа. Пойдемте же! – Он подвел ее к креслу и сел рядом с ней. – Теперь скажите мне прямо, как человеку, который вам многим обязан и открыто в этом признается, в присутствии собравшихся придворных: чем мне вознаградить вас?
Мне было стыдно за него. А между тем я был несправедлив, потому что не мог же он за несколько недель узнать эту дивную девушку, когда даже мы, воображавшие, что нам известна вся ее жизнь, ежедневно видели выплывающие из облаков новые высоты ее души, о существовании которых мы до того времени и не подозревали. Но так уж мы все устроены: если мы что-нибудь знаем, то мы презираем тех людей, которым не случилось узнать того же. И мне стыдно было за этих придворных, которые облизывались, завидуя счастью Жанны; но ведь и они знали ее не лучше, чем сам король. Краска залила щеки Жанны при мысли, что она трудилась на пользу отечества якобы ради награды; и она опустила голову, стараясь скрыть лицо, как бывает со всеми девушками в минуту смущения. Никто не знает, почему это так, но чем более они краснеют, тем труднее им побороть свое замешательство и тем тягостнее для них взоры окружающих. Король значительно ухудшил дело тем, что обратил на Жанну всеобщее внимание, а ведь для вспыхнувшей от смущения девушки нет ничего мучительнее; этим можно довести девушку даже до слез, если она так же молода, как была молода Жанна, и если кругом стоит толпа незнакомых людей. Причина этого известна лишь Богу, от людей она скрыта. Я бы на ее месте, кажется, скорее чихнул, чем покраснел. Впрочем, рассуждения эти несущественны; буду продолжать, о чем начал. Король сказал какую-то шутку по поводу ее внезапного румянца, и тут уж лицо ее окончательно запылало. Он тогда раскаялся в своем поступке и, желая успокоить ее, сказал, что румянец ей очень к лицу и что ей нечего смущаться; конечно, после этих слов она зарделась еще пуще, и теперь даже собачонка могла заметить, как она покраснела; слезы брызнули у Жанны из глаз. Я заранее был уверен, что это случится. Король пришел в замешательство и, видя, что дело можно поправить лишь переменой разговора, повел изысканно-любезные речи о взятии Жанной Туреллей; и когда она несколько успокоилась, он снова упомянул о награде и настойчиво просил, чтобы она сама сделала выбор. Все прислушивались с напряженным любопытством, желая узнать, чего она потребует, но когда раздался ее ответ, то по их лицам было видно, что они не того ожидали.
– О дорогой и благородный дофин, у меня есть одно желание, только одно! Если бы…
– Не бойтесь, дитя мое, назовите, какое именно.
– Я желаю, чтоб вы не медлили больше ни единого дня. Моя армия велика и отважна и горячо стремится довести свое дело о конца. Идите со мною в Реймс и примите свой венец.
Видно было, как король съежился в своем мишурном наряде.
– В Реймс? О, это невозможно, мой полководец! Нам не пройти через средоточие английских сил.
Неужели то были лица французов? Ни одно из них не озарилось сочувствием смелым намерениям девушки; напротив, было видно, что отказ короля весьма одобрялся. Променять эту шелковую праздность на суровую обстановку войны? Ни один из ленивых щеголей не согласился бы на это. Они предлагали друг другу драгоценные бонбоньерки[57] и шепотом восхваляли житейскую мудрость главного празднолюбца. Жанна продолжала уговаривать короля:
– Ах, прошу вас, не пренебрегайте столь удобной минутой. Все благоприятствует нам – все решительно. Обстоятельства как будто нарочно сложились в нашу пользу. Победа воодушевила наши войска, тогда как англичане удручены неудачей. Настроение изменится, если затянуть дело. Видя, что мы не решаемся воспользоваться выгодой положения, наши солдаты начнут недоумевать, сомневаться и робеть, англичане тоже начнут недоумевать, но при этом приобретать уверенность и воспрянут духом. Теперь самая пора; умоляю, соберемся в путь!
Король покачал головою, а ла Тремуйль, будучи спрошен, не замедлил преподать совет:
– Государь, голос благоразумия должен предостеречь вас от этого. Вспомните об английских крепостях на Луаре; вспомните о тех укреплениях, которые лежат между нами и Реймсом!
Он хотел продолжать, но Жанна, повернувшись к нему, прервала его речь:
– Если мы промедлим, то англичане успеют оправиться и прислать новые войска на подмогу. Послужит ли это нам на пользу?
– Ну… нет.
– В таком случае что предложите вы? Как, по вашему мнению, надлежит нам действовать?
– Мой совет – ждать.
– Ждать – чего?
Министр пришел в замешательство, так как он не мог привести ни одного разумного довода. К тому же он не привык отвечать на такие вопросы в присутствии толпы людей. И он произнес с раздражением:
– Государственные дела не должны служить предметом всенародного обсуждения.
Жанна сказала невозмутимо:
– Прошу извинить меня. Я вторглась в эту область по неведению. Я ведь не знала, что дела, связанные с вашей правительственной должностью, являются делами государственными.
Министр поднял брови в знак комического удивления и сказал с оттенком сарказма:
– Я – главный министр короля, и, несмотря на это, вам показалось, что связанные с моей должностью дела не принадлежат к делам государственным? Объясните, пожалуйста, каким же образом?
Жанна ответила равнодушно:
– Ведь нет государства.
– Нет государства!
– Да, сударь: государства нет и нет обязанностей министра. От Франции осталось лишь несколько акров земли, и для присмотра за нею достаточно было бы одного полицейского сторожа; ее дела не являются делами государственными. Слишком громко сказано.
Король не покраснел, а разразился сердечным, беззаботным смехом; придворные тоже смеялись, но втихомолку, благоразумно отвернувшись в сторону. Ла Тремуйль был разгневан и только открыл рот, чтобы ответить, как король поднял руку и сказал:
– Довольно – я беру ее под свое королевское покровительство. Она высказала правду, неприукрашенную правду, которую мне так редко приходится слышать! Ведь среди всей этой мишуры я, в конце концов, не более как жалкий, обтрепанный управитель, надзирающий за клочком земли, а вы – мой сторож! – И он опять от души рассмеялся. – Жанна, мой прямодушный, честный полководец, скажите же, наконец, какой вы хотите награды? Я желал бы дать вам дворянство. На вашем гербовом щите будут французские лилии, и корона, и их защитник – ваш меч. Скажите, что вы согласны.
Шепот удивления и зависти пронесся по рядам присутствующих, но Жанна покачала головой и возразила:
– Ах, не могу, возлюбленный и благородный дофин. Иметь возможность трудиться ради Франции, жертвовать собою ради Франции – ведь это само по себе награда столь высокая, что к ней ничего нельзя прибавить. Лишь об одном смею просить я вас: даруйте мне самое дорогое, самое высокое, что в вашей власти, – идите со мною в Реймс и примите ваш венец. Я на коленях буду умолять вас.
Но король удержал ее за руку, и голос его зазвучал отвагой, и глаза его загорелись мужеством, когда он ответил:
– Не надо, сидите. Вы победили меня. Да исполнится ваше…
Однако предостерегающий знак министра остановил его, и он добавил, к удивлению всех придворных:
– Хорошо, хорошо, мы об этом подумаем; обсудим все, а там видно будет. Доволен ли мой нетерпеливый маленький воин?
Первая часть ответа озарила радостью лицо Жанны, но заключительные слова погасили эту радость. Жанна опечалилась, и слезы сверкнули на ее глазах. Помолчав немного, она проговорила, словно побуждаемая страхом:
– О, воспользуйтесь мною! Молю вас, воспользуйтесь мною… Времени осталось немного!
– Неужели мало времени?
– Только год… Я не протяну больше года…
– Что вы, дитя мое, ваших сил хватит еще на добрых пятьдесят лет.
– О, вы ошибаетесь. Через какой-нибудь год наступит конец. Ах, время летит так быстро, так быстро. Минуты бегут мимо, а сделать надо многое. Воспользуйтесь же мною как можно скорее: для Франции это – вопрос жизни и смерти.
Даже эти суетные насекомые поддались обаянию ее страстной мольбы. Король был задумчив; и видно было, что он сильно потрясен. Вдруг глаза его загорелись красноречивым огнем, он встал и, обнажив свой меч, поднял его кверху; затем он медленно опустил меч на плечо Жанны и сказал:
– Ах, ты так проста и правдива, так велика и благородна! Сим рыцарским обрядом я приобщаю тебя к французскому дворянству, как ты того заслужила! И в честь тебя я возвожу в дворянство всю твою семью, всех твоих родных, всех их законнорожденных потомков как по мужской, так и по женской линии. Больше того! Дабы отличить твой дом и почтить его выше всех, я дарую тебе преимущество, до сих пор беспримерное в летописях нашей страны: женщины, принадлежащие к твоей семье, получают право возводить в дворянство своих мужей, если те по своему происхождению будут ниже их.
Зависть и изумление изобразились на всех лицах, когда были произнесены эти слова, обещавшие столь необычайную милость. Король остановился и, посмотрев кругом, очевидно, остался доволен впечатлением.
– Встаньте, Жанна д'Арк, – заключил он, – отныне именуемая дю Лис (Лилейная), в благодарное воспоминание о том доблестном ударе, которым вы защитили французские лилии; и эти лилии вместе с королевским венцом и с вашим победоносным мечом да будут украшать ваш гербовый щит и да послужат вековечным символом вашего высокого благородства.
Госпожа дю Лис встала, и позолоченные наследники сословных преимуществ обступили ее, поздравляя с приобщением к их священной касте и повторяя ее новое имя; но она была смущена и говорила, что эти почести не соответствуют ее низкому происхождению и званию: она хотела бы, с их милостивого разрешения, оставаться просто Жанной д'Арк, и больше никем; пусть ее так и зовут.
Больше никем! Как будто могло быть имя более высокое, более знаменитое! Госпожа дю Лис – какое суетное, ничтожное, недолговечное имя! Но Жанна д'Арк! Один звук этого имени заставляет сердца биться сильнее.
Глава XXIV
Досадно было смотреть, как всполошился весь город, а там – и вся окрестная сторона, когда разнеслась великая весть: король даровал Жанне д'Арк дворянство! Народ очумел от изумления и радости. Вы не можете себе представить, как на Жанну таращили глаза, как ей завидовали. Можно было подумать, что в ее жизни действительно произошло какое-то великое и счастливое событие. Но мы в этом не видели ничего великого. Мы знали, что увеличить славу Жанны не во власти человека. Для нас она была солнце, парящее в небесах, а ее дворянство – не более как свеча, поставленная на его фоне; свеча растопилась и исчезла в собственных лучах светила. И она была так же равнодушна к своему дворянскому званию, как солнце – к свече.
Братья Жанны – другое дело. Они гордились и были счастливы своей новоиспеченной знатностью; это было вполне естественно. И Жанна тоже порадовалась, увидев, сколько удовольствия доставил им этот почет. Король умно придумал: победить ее скромность, воспользовавшись ее любовью к семье и родным.
Жан и Пьер тотчас начали щеголять своим гербом; теперь все – и знатный и простолюдин – искали их общества. Знаменосец говорил с оттенком горечи, что они, упоенные блаженством величия, стараются теперь жить как можно больше и готовы совсем не спать, потому что во сне они могли бы забыть о своем дворянстве и, значит, сон для них был бы чистой потерей времени. Затем он добавил:
– В военном строю и на государственных торжествах они не могут оспаривать место первенства; но когда дело коснется гражданских церемоний и общественных дел, то они, чего доброго, преспокойно займут место после дворянства и рыцарей, а нам с Ноэлем придется идти позади, а?
– Именно, – сказал я. – Мне кажется, ты прав.
– Я так и чувствовал, я этого боялся, – произнес знаменосец, вздохнув. – Боялся? Я говорю, как дурак: конечно, я знал, что это будет. Да, я говорил, как дурак.
Ноэль Рэнгесон заметил задумчиво:
– Действительно, у тебя это вышло так естественно. Мы рассмеялись.
– Ты находишь? Ты думаешь, что ты так уж умен? Послушай-ка, Ноэль Рэнгесон, я когда-нибудь, наконец, сверну тебе шею.
– Паладин, – сказал сьер де Мец, – опасения ваши еще слишком недостаточны: они многого не предвидят. Неужели вы не подумали, что во время гражданских и общественных церемоний братья Жанны будут идти впереди всех особ свиты, впереди всех нас?
– Полно, что вы говорите!
– Вот увидите. Взгляните на их герб. На первом месте – французские лилии. Ведь это символ королевского дома, милейший, королевского. Вникните в это хорошенько! Лилии дарованы им властью самого короля, вникаете? Не во всех подробностях, не всецело, но все же герб их в существенных чертах является гербом Франции. Вообразите себе! Вдумайтесь в это! Поймите, какое всеобъемлющее величие! Нам ли идти впереди этих мальчишек? Бог с вами – этому больше не бывать. Во всей стране, я думаю, нет ни одного светского пэра, который мог бы идти впереди них, кроме герцога д'Алансона, принца крови.
Паладина теперь можно было пригнуть к земле, как былинку. Он даже побледнел. С минуту он беззвучно шевелил губами и наконец произнес:
– Я не знал этого, не знал и половины того, что вы сказали. Как мог я знать? Я был болван. Вижу теперь – я был болван. Нынче утром я, встретившись с ними, окликнул их «го-ла!», как окликнул бы всякого другого. Я вовсе не желал быть неучтивым: я ведь не знал и половины того, что услышал от вас. Я был осел. Да, этим все сказано: я был осел.
Ноэль Рэнгесон проговорил как бы невзначай:
– Да, это похоже на правду; однако чего же ты удивляешься?
– А ты не удивлен? Ну-с, почему же это?
– Потому что я тут не вижу ничего нового. Есть люди, вечно пребывающие в этом состоянии. Рассматривая такое никогда не прекращающееся умственное состояние, мы будем получать одни и те же выводы, повторение которых становится однообразным; а однообразие, по закону своей сущности, утомительно. Вот если б ты, признавая себя ослом, чувствовал усталость, то это было бы логично и разумно. Но высказывать по этому поводу свое удивление, на мой взгляд, все равно, что снова превратиться в осла, ибо умственное состояние, под влиянием которого человек способен удивляться и суетиться из-за мертвящего однообразия, есть не что иное как…
– Будет с тебя, Ноэль Рэнгесон, остановись-ка, пока не попал в беду. И пожалуйста, оставь меня в покое на несколько дней или недель, потому что я не выношу твоей болтовни.
– Вот это мне нравится! Мне вовсе не хотелось ввязываться в разговор. Напротив, я старался быть в стороне. Если ты не желаешь слушать мою болтовню, то чего ради ты ко мне приставал, вовлекая меня в разговор?
– Я приставал к тебе? И не думал вовсе.
– А все-таки приставал. И я вправе считать себя обиженным; да, ты обидел меня своим поступком. Ведь если ты надоедал человеку, дразнил его и прилагал все усилия, чтобы заставить его говорить, то разве с твоей стороны справедливо и благопристойно будет называть его слова «болтовней»?
– Что гнусавишь? Будет тебе! Прикинулся несчастненьким! Дайте сахару этой хнычущей кукле. Послушайте, сьер Жан де Мец, вполне ли вы уверены в этом?
– В чем?
– Да в том, что Жан и Пьер займут среди светской знати первое место после герцога д'Алансона?
– Я думаю, что это не подлежит сомнению. Знаменосец несколько минут был глубоко задумчив и сосредоточен; наконец тяжелый вздох вырвался из его богатырской груди, заставив всколыхнуться шелково-бархатный жилет, и он проговорил:
– Боже, боже, на какую высоту они взлетели! Вот пример всемогущества счастья. Впрочем, мне все равно. Я не согласился бы быть вывеской случайной удачи. Я это не ставлю ни во что. Скорей я могу гордиться тем, что достиг теперешнего своего положения исключительно благодаря личным заслугам; подумаешь, какая честь – парить в зените, сидя на верхушке солнца, и сознавать, что ты лишь жалкий, ничтожный выскочка, заброшенный туда какой-то катапультой. По-моему, главное – личные заслуги; в этом вся суть. Все прочее – вздор.
Тут затрубили сбор, и разговор наш прервался.