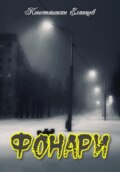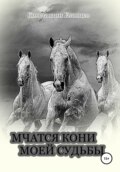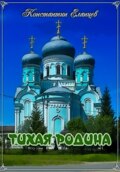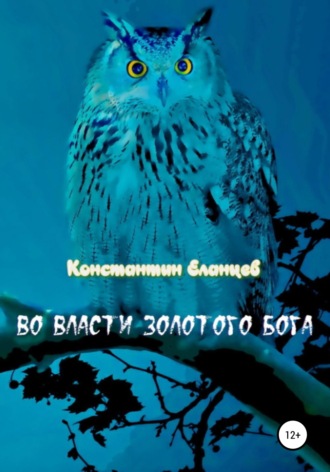
Константин Викторович Еланцев
Во власти Золотого Бога
– Нерентабельные угольные запасы?
– И не только это! Она и была создана Волошиным для разведки, а впоследствии и добычи именно золоторудных металлов. Представляешь охват? На государственные деньги под прикрытием госзаказа вести преступную деятельность! Сколько золота разбросано по частным скупщикам, не сосчитать!
– Волошин?
– Вот именно! Мы ж параллельно с твоим ещё одно расследование вели. Вышли на Волошина, на его связи. И с Сорокиным они знакомы уже очень давно. Сейчас прорабатывается его участие в бодайбинской схеме. Я думаю, он и там на первых ролях! Что ж, и такими бывают учёные….
– Он и есть шеф?
– Он. Помнишь, Волошин с тобой в Поныри прилетал? Мне кажется, именно тогда было задумана ликвидация прииска. Только что-то не срослось у них, не получилось экстренно. Ты помешал, думаю.
– Кособоко получилось….
– Ну-ну, не кори себя! Знаешь, а Уварова тоже увольняться собралась. Я с ней беседовал. Пустая бабёнка, скажу тебе!
– Да, тяжело ей придётся без ухажёров! Хотя, такие не пропадают, им без мужского внимания никак нельзя. Да, Коль, Зубова взяли? – спохватился Черкашин.
– А как же? Именно сейчас он и даёт показания против Волошина. Трус! Но трус жадный и расчетливый. Кстати, я ведь тебе главного не сказал, – Вельяминов принял торжественный вид, – Указом начальника управления тебе присвоено звание подполковника. И кроме этого, ты назначен моим заместителем! Ну, как?
– Хорошо! – Черкашин с благодарностью посмотрел на друга, – Но одно задание я всё-таки не выполнил….
На удивлённый взгляд Вельяминова добавил:
– Дялунча, божок тунгусский, о котором когда-то рассказывал старик Тыманча. Я о нём так ничего и не узнал….
– Э, друг, не спеши! У тебя впереди длительный отпуск, а у меня столько информации об этом божке, что непременно захочешь вернуться в Поныри! А я тебе помогу, идёт?
Вертолёт летел над тайгой, то падая в воздушные ямы, то снова взлетая вверх. Черкашин спал, и совершенно не догадывался, что в следующем посещении Понырей, он не застанет в бывшей фактории ни Уваровой, которая исчезнет среди тысяч метеостанций, разбросанных по Сибири, ни Двигуна, который не дождётся преобразования заготконторы в кооператив и двинет в свои бесконечные скитания по тайге. Не застанет и промысловиков Нефёдова со Старостиным: они вместе с семьями переберутся в более перспективные охотничьи хозяйства. С годами само название Поныри исчезнет со всех карт, оставив на берегу Нидукана только остовы полусгнивших домов, да одинокое кладбище с провалившимися, заросшими травой, могилами.
Сыверма, даль несусветная…. Тайга
Ленкин камень
…Я стою у берега Охотского моря. Море спокойно, и только плотная пелена утреннего тумана опустилась над ним. Где-то вдали кричат чайки, но их не видно за этой плотной стеной. Кольцом протянулась вдоль побережья суровая тайга. А за ней, в глубине материка, высится величественный Джугджур.
Далеко, за этим огромным хребтом, в небольшом посёлке охотников, расположена база нашей геологоразведочной партии, мимо которой несёт свои быстрые воды река Муя.
Я прислоняюсь к огромному валуну, где в ста метрах отсюда, много лет назад был наш геологический лагерь. Он бесподобен – этот камень. Нижней своей частью засыпанный песком, поднимающийся над берегом метра на три, он похож на человека, всматривающегося в горизонт.
Это Ленкин камень. Почему Ленкин? Была такая очень хорошая девушка, Лена Морозова, геолог поискового отряда…Она прилетела в лагерь июльским утром в числе нескольких сотрудников Московского научного института. И в тот день, и позже, стоило ей выйти из палатки, как лагерь озарялся каким-то невероятным светом. Да и люди становились веселее и добрее.
Когда же это было? Да, семнадцать лет назад.
Как-то она подошла ко мне. Был поздний вечер, и мы только что вернулись из многодневного маршрута. Я умывался водой горного ручья, раздевшись по пояс и стуча зубами от холода.
– Холодно?– с улыбкой спросила Ленка.
–Да! – согласился я, – Ты-то что в такой поздний час гуляешь?
Она не ответила, Увидев, что я закончил умываться, подала мне полотенце.
…Возвращались мы вместе. Уже были видны огни лагеря, а мы, завороженные какой-то магической силой, всё замедляли и замедляли шаг.
Да, с этого дня я полюбил её. Полюбил страстно, как не любил ещё никого на свете. И она отвечала мне такой же любовью.
До сих пор не могу понять, почему тогда она подошла ко мне. Много раз порывался спросить её об этом, но всё откладывал. А сейчас уже не узнать.
В свободные часы мы убегали с ней на море, к этому камню.
–Видишь – он, как человек! – говорила Ленка, – Наверное, ждёт кого-то!
–Что ты! – улыбался я, – Он не может ждать, потому что у него нет сердца!
–Есть! У всех на свете есть сердца, только сказать об этом они не умеют!
…Сейчас я бы согласился с ней. Похоже, что камень действительно ждал кого-то. Может, её, Ленку? Мне даже кажется, что он постанывает при слабых порывах ветра.
Ленка…. Какая любовь была у нас!
Мне трудно было без Ленки – я думал о ней всегда. Мы умели говорить обо всём, но не умели говорить о нашей любви. И даже в нашем молчании мы умели находить такие слова, какие ещё никто никому не говорил.
Что это было? Сказка? Мираж? И по истечении стольких лет я не перестаю думать об этом.
Где сейчас Ленка – моя первая и единственная любовь? Ничего не осталось в память о ней. Разве что только вот этот камень. Наверное, поэтому я возвращаюсь к нему каждый год.
Нет, Ленка не умерла. Просто по окончании полевого сезона она улетела в свою далёкую Москву, и больше её я не встречал. Но до сих пор во мне не затухает надежда, что Ленка вернётся, подойдёт к этому камню и тронет его своей маленькой ладошкой.
Что побудило её порвать всякую связь со мной? Может, моей любовью она попыталась скрасить своё пребывание в этой глуши? Неправда, я верю, что она любила меня. Тогда что? Кто знает....
Но что бы то ни было, она оставила яркий след в моей жизни. Как от упавшей звезды. Звезда упала, сгорела, а след её помнят....
Суд божий
Говорят, что нет на свете ничего тяжелей, чем груз на сердце. Казалось бы и не совершал ничего такого, а он, груз этот, всё давит, и нет способа избавиться от этой непомерной ноши. В таких ситуациях люди идут в церковь. А в этом случае всё было по-другому….
Август затихал, но до начала учебного года оставалось ещё несколько дней. Школа готовилась принимать своих питомцев, поэтому уборщицы с упоением натирали полы и до блеска начищали окна классов. Учителя собирались в кабинете завуча, готовя школьные программы и привыкая к расписаниям уроков.
В один из таких дней и пришло письмо из РОНО с просьбой прибыть всем преподавателям на районный педсовет. Хочешь, не хочешь, а ехать надо!
Хоть и не так далеко до райцентра, а целый день потратишь, пока вернёшься. Дороги плохие, недавно дожди прошли, так что часа четыре по лесу на автобусе потрястись придётся!
Молодой учитель музыки забежал домой.
– Зачем вызывают-то? – поинтересовалась жена.
– Как всегда, наверно, указания перед занятиями!
– А ваши-то где?
– Да на остановке уже. Бежать надо, скоро автобус подойдёт!
– Сапоги с ремонта забери, пожалуйста! Всё никак съездить не могу!
Улыбнувшись, учитель обнял своего трёхлетнего сынишку, прижал к своему плечу супругу:
– Заберу! – шепнул ей на ухо.
В РОНО пробыли недолго: кто-то получил грамоты, кого-то наградили подарками, районное начальство провело беседу по поводу предстоящего учебного года.
На автостанции вся делегация расстроилась: до рейсового автобуса ждать несколько часов! И тут кто-то предложил отправиться пешком. Мол, не ехать окружным путём, а срезать путь по воде, благо, Вятка – река судоходная и нет-нет, а какой-нибудь лодочник подрабатывал, перевозя нежданных пассажиров на другой берег. Женщины, конечно, отказались, а трое мужчин, в том числе и учитель музыки, решили воспользоваться этим решением.
Забрав в ателье сапоги жены, он с товарищами отправился на речной берег.
– Засветло доберёмся! – потирал руки один из коллег, – Надо только огонь разжечь! – посоветовал он ничего не понимающим мужчинам, – Ну, это знак такой перевозчикам!
Костёр уже догорал, но с того берега никого не было.
– Пойду, пройдусь, может, на этом берегу кого встречу! – сказал учитель музыки и скрылся в прибрежных кустах.
Дымок с того берега всё-таки заметили. Вместе с лодочником долго кричали и ждали товарища. Потом забросили в лодку его вещи, чтобы передать жене, и отплыли восвояси, надеясь, что он вернётся вместе с остальными на автобусе.
Учитель музыки не появился дома ни через день, ни через два, ни через три…. А через неделю с проплывающего по реке теплохода заметили всплывший труп. По ориентировке отправили телефонограмму в посёлок. При опознании в личности погибшего уже никто не сомневался.
Второго сентября вся школа хоронила любимого учителя. От горя слегла мать, а через некоторое время и жена, забрав ребёнка, навсегда уехала в неизвестном направлении.
Милиция, конечно, завела дело, но вскоре оно было закрыто, поскольку предъявить обвинение было некому. Так и осталось оно с пометкой «смерть по неосторожности».
А через много-много лет к сестре погибшего учителя пришёл старик. Он нерешительно переминался с ноги на ногу, прежде чем войти, а потом долго молчал, сидя на табурете.
– Хочу рассказать тебе всё. Только ты не перебивай меня, я сорок лет носил этот груз в своём сердце, терпел, ночами не спал!
Старик вздохнул.
– В тот день я, как всегда, дежурил на берегу. Сама знаешь, денег у нас в то время кот наплакал, вот и занимался иногда извозом. Кого на тот берег, кого на этот. Три рубля – это ж тоже деньги…. Сижу я, значит, жду и вижу – на другом берегу костёр замаячил: знать, ждут меня на том берегу! Пассажиров было трое, да и узнал я их – учителя из нашей школы.
Сели они в лодку, вещички свои закинули. А уже на середине реки заспорили двое о чём-то. Я не прислушивался, не вникал, поскольку не моё это дело. Сцепились они, а тот, что постарше, возьми да ударь другого, а потом ещё с силой за борт толкнул. Я хотел, было, остановиться, но старший как рявкнет:
– Доплывёт, молодой ещё!
– А я всё на воду поглядывал, не покажется ли…. На берегу двое меня стращать начали: мол, тебе хуже будет, о детях своих подумай! Ещё и денег немного дали…. Вобщем, договорились говорить одинаково. А это значит, что в лодке его не было. Пропал где-то на берегу, искали, кричали, но так и не нашли….
Старик вытер накатившиеся слёзы:
– Не знаю, простишь ли…. Вряд ли. Я столько лет в себе эту тяжесть ношу, уже и свидетелей-то живых, кроме меня, никого не осталось, а всё болит душа, не успокоится. Всё сужу себя столько лет, и засудить не могу…. Хошь, в милицию иди, хошь, сама меня накажи! А я, давеча, помирать надумал. Вот сходил к тебе сейчас, рассказал, и спокойнее стало. Стало быть, пора мне…. А то ведь покоя нет, всё твоего брата вижу….
Старик поднялся, поклонился изумлённой женщине и вышел за дверь.
Вот такой он – суд божий….
Сокол
Об этом коне лопатинцы вспоминают до сих пор. Много лет прошло, а в каком-нибудь разговоре нет-нет, да промелькнёт:
– А помнишь, вот Сокол…
Собеседник горестно вздохнёт:
– Помню….
Раньше в районе часто проводились конные соревнования. Со всех сёл свозили в Лопатино беговых лошадей. И это был настоящий праздник! Перед скачками толпы детишек собирались вокруг участников, чтобы посмотреть, как наездники лелеяли своих питомцев: чистили щётками, чесали короткоостриженные гривы и осматривали подковы на копытах, коротко цокая языками и недовольно посматривая на любопытных.
Ответственное дело – скачки! Это ведь не бега какие-то. Здесь всё от коня зависит, и только потом от наездника. Старались по-возможности защитить животину от посторонних глаз, чтоб, не дай бог, пакость какую не сотворили!
Вот и в этот раз бурлило и рокотало Лопатино от наехавших гостей. Ипподрома, как такового не было, а было просто огромное поле, специально отведённое под соревнования. За десяток лет набили конские копыта твёрдую дорожку, над которой во время скачек поднималась такая пыль, что не только зрителей, но и солнце было трудно разглядеть. Только к этому все привыкли и не обращали на неудобства никакого внимания.
– Лютый где?! – спросил лопатинский директор у растерянного конюха.
– Дык, Василь Иваныч, не будет его….
– Как это не будет?! – свирепо глянул тот на конюха Феоктистова.
– Никак не можно, Василь Иваныч, – пытался вставить слово ветеринар Лопахин, – ногу поранил на выгоне. Так уж получилось….
– Почему узнаю об этом только сейчас?! – директор вдруг выдохнул и безнадёжно махнул рукой, – То есть хотите сказать, что мы участвовать не будем?
– Некому, получается,– мотнул головой Феоктистов.
– А это кто? – заметил Василий Иванович приближающуюся повозку, на которой сидел паренёк лет шестнадцати.
– Так это Сокол. Он тут у нас по хозяйственной части: то сено, то навоз, а в основном молоко по фермам. Вы у нас человек новый, можете и не знать! – ветеринар поддержал конюха, – Кроме Лютого скаковых лошадей нет.
Но совхозный директор уже воспрянул духом:
– А это что, не конь? – показал он пальцем на Сокола.
– Так он не….
Василий Иванович уже не слушал никого.
– Сможешь, парень? – бросился он к седоку, как только телега остановилась рядом, – Зовут как?
– Сокол.
– Да не коня, а тебя! – засуетился директор.
– Федька.
Зрители топтались в ожидании на кромке поля. Нещадно палило солнце. Неспешные разговоры сливались со стрекотом кузнечиков, но в воздухе витало самое главное – состояние праздника! Ради этого уже который год в последнее июньское воскресенье люди откладывали все свои дела и ехали сюда, в Лопатино, чтобы ещё раз увидеть одно из самых зрелищных состязаний – лошадиные скачки. В каждом селе местные наездники считались почти героями, и всякий считал за честь иметь в друзьях или знакомых такого человека.
– Скачут! – крикнул кто-то, и сразу смолкли разговоры, сотни глаз устремились туда, откуда в единый гул сливались топот копыт и крики верховых. Пыль стеной приближалась от горизонта. И вот прямо из неё вперёд вырвалась сначала конская голова, потом половина туловища.
– Лешак чешет! – довольно произнёс конопатый мужик, – Из нашенских… – потом он вдруг напрягся и удивлённо посмотрел на окружающих.
Впереди летел гнедой конь. Наездник, молоденький, с взъерошенными пыльными волосами, прижимался к телу скакуна и лишь изредка оглядывался назад. Это было единое целое – конь и человек! Никому из зрителей ещё не доводилось видеть что-нибудь подобное.
Вот, наконец, гнедой вырвался из пыльного облака и летел уже впереди него. Вот он на два крупа впереди, вот на три! А конь, словно почувствовал свободу. В расширенных иссиня-чёрных глазах метались молнии. Застоявшиеся лошадиные мышцы выдавали такую мощь, что, казалось, это была не скачка, это был полёт, на который способен один из тысячи, один из сотен тысяч, скакунов.
– О-па! – завопил кто-то от удивления.
И понёсся над нестройными рядами свист. Теперь свистели все, подбадривая лидера, топали ногами и хлопали друг друга по плечам. И не было уже «ваших» и «наших», а был всеобщий любимец – гнедой жеребец с сероватой звёздочкой на лбу.
– Такого коня и под навоз! – кричал лопатинский директор на конюха и ветеринара. Те виновато опускали глаза и молчали.
– Уж, я вас! – негодовал Василий Иванович.
И на следующий год Соколу не было равных. Теперь за ним был особый уход. Федьку Евграфова прикрепили к скакуну, и он подолгу пропадал в конюшне. Слава Сокола вышла за пределы района и прошла по области. Многие задавали вопрос: как такой феномен не был замечен раньше?
К очередным скачкам готовились все. Зрители так же толпились на поле, и мужики, отмахиваясь от назойливых насекомых, делали ставки, по местным меркам вполне достойные. Все ждали очередного чуда, и когда вдали возникло пыльное облако, все смотрели только туда, переминаясь с ноги на ногу и нервно сжимая кулаки.
Вот показалось несколько скакунов. Они мчались во весь опор, только… среди них не было Сокола.
– А где? – спросил, было, кто-то, и полетел этот вопрос по нестройным рядам. Зрители удивлённо посматривали друг на друга и снова устремляли свой взгляд на поле. Мимо проносились всадники, мелькали крупы вороных, серых, рыжих…. Вот только Сокола не было видно.
– Что-то не того, Василь Иваныч, – сказал ветеринар директору перед скачками.
– То есть? – директор напрягся.
– Да Вы сами посмотрите, – Лопахин указал головой на Сокола, возле которого суетился Федька. Конь стоял неуверенно, пытался удержать равновесие, вот только почему-то предательски подгибались ноги.
– Что-о-о?! – в ужасе вскрикнул Василий Иванович.
Сокол вдруг замер, а потом медленно опустился на землю.
– Соколёнок, ты что это! – бегал вокруг него Федька, пытаясь поднять своего друга, – Ты что, родной!
Конь завалился на бок, глянул на Федьку своими огромными чёрными глазами. Последняя слеза прокатилась по лошадиной морде и упала в иссохшую землю. И, может, послышалось Соколу, как где-то гремят на дорожке конские копыта, потому что вдруг напряглись соскучившиеся по бегу мышцы. Он попытался поднять голову, а потом замер, умиротворенно закрыв глаза.
– Отравили, сволочи, травой отравили!!!
Об этом коне вспоминают до сих пор.
– А вот был Сокол, – нет-нет, да промелькнёт где-нибудь в разговоре среди лопатинцев.
Продотряд
Небывалой жарой прошлось по измученной земле уходящее лето. Склонившиеся пустые колосья пугающим шелестом навевали тоску на жёлтых полях, а вместе с тоской приходил страх, и слышались в этом шелесте всхлипывания умирающих от голода ребятишек, да протяжный вой обессиленных баб. Помощи ждать было не откуда, потому как выкосила война с германцами, а потом и безумная гражданская война, половину деревенских мужиков. Кто-то, побросав в окопах винтовки, а то и с ними, по пути домой примкнули к большевикам, кто-то с оказией добрался до дома. Вернувшись, яростно взялись за восстановление своих обветшалых без мужских рук хат, на коровах да быках пахали заросшие сорняками поля. А потом помогали вдовам своих односельчан, зная, что не справятся женские руки с непослушной сохой, не осилят слабые плечи мешка с зерном, который собирали по всей деревне. По горсточке, по крохам….
В стране грохотала гражданская война. Белые войска были отброшены на юг, но спокойствия в центральной России так и не было. Карательные отряды красногвардейцев то и дело сообщали о ликвидации банд, состоявших из бывших фронтовиков, крестьян, а иногда и белых офицеров, но банды после ликвидации появлялись вновь.
Тяжело жила Россия в этот трудный период: со стоном, с болью, с неизвестностью….
Сёмка Павлов не знал деревенской жизни. Бывал несколько раз в соседней с городом Алексеевке: там жил его дядька по отцу Игнат Павлов. Он, жена его Мария, и трое детишек мал мала меньше. Стало быть, двоюродные братья да сестрёнка двух лет от роду. Игнат вернулся с войны на одной ноге. Злой на весь свет, честил нецензурной бранью и батюшку-царя, и большевиков, и белую армию вкупе с ними. А потом успокоился. Выстругал себе деревянную ногу, приладил к колену. Так и стал жить на свете – полухромой, полуздоровый!
А Сёмке уже с весны семнадцатый год пошёл. Завод, на котором работал и погиб его отец, дышал на ладан, потому что при отсутствии сырья, один за другим останавливались цеха. Заводская гимназия закрылась ещё в прошлом году. Преподаватели дружно отправились на фронт, а свободные гимназисты бегали по пустующим коридорам и скандировали красивые лозунги, что-то вроде «вся власть Советам» и прочее, и прочее….
Мать Сёмкина второй месяц не вставала с кровати. Сёмка знал, что она умирает, поэтому старался реже досаждать ей своими разговорами. Варил жидкую кашу из пайка, что выдавали изредка на заводе, кормил из ложечки, переворачивал со спины на бок. А потом незаметно уходил на улицу. Как-то случайно сошёлся с Сидором Милютиным, заводским молотобойцем. Тот помнил его отца, на этой почве и завязался первый разговор.
А недавно Милютин окликнул Сёмку возле заводских ворот:
– Сёмка, подь сюда!
И добавил подошедшему парнишке:
– У нас тут продотряд создаётся, чуешь какое дело?!
– Не, не чую…. – Сёмка развёл руками.
– А это, брат, великое дело! Хлеб изымать будем у буржуазных элементов, которые Советскую власть до сих пор не приняли! Ненавидят они нас, большевиков, вот и прячут своё добро в погребах тайных. Пусть лучше сгниёт зерно от сырости, пусть мыши по своим норам растащат, а не дадим голодающему рабочему классу выстоять в суровую годину! Так они думают, так они и поступают!
– А разве там есть богатые? – удивился было Сёмка.
– Где?
– В деревне.
Милютин не дал договорить:
– Конечно, есть, паря! Поля-то ведь сеются, а, значит, и урожай есть, понимаешь?! А много ты хлеба ел в своей жизни?
– Да нет… – пожал плечами Сёмка, – Только вот у меня родственники в деревне, так они тоже больше воду пьют, чем хлеб едят!
– Вот и получается, что только Советская власть сможет накормить всех голодных, чуешь?
– Ну, да… – вынужден был согласиться Сёмка.
– Что это мы стоим? – спохватился Милютин.
Они сели на лавочку возле забора. Сидор долго и с упоением рассказывал Сёмке о красивой жизни, которая обязательно наступит, как только мозолистая большевистская рука уничтожит всех извергов и супостатов нашей необъятной родины! Какое будущее ожидает грядущие поколения, потому что не будет несправедливости и рабства, не будет богатых, которые только и ждут своего кровавого часа, чтобы вонзить ядовитый нож в спину молодой Советской власти!
– Чуешь?! – глядя в Сёмкины глаза, спрашивал Сидор.
– Кажется, чую… – неуверенно мотал головой тот.
– Пухнут детишки от голода в городах, Сёма, гибнут! Сам видишь – не работают пока заводы и фабрики, а людям всё-равно жить надо! Я тебя в наш продотряд порекомендовал. Хоть и не комсомолец ты пока, но будешь, обязательно будешь, потому что отец твой самый что ни на есть трудящийся человек был, и голову свою сложил в трудовом бою! А у тебя теперь свой бой будет, смертельный бой с врагами Советской власти!
– Мать у меня… – начал Сёмка, но Милютин прервал:
– За мать не беспокойся, Анне своей накажу, чтобы приглядела. Не бросит в беде, я её знаю!
Так и попал Сёмка Павлов в продотряд, отправленный в губернские глубинки для экспроприации излишков хлеба и других сельхозпродуктов на нужды голодающему рабочему классу. Три дня подготовки верховой езде на отбитых у белогвардейцев конях, два дня на обращение с винтовкой и стрельбу, день на политинформацию…. Пять телег, да пятнадцать конных продотрядовцев составляли костяк этой по-настоящему боевой единицы.
Мотала судьба Сёмку по выжженным зноем полям, по неприветливым сёлам, в которых, завидев продотряд, закрывались калитки и ставни, а потом долго смотрели вслед скрипучим телегам заплаканные женские глаза. И полные ненависти взгляды бородатых мужиков обещали беспощадную месть всем, обрёкших крестьянские семьи на голодную смерть.
Спасали одних, чтобы погубить других…. О, Россия!
Не мог привыкнуть Сёмка к безудержным порывам Милютина! Не принимала душа его бессердечия и жестокости! В одной деревне он без колебания застрелил молодого парня, когда тот хотел накрыть собой заброшенный на телегу мешок с просом, в другой отхлестал нагайкой щуплого старика, который с проклятиями попытался остановить входящих в хату продотрядовцев. Сёмке всё время казалось, что это другая жизнь бурлит в его жилах, что какой-то другой человек сидит на крупе гнедого, и совершенно чужие уши слышат детский плач да причитания перепуганных баб.
И только в Алексеевке он пришёл в себя. Только тогда, когда дядька его Игнат, завидев племянника, отвернул в сторону голову, когда соскочивший с коня Милютин, ударом в плечо легко отбросил в сторону хромого мужика и шагнул в дверь хаты.
– Дядя! – крикнул Сёмка, но Игнат, поднимаясь с земли, показал племяннику кулак:
– Иуда ты, племянничек, изверг! Братьев и сестру свою на смерть обрекаешь. Как жить-то будешь потом, а?! Проклинаю….
– А ты не спеши проклинать! – выкрикнул, появившийся на дворе Милютин, – Не спеши!
Он оглядел покосившийся сарай, поставленный ещё до войны, прошёл за хату и глянул на мёртвое поле, погубленное невыносимым зноем.
Бойцы разбрелись по соседним дворам, пытаясь найти хоть что-нибудь. Где-то закудахтала чудом сохранившаяся курица, потом ещё одна.
– Зерно где? – спокойно спросил Милютин у Игната.
– В земле.
– В земле – это хорошо! И много?
– Было в земле, сам видишь! А теперя нету!
В одном из дворов взметнулся к небу молодой девичий вскрик, послышался звук затвора, но выстрела так и не последовало.
Милютин хотел было повернуться назад, к Сёмке, но не успел. То ли раскалённый воздух принял на себя тяжёлый выдох выпущенной пули, то ли секунда от жизни до смерти пролетела так стремительно, что не понял Сидор, с чего это вдруг он падает лицом в раскалённую пыль. Он так и остался лежать с открытым от удивления ртом, а на застиранной выцветшей гимнастёрке расплывалось громадное кровавое пятно.
– Дядька, бежать надо! – спокойным голосом сказал Сёмка, опуская винтовку.
– Ты что это, Сёма… – глядя на лежащего Милютина, прошептал Игнат, – Ты что.…
А Сёмка оглянулся и снова выстрелил. На этот раз в мужика, продотрядовца, который подбежав, рвался перепрыгнуть через плетень.
– Воронов… – не глядя на Игната, уточнил Сёмка, – Такая же гнида!
Он кивнул на убитого Сидора, а потом добавил:
– Собирай своих, дядька!
Через несколько дней в Губкоме сообщили, что продотряд Милютина бесследно исчез вместе с обозом в одном из уездов. Поговаривали, что в недавно появившейся банде Молодого, видели нескольких продотрядовцев, но подтвердить это было некому. Потом банда исчезла, и ходили слухи, что с боями пробившись через красные кордоны, она влилась в большую армию Антонова в Тамбовской губернии, которая вела яростные бои с Советской властью.