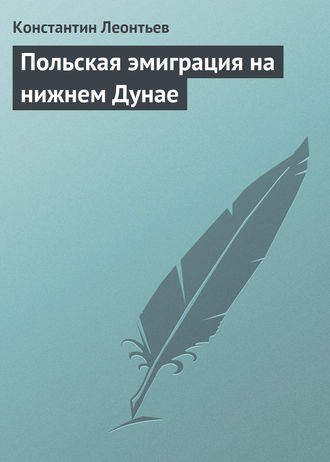
Константин Николаевич Леонтьев
Польская эмиграция на нижнем Дунае
Воронич был, судя по рассказам и по всем признакам, враг закоснелый, непримиримый, кровный, даровитый, давний и влиятельный.
Мне все сдается, что он организовал банду Мильковского. К тому же он в 1867 году был врагом уже побежденным, разочарованным, бессильным. Бессильным не в смысле болезненности своей, а в том смысле, что все замыслы нижнедунайской эмиграции, среди которой он, конечно, играл немаловажную роль, уже к тому времени разбились в прах о нашу бдительность и энергию. Все это я взял в расчет и заехал к нему посмотреть. Он занимал очень маленькую и бедную комнату на дворе французского консульства. Меня провели к нему.
На старом диване, в широком и длинном пальто, сидел, согнувшись, человек пожилой, седой, худой, серовато-бледный; усы у него по-старинному были сбриты. Это был почти труп, но труп крайне выразительный… Дрожа, он силился привстать и протянул мне бледную, холодную руку. Серые большие глаза его сверкали… Чем?.. Досадою и гневом, что я, москаль, русский чиновник, проник в его печальное предсмертное убежище, или, напротив того, самолюбивым удовольствием, что вот, – его, заживо погребенного в этом углу, посетил русский консул, – не могу решить; думаю, впрочем, что они, эти глаза, блистали скорее от злобы, чем от тщеславия. Воронич, мне кажется, был слишком умен, чтобы не подозревать, что я приехал только из «праздного», как говорится, любопытства, и слишком крупный человек, чтобы мелочно обрадоваться такому странному, необъяснимому и подозрительному визиту, каков был мой. Я пробыл у него с полчаса: мы оба держали себя просто и разговаривали свободно, как все… он был вежлив, я придавал своему обращению легкий оттенок почтительности во внимание к его сединам и недугу… Говорили мы о болезни его, о тульчинском климате и даже немного, в самых общих и осторожных фразах, о высшей политике, о критском восстании, которое тогда было в самом разгаре.
Мне понравился этот враг, этот человек, еще не умерший духом в полумертвом теле, я пожал ему руку; мы простились, и никогда с тех пор я уже не видал его.
Несчастный человек!.. Кончать жизнь в таком мрачном одиночестве, на чужбине, в жалком углу, на французских хлебах! Из-за чего же? Из-за идеи ложной, из-за мечтания гибельного прежде всего для той самой польской нации, которую подобные люди хотят воскресить!..
III
Я говорил, что ко времени моего приезда в Тульчу в этом городке из польских эмигрантов, более выгодно поставленных в обществе, осталось только двое: мрачный Воронич и другой, которого я задумался сразу назвать, потому что не знаю наверное – жив ли он, или умер. Кажется, умер… Фамилия его была Жуковский.
Он был полнейшим контрастом Вороничу. Воронич был трагедиею тульчинской эмиграции; Жуковский – ее идиллиею, эклогою. Оба были стары, но Воронич был болен и разбит вдребезги жизнью, а Жуковский был женат, здоров, плечист и весел. Лицо у него было крупное, старчески-свежее и патриархально-красивое; борода большая, белая, густая. Выражение лица исполнено самой приятной и ласковой хитрости. Он тоже, как и Воронич, официально служил Франции: был агентом французского пароходства «Messageries Imperialles»; но ничуть и нас, русских, не чуждался; был знаком и дружен со многими староверами, в консульстве нашем был принят запросто и не прочь был при случае даже оказывать русским всякие услуги. Женат он был на пожилой вдове, очень почтенного вида, весьма бодрой, разговорчивой и гостеприимной. Она была, кажется, даже и не полячка, а православная хохлушка, и мне помнится, словно как у нее воспитывался в Одессе сын от первого мужа.
В доме у этих седых, крепких и, видимо, между собою дружных и согласных супругов было чисто, сыто и приветливо… Цветы на окнах, сторки расписные, сквозь которые светило дунайское солнышко на скромную и опрятную мебель…
Бойкая старуха рассказывала о своем недавнем путешествии в Одессу к любимому сыну, с опасностью жизни, ночью, по страшным зимним волнам Черного моря… Как эти волны заливали палубу «Тавриды», как было страшно, и какой молодец капитан Сухомлин. Сам Жуковский говорил с чувством о покойном великом князе Константине Павловиче, при котором он в конце 20-х годов служил офицером, и хотя, по собственному уверению, был из числа наиболее преданных Его Высочеству поляков, но по отбытии великого князя, конечно, увлекся общим движением восстания 1831 года и принужден был потом бежать за границу.







