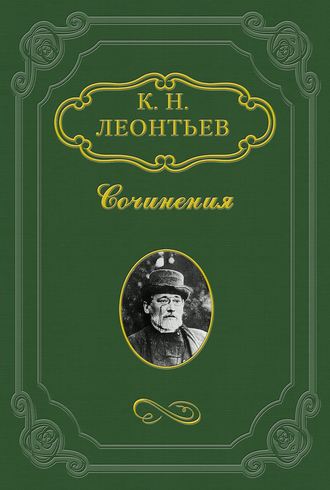
Константин Николаевич Леонтьев
Кто правее?
Но, впрочем, что я делаю? Что я говорю?!
Быть может, и это все напрасно!
Быть может, и так и этак я опять не понял г-на Астафьева?
И философски не постиг, и политически не угадал.
Почувствовав себя на мгновение снова на знакомой и твердой почве восточной и славянской политики нашей, я ободрился и забыл свою робость перед мраком углублений г-на Астафьева…
Но из углублений этих продолжает зиять на меня все тот же загадочный мрак, – и я еще раз с боязнью спрашиваю себя: не скрыто ли в самом деле там, за сплетением его слов, какое-то такое «начало», которого сила сокрушит в прах все мои давние убеждения?
Все это тем более жутко, что г-н Астафьев и сам подозревает меня в затаенном на него гневе за то, что он самой основной мыслью своей брошюры «Национальность и общечеловеческие задачи» «пробивает в моих взглядах некоторую брешь» (это его слова из № 177 «Московских ведомостей»).
Ничего не понимаю. И чем менее понимаю – тем более опасаюсь чего-то… Быть может, только призрака.
Если есть для «моих взглядов» действительная опасность во взглядах г-на Астафьева, то прошу Вас, Владимир Сергеевич, как беспристрастного человека, – откройте мне глаза, в чем состоит эта опасность?
А если все это только призрак, – то потрудитесь рассеять его поскорее ярким светом Вашего ума и таланта.
Я подчинюсь, в случае необходимости даже и скрепя сердце, Вашему решению.
Ибо, с одной стороны, между Вашим «психическим строем» и таковым же строем г-на Астафьева очень много разницы; а с другой – вы оба настолько сильнее меня в метафизике, что было бы смешно с моей стороны не признать истиной то, в чем вы оба по отношению ко мне, паче чаяния, совпадете.
Письмо 8
Теперь о самом главном: о моем «византизме» и о том, что «основная мысль» г-на Астафьева в его брошюре «Национальность и общечеловеческие задачи» «пробивает некоторую брешь в моих взглядах».
Сначала о византизме.
Слово это сослужило мне плохую службу в русской литературе; на него нападали почти все, даже и весьма благоприятно обо мне писавшие.
Иные осуждали самую мысль, соединенную с выражением «византизм», формулируя при этом свою собственную мысль; другие указывали только с отвращением на самое слово, не давая себе труда выразить ясно – чего они сами хотят.
И. С. Аксаков, например, в одной из передовых статей «Руси» сказал мимоходом{27} <…>.
Гиляров-Платонов был в этом случае гораздо откровеннее или внимательнее его. Разбирая в «Современных известиях»{28} мой сборник, он сказал, что «для России, конечно, нужно Православие, но не византизм, а надо бы «вернуться ко временам до Константина!»{29}.
Некто Твердко Балканский, западный славянин, писал тоже в «Современных известиях»{30} не столько против меня вообще, сколько против этого же моего «византизма». Мою книгу во всецелости он удостоил похвалы, но про «византизм» он сказал, что та же религия на русской почве должна дать и дала другие плоды, чем в Византии. (Он почему-то не заметил, что и я то же самое говорю в разных местах моего сборника; например, в статье «Русские, греки и югославяне».)
В «Русской мысли» тоже была однажды довольно сочувственная заметка о той же моей книге; но и в ней было сказано, не помню, что-то против «византизма», без всякого объяснения{31}.
И г-н Астафьев – точно так же, как и все упомянутые критики, – придает, по-видимому, этому названию какое-то такое особое значение, которого я сам вовсе и не придаю ему.
Только один из когда-либо писавших обо мне серьезных критиков отнесся к этому слову моему просто и прямо, именно так, как я сам относился к нему. Замечательно то, что этим прямым и простым отношением к делу утешил меня именно такой критик, который ни до этого, ни после того никогда о моих статьях и книгах не упоминал. Я говорю про Н. Н. Страхова.
Статья моя «Византизм и славянство» в первый раз была напечатана покойным Ос<ипом> Макс<имовичем> Бодянским в его «Чтениях в Имп<ераторском> обществе истории и древн<остей> российских», и, по обычаю этого специального издания, я получил в дар 300 экземпляров отдельных брошюр. По поводу этой-то брошюры г-н Страхов и написал в тогдашней петербургской консервативной газете «Русский мир» статью, которая и до сих пор служит мне нередко отрадой и опорой – среди недоброжелательства одних, равнодушия других и непонимания большинства.
Вот что говорит г-н Страхов{32} <…>.
Я выписываю все это из дорогой для меня статьи г-на Страхова… Выписываю… и дивлюсь!.. Зачем я это делаю? Для кого? Ведь и Вы, и г-н Астафьев – оба хорошо знакомы с моим трудом «Византизм и славянство». Я понимаю, впрочем, что чувства Ваши, при чтении этого труда моего, должны быть совершенно противоположны чувствам г-на Астафьева. Я понимаю, что Вам, Владимир Сергеевич, успех моей этой теории, ее популяризация не могли бы быть приятны; ибо русский «византизм» в религии есть не что иное, как то самое Восточное Православие, которое Вы в книге Вашей «La Russie et l'Eglise Universelle» называете <…>{33} и которого упорство может служить самой главной помехой воссоединению Церквей. Единственно похвальное в моей теории перед судом Вашим может быть только то, что я религиозное дело ставлю выше национального; но и тут одобрение Ваше должно, по духу сочинений Ваших, произноситься с большими, я думаю, оговорками?
Я понимаю также, что мысль, заключенная в моем выражении «византизм», не может нравиться славянофилам и патриотам того рода, для которых всем известное, обыкновенное, древнее (святоотеческое) Православие есть лишь нечто вроде приготовительной формы, долженствующей разрешиться просто-напросто в царство всеобщей любви и практической морали. Таково, по всем признакам, было мнение любвеобильного и лично почтенного разрушителя нашего, покойного Серг<ея> А<лександровича> Юрьева; и понятно, что в журнале, им основанном (в «Русской мысли»), даже и благоприятный мне библиограф счел нужным оговориться слегка насчет «византизма», не вдаваясь в щекотливые толкования. Сотрудники этого рода более или менее осторожных органов выучились давно писать между строчек.
Отчуждение Гилярова-Платонова от этого выражения менее понятно; ибо он против догмата никогда, кажется, ничего не писал, даже и намеками; обрядовую же сторону Православия видимо ценил. По каким побуждениям – не знаю наверное; по национальным ли только и эстетическим; или и по настоящим религиозным (т. е. по богобоязненности); думаю, что только по двум первым, а не по чисто религиозным; ибо очень немногие из этих людей <18>40-х годов умели стать твердой ногой – на лично религиозную почву. О «страхе Божием», например, ни один из них, даже и защищая веру, не позволял себе и заикнуться; а все только «истина» да «любовь» – вещи столь ненадежные и подозрительные в своей туманности.
У Гилярова-Платонова это враждебное отношение к слову «византизм» объясняется прежде всего складом его ума; тем, что он был мыслитель, вечно запутанный в тончайшей ткани своих собственных идей, и руководящую нить в разнообразном сплетеньи этих идей найти было у него очень трудно. То вдруг ему, вчера еще совсем восточно-православному человеку, чем-то помешают все четыре восточных патриарха, и он говорит, что эти престолы имели значение только при турках, и находит, что их надо уничтожить в случае падения Турции. Тогда как ему, человеку весьма ученому, было, разумеется, известно, что еще очень задолго до турецкого завоевания развитие церковной жизни потребовало созидания этих престолов. То он требует, чтобы духовное начальство наше разрешило священникам полную свободу личной проповеди, воображая, вероятно, при этом, что у многих священников найдется запас каких-то неслыханных идей и сил на службу Церкви; тогда как никакая Церковь, ни восточная, ни западная, ни армяно-грегорианская, допустить в собственных недрах своих подобной свободы не имеет даже права. Да и сверх того, вообще надо сознаться, что свобода сама по себе еще никакого содержания не дает.
Сегодня, бывало, он печатает в «Современных известиях» такую статью или заметку, где видно большое уважение к монашеству; а завтра он получает по почте самое что ни есть безграмотное письмо от неизвестного ему мещанина с жалобами и пустыми доносами на один весьма почтенный монастырь и, на основании подобного письма, позволяет своему фельетонисту-протестанту (из жидов, кажется) печатать самую грубую статью, в которой тот совершенно хамским слогом издевается над игуменом и представляет его «в лицах», тогда как ни сам Гиляров, ни фельетонист никогда этого игумена не видали{34}. И тому подобное…
И в заключение – эта мысль: русское Православие должно удаляться от византизма (который восхваляет, мол, Леонтьев) и «возвратиться ко временам до Константина».
В сущности, эта последняя идея очень близка к той мысли, которую (в <18>79, кажется, году) высказал С. А. Юрьев в своей программе издания «Русская мысль»: «Православие должно привести к тому, чтобы стала нам дорога каждая душа человека».
Это ведь и есть наиболее цензурная форма для выражения того, на что я указал выше: «Настоящее Православие не истина мистическая сама по себе, а только школа, приготовляющая человечество ко всеобщему миру, ко всеобщей любви, морали и благоденствию на этой земле». Или, по выражению, которое приписывают Льву Толстому: «Церковь есть детское место, которое нужно зарыть в землю, когда ребенок (любовь) уже родился».
Ведь этого выражения – «каждая душа» – у таких писателей и деятелей, как Юрьев, и понять нельзя. Ибо «каждой душой», в смысле ее загробного спасения, в смысле ее обращения, дорожит прежде всего всякая догматическая христианская Церковь – римская, греческая, российская, армяно-грегорианская, англиканская и т. д.
Мы знаем, как и что в <18>70-х годах печатал С. А. Юрьев в своей «Беседе», и знаем приблизительно, за что она была запрещена. Там у же очень резко и дерзко говорилось против того Православия, которое нам всем известно и которое целые века недаром же называлось греко-российским (византийским).
Вот если бы г-н Астафьев был бы Вам, Владимир Сергеевич, единомышленником или принадлежал бы явно к одному из этих либерально-славянофильских оттенков; если бы в сочинениях своих он высказывал (хотя бы мимоходом) взгляды, подобные вышеприведенным взглядам – Гилярова, Юрьева или взглядам недавно появившейся еженедельной газеты «Благовест», то его отвращение к моему слову «византизм» можно бы понять легко.
Но г-н Астафьев никогда даже и мимоходом в своих статьях и публичных лекциях этой разницы не касался, и по некоторым признакам можно скорее предполагать, что он с этой стороны гораздо ближе к Каткову, чем к представителям того учения, которое целым рядом тонких оттенков постепенно переходит от догматического православного мистицизма Хомякова до любвеобильного и розового юрьевского нигилизма.
Катков, видимо, держался того Православия, которое можно для ясности и краткости назвать филаретовским, в противоположность несколько смягченному и все-таки видоизмененному «хомяковскому» Православию.
А это несколько суровое, положим, но всем известное и доступное, реальное «филаретовское» Православие – есть Православие Димитрия Ростовского, Митрофания Воронежского, Сергия Радонежского, Антония и Феодосия Печерских, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Николая Мирликийского и т. д…
Греко-российское Православие. То есть мой византизм в России, взятый с одной только религиозной его стороны.
Этим византийским Православием довольствовался великий практик Катков; этому византийскому Православию выучили и меня верить и служить знаменитые афонские духовники, ныне покойные, Иероним и Макарий.
Этому же византийскому Православию служат и теперь такие церковные ораторы, как Никанор Одесский и Амвросий Харьковский.
Этого Православия (а не хомяковского), видимо, держатся все более известные представители современного нам русского монашества и русской иерархии. Ибо иначе – они о Хомякове бы часто говорили и опирались бы на него.
Повторяю, что г-н Астафьев ни специально, ни даже мимоходом никогда об этом предмете, собственно, не писал; но раз он говорит с таким почтением и сочувствием о «Православии», о религиозном духе русского народа, об «искании святых», о «спасении души» и т. д., – то желательно бы знать, какой же из двух оттенков Православия он предпочитает: более суровый и более ясный оттенок «Московских ведомостей» или более мягкий и более туманный оттенок «Благовеста», «Руси» и «Современных известий»? Если он чувствует себя с этой стороны ближе к Филарету и Каткову, чем к Хомякову и Аксакову (не говорю уже о бреднях Юрьева), то не резон ему так отвращаться от слова «византизм». Филаретовское и катковское Православие – есть Православие византийское, греко-российское Православие.
Это греко-российское Православие могло принять у нас в житейской практике иные нравственные свойства, отчасти под влияниями «времен», отчасти благодаря национальному темпераменту русских; оно внесло в художественную сторону церковной жизни другие эстетические требования (иное пение, некоторое изменение в обрядах и одеждах; другого стиля постройки и т. д.); в соприкосновении своем с иными, чем в Византии, условиями политической жизни – это «старое» Православие изменилось со стороны административно-канонической{35}, но сущность – не только догматического, но и нравственного учения осталась той же самой, какая была у византийцев.
Лично хорошим, благочестивым и добродетельным христианином, конечно, можно быть и при филаретовском, и при хомяковском оттенке в Православии; и были, и есть таковые.
А вот уже святым несколько вернее можно стать на старой почве, филаретовской, чем на новой, славянофильской почве. И это уже потому несомненно, что истинно свят лишь тот, кого признает таковым высшее духовенство, а не тот, который нам кажется таковым.
Когда человек, считающий себя православным, говорит про уважаемого и любимого им духовного подвижника или вообще про религиозно-добродетельного человека: «Это святой человек», – то он, чтобы не впасть в заблуждение, должен сознавать и помнить, что он в этом случае говорит или иносказательно, т. е. хочет сказать: «Это в высшей степени религиозный и прекрасный человек»; или просто сокращает свою речь; говорит «святой человек» вместо того, чтобы сказать: «Не знаю, признает ли его Церковь святым после его кончины, но я считаю его достойным этого».
Думая иначе, такой православный почитатель святого рискует приблизиться в понимании «святости» к гениальной, но весьма не канонической, госпоже Ж. Санд, которая писывала: «Святой Ж. Ж. Руссо».
От святого же Ж. Жака – не очень далеко и до святого Робеспьера или до св<ятой> Луизы Мишель.
Как думает хоть и об этом, например, г-н Астафьев, я желал бы знать?
Он сочувствует тому, что русские люди «ищут святых», и даже ставит это особым отличительным признаком нашего национального духа и «сознания».
Но откуда пошли эти примеры искания «святых», как не из старовизантийских преданий?
Пусть г-н Астафьев вспомнит только о «Четьях-Минеях» нашего русского, «национального» (по крови) Димитрия Ростовского; пусть хоть слегка пересмотрит – все двенадцать томов этого труда…
Я попрошу его обратить внимание не только на подавляющее количество греко-византийских святых, но и на качества их, на выразительность их характеров; на их религиозно-психическое творчество и сравнить их с этой стороны с русскими святыми.
Он увидит тогда, что византийской религиозной культуре вообще принадлежат все главные типы той святости, которой образцами впоследствии пользовались русские люди. Столпники: Симеон и Даниил; отшельники: Антоний. Сысой и Онуфрий Великий – предшествовали нашим отшельникам; юродивые, подобные Симеону и… предшествовали нашим <имена>; Пахомий Великий первый основал общежительные монастыри (киновии) в <IV> веке, когда о России еще и помину не было. Литургию, которую мы слушаем в русском храме, упорядочили раз навсегда Василий Великий и Иоанн Златоуст. Равноапостольный царь Константин предшествовал равноапостольному князю Владимиру. Русскому князю мы обязаны только первым распространением готового Православия в Русской земле; византийскому императору мы обязаны первым догматическим утверждением Православия во вселенной. Афонская жизнь, созданная творческим гением византийских греков, послужила образцом нашим первым киевским угодникам – Антонию и Феодосию Печерским. И эта афонская жизнь, дошедшая, слава Богу, и до нас в живых примерах удивительных отшельников и киновиатов образцовой строгости, продолжает влиять до сих пор и на монастыри наши, и на благочестивых русских мирян.
Все наши святые были только учениками, подражателями, последователями византийских святых.
Степень самой святости может быть одинакова, равна – у святых русских с византийскими святыми; слово «святость» – есть специфически церковное слово; оно имеет не столько нравственное, сколько мистическое значение; не всякий тот свят, который всю жизнь или хоть значительную часть жизни провел добродетельно и даже весьма благочестиво; мы можем только надеяться, что он будет в раю, что он будет «спасен» (от ада) за гробом; свят – только тот, кто Церковью признан святым после его кончины. В этом смысле, разумеется, русские святые сами по себе, духовно, ничем не ниже древневизантийских. Но жизнь Византии была несравненно самобытнее и богаче разнообразием содержания, чем жизнь старой, полудикой и однообразной Руси.
При этой более разнообразной и более развитой жизни и само христианство (впервые догматизированное) было еще очень ново. Понятно, что при могучем действии учения, еще не вполне тогда нашедшего все свои формы или только что нашедшего их, на почву, общественно давно у же развитую, творчеству был великий простор. Византийские греки создавали: русские только учились у них. «Dieu a voulu que le christianisme fut eminemment grec!{36}» – сказал Vinet.
Я, конечно, могу, как лично верующий человек, с одинаковым чувством молиться – Сергию Радонежскому и Пахомию Великому, митрополиту Филиппу Московскому и Василию Неокесарийскому, Тихону, нашему калужскому затворнику, и Симеону Столпнику; но вера моя в равномерную святость их и в равносильную спасительность их молитв у престола Господня не может помешать мне видеть, что Пахомий, Василий и Симеон были творцы, инициаторы; а Сергий, Филипп и Тихон – ученики их и подражатели.
Творчество и святость – я думаю, разница? Творчество может быть всякое; оно может быть еретическое, преступное, разбойничье, демоническое даже.
Писатель, почитающий Православие и защищающий его, хотя бы и преимущественно с национальной точки зрения, должен это помнить.
Ни святость, так сказать, собственно русского Православия, ни его великое национальное значение не уменьшатся от того, что мы будем помнить и сознавать, что наше Православие есть Православие греко-российское (византийское). Уменьшатся только наши лжеславянские претензии; наше культурно-национальное сознание примет только с этой стороны более правильное и добросовестное направление.
Надо помнить, что все «национальное» бывает троякого рода. Одно национально потому, что создано впервые известной нацией; другое потому, что другой нацией глубоко усвоено; третье потому, что пригодно исключительно одной определенной нации (или, быть может, одному только племени) и другим племенам и нациям передаваться не может.
Так, например, английская гражданская конституция создана англичанами; но с некоторыми видоизменениями она усвоилась всеми нациями Запада.
Англиканская же вера усваиваться другими нациями не может; ибо она тесно связана с государственными учреждениями Англии. Англиканская церковь национальна только в двух родах – в первом и третьем; она усваиваться никем не может; не может стать ни для кого национальной в смысле втором, в смысле усвоения. Это только – «церковь», но не религия.
Православие создано не русскими, а византийцами, но оно до того усвоено нами, что мы и как нация, и как государство без него жить не можем. И довольно с нас этого национального «сознания»!
Нас крестят по-византийски, мы венчаемся по-византийски, нас хоронят и отпевают по византийскому уставу. В церковь ли мы идем, лоб ли дома крестим, царю ли на верность по-православному присягаем – мы продолжаем византийские предания, мы являемся чадами византийской культуры.
Каким же образом наше русское «национальное сознание» может отказаться от подобной очевидности?
Если наше «национальное сознание» будет самообманом из-за слов, с забвением дела, то избави нас, Боже, от подобного сознания!..
Но обратимся, так и быть, и к самим словам.
Почему я избрал это слово «византизм», когда лет около 20 тому назад писал ту статью, которой одна половина понравилась г-ну Страхову, а другая – г-ну Астафьеву?
Отчего я не говорил просто, как говорят другие: «Православие, самодержавие»… и т. д.?
Я поступил так по нескольким разным причинам.
С одной стороны, я находился под влиянием книги Данилевского «Россия и Европа». С учением Хомякова и Ив. Аксакова я был уже давно тогда знаком в общих его чертах, и оно «говорило», так сказать, сильно моему русскому сердцу. Но я отчасти видел, отчасти только чувствовал в нем что-то такое, что внушало мне недоверие. Этому роду недоверия я не могу и теперь еще найти точного определения и названия; но приблизительно позволю себе выразиться так: оно казалось мне и тогда уже слишком эгалитарно-либеральным для того, чтобы достаточно отделять нас (русских) от новейшего Запада. Это одно; другая же сторона этого учения, внушавшая мне недоверие и тесно, впрочем, связанная с первой, была какая-то как бы односторонняя моральность его. Это учение казалось мне в одно и то же время – и не государственным, и не эстетическим. Со стороны государственности меня гораздо более удовлетворял Катков; уже тем одним, что не искал никогда, как Аксаков, чего-то туманно-возвышенного в политике, а пользовался теми силами, которые находились у нас под рукою.
Со стороны же исторической и внешне-жизненной эстетики я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к настоящим славянофилам.
Разумеется, я говорю не о Герцене «Колокола» – этого Герцена я с начала <18>60-х годов ненавидел и даже не уважал, – но о том Герцене, который издевался над буржуазностью и прозой новейшей Европы.
Читая только Хомякова, Аксакова (даже скажу и Каткова отчасти), в голову бы не пришло ненавидеть всесветную буржуазию (в которую, в сущности, стремится перейти и работник западный); Герцен же издевался прямо над этим общим и подавляющим типом человеческого развития. И последуя за ним по сродству «природы», я придумал позднее и выражение «средний человек, средний европеец» и т. д.
Отклониться по возможности от того пути, который ведет к размножению этих «средних» людей и к господству их; сохранить (а если можно – то и создать) наиболее разнообразные пути для развития человеческого – вот о чем я мечтал тогда для России. Вот на чем я остановился временно в конце <18>60-х годов. Одно из главных условий этого разнообразия есть обособление национального типа (при этом крепкое государство – само собою разумеется); другое условие, необходимое для внутреннего разнообразия этой национальной жизни, для ее содержательности – есть существование сословных типов; своеобразных бытом и духом провинций и окраин; и даже создание новых религий, ересей (не рационально-нравственных, как молокане и штундисты, а мистических, как скопцы, хлысты, мормоны и т. д.)…
Одним словом, я в конце <18>60-х годов думал больше о разнообразии, чем о единстве.
Живое, сердечное понимание «единства» стало доступно мне единовременно с приятием личной веры, обладанием которой я обязан афонским духовникам.
Я почти вдруг постиг, что и то реальное разнообразие развития, которое я находил столь прекрасным и полезным в земной жизни нашей, не может долго держаться без формирующего, сдерживающего, ограничительного мистического единства; ибо при ослаблении стеснительного единства произойдет скоро то самое ассимиляционное смешение, которое я зову то эгалитарным прогрессом, то всемирной революцией. Эту мою мысль об опасности «смешения» сам г-н Астафьев весьма горячо оправдывал и с психологической точки зрения.
Подготовленный к этому, сверх просветления ума возгоревшейся сердечной верой, еще и долгою политическою деятельностью в среде восточных христиан, – я понял почти сразу и то, что я сам лично вне Православия спасен за гробом быть не могу; и то, что государственная Россия без строжайшего охранения православной дисциплины разрушится еще скорее многих других держав; и то, наконец, что культурной самобытности нашей мы должны по-прежнему искать в этих греко-российских, древних корнях наших, а не гнаться за каким-то новым, никем не виданным чистым славизмом, который, по всем доступным ныне признакам, рискует выйти не чем иным, как или самым жалким, или самым страшным европеизмом новейшего времени.
Как раз в это же самое время произошло отложение болгар от вселенской цареградской Церкви, и я с ужасом понял тогда и глубокий индифферентизм болгар, и полупростодушие, полумерзость наших русских надежд и затей, и удивительную твердость и смелость греческого духовенства.
Без ученой подготовки, без достаточных книжных источников под рукою – подчиняясь только внезапно охватившему мою душу огню – я написал эту вещь «Византизм и славянство».
Сила моего вдохновения в то время (в <18>73 году) была до того велика, что я сам теперь дивлюсь моей тогдашней смелости. Теперь, обладая сравнительно гораздо большей начитанностью и литературным опытом, я не в силах бы был написать ничего подобного. Тогда – я думал так: «Если я ошибусь в исторических фактах, это не важно; гипотеза может оказаться верною и при недостаточных фактах; другие более меня ученые, более терпеливые и более осторожные объяснят меня. А если они опровергнут мою гипотезу триединого процесса, то уж буржуазность-то югославян, их нерелигиозность, их либеральный европеизм никто отвергнуть не может. Это уж не гипотеза, а грубейшие факты».
Прилагая эту мою гипотезу триединого процесса (первоначальной простоты, цветущей сложности в мистическом единстве и вторичного смешения) к волновавшему меня в ту минуту частному греко-болгарскому вопросу, древний корень единства восточно-славянского мира я видел в преданиях греческого духовенства, в историческом воспитании его (независимость церковной власти), в психических, так сказать, навыках высшего греческого монашества.
В чисто славянских сочувствиях наших я чуял все тот же всесмесительный, радикальный европеизм, которого еще давным-давно и Хомяков, и Ив. С. Аксаков, и сам Катков учили меня бояться и чуждаться.
А почему Катков и Аксаков не узнавали того же европейского радикализма в этом частном болгарском случае – это их дело. Я не знаю наверное почему; но, вспоминая при этом русскую пословицу: «На всякого мудреца довольно простоты», думаю так: Аксаков был пламенный поклонник славянства во что бы то ни стало; он слепо веровал в его залоги; а Катков был гениальный оппортунист, но действительной дальновидностью не отличался; по крайней мере в явных, писанных взглядах своих.
Как лично верующий христианин, как ученик и послушник афонских монахов, «обвеянный тогда Афоном» (как выражался покойный Климент Зедергольм), я считал тогдашние политические действия князя Горчакова и графа Игнатьева прямо их личным грехом.
Точно таким же греховным дерзновением я считал и статьи Каткова и Аксакова в защиту болгар.
Как человек, уже привычный сам и к мелкой политической практике, и к пониманию общегосударственных вопросов, я находил опасным сдвигать нашу восточную политику с привычного, векового пути греко-русского единения.
Как русский гражданин, как патриот, я возмущался тем, что мощные представители императорской России, графы и князья наши, тянутся боязливо по следам каких-то славянских холуев-демагогов.
Бога дипломаты наши не боятся оскорбить (думал я), потворствуя нарушению древних и весьма существенных канонов; а боятся раздражить каких-то паршивых болгар, которых как мух Россия может задавить одной лишь ступней своей.
Как ученик (тогда!) Хомякова, как единомышленник Данилевского (хотя и с оговорками), как человек, принимавший всерьез учение о национальной самобытности первого, о четырех основах новой культуры – второго, я видел в тогдашнем направлении русской мысли привычное нам обезьянство, простое и даже дурацкое подражание итальянцам и немцам; видел не первые шаги на пути к особой и богатой славянской культуре, а весьма резкие признаки начинающегося у нас на православном Востоке вторичного смесительного разложения.
Маловерие и грех! Обезьянство и пошлость! Недальновидность и малодушие.
Вот этим всем я одушевился – и написал.
Назвал же я и Православие, и Православием освященное самодержавие наше «византизмом», во-первых, потому, что оно греко-российское; во-вторых, потому, что я хотел сделать поправку к книге Данилевского, который по странной ошибке в перечислении культурных типов своих пропустил византийский тип и соединил его весьма неудачно в одно с типом староримским.
А в-третьих, еще вот почему. У меня из разнообразного чтения моего осталось в памяти выражение какого-то западного писателя (какого именно, не знаю): «С людьми религиозными спорить очень трудно, потому что они решительно не умеют или не хотят выйти из заколдованного круга своих понятий».
Я захотел тогда попытаться выйти из этого «заколдованного круга»; мне показалось возможным отнестись объективно (естественно-исторически) к той самой религии, которая для моего внутреннего мира стала уже не только высшей святыней, утешением и главным мерилом жизни, но даже и некоторого рода «игом», от которого я избавиться уже не могу, если бы и пожелал.
Ум мой, воспитанный с юности на медицинском эмпиризме и на бесстрастии естественных наук, пожелал рассмотреть и всю историческую эволюцию человечества, и в частности наши русские интересы на Востоке, с точки зрения особой естественно-исторической гипотезы (триединого процесса развития, кончающегося предсмертным смешением и растворением в большей против прежнего однородности).
Я хотел, чтобы взгляд мой, мои опасения и сочувствия, были понятны не только тому, кто сердцем подкуплен в пользу сурового, не либерального, старого Православия, но и атеисту, и католику, и мусульманину, и даже образованному китайцу, если бы он мою книгу, положим, прочел бы…
Я захотел выйти умом из «заколдованного круга» моего сердца лишь для того, чтобы и с другой точки зрения, вне этого круга утвержденной, доказать, что в этом лишь круге русским необходимо жить, если они хотят остаться русскими.







