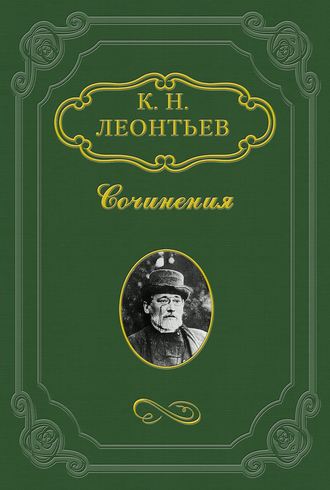
Константин Николаевич Леонтьев
Кто правее?
Моя «богиня революции» смеется над людскими усилиями создать… будто бы что-то свое!
Выходит только сходство или равенство – и больше ничего.
Неужели это можно назвать торжеством национального начала в XIX веке? И неужели мое сокрушение о культурном бесплодии политического национализма, мои опасения за последние остатки истинного национализма в России позволительно назвать нападением на национальное начало вообще?
Нападение у меня есть, это правда; но оно направлено исключительно на господствующую теперь племенную политику правительств и народов, а не на национальное «начало» вообще, которое воплощается не в одной же внешней политике племенного освобождения и объединения, а и во множестве других исторических явлений. Не в одном только особом государстве, но и в особой религии, в особых законах, в преобладании особого мировоззрения, в особом быте и особых вкусах».
Есть люди, про которых можно сказать, что они нападают на национальное начало и на <… > наши культурные «претензии».
Например, г-н Соловьев и либерал<ьные> нигилист<ы> наши, к которым автор «Религиозных основ <жизни>» теперь так приблизился.
Но можно ли про меня сказать то же?
Я доказал, кажется, что я чту эти «претензии», что я их люблю, что я считаю их спасительными для России даже и в те печальные минуты, когда перестаю верить в их полное осуществление. «Претендуйте, претендуйте (думаю я тогда), претендуйте на обособление от Европы, сограждане мои; все что-нибудь у нас да останется» и в жизни от этого неслыханного прежде в литературе нашей культурного бунта против Запада, этого давнего и стареющего «властителя наших дум»!»
Германские протестанты соединились в одну империю с германскими католиками, однако не только религиозного слияния между ними не последовало, но, напротив того, Германия с этого времени сделала несколько гигантских шагов на пути какого-то среднего безверия.
Сам молодой император в одной из речей своих офицерам сказал, что они должны стараться укрепить в солдатах религиозные чувства, «но без отношения к догмату (прибавил он), а с моральными целями».
Но пусть будет по-Вашему! Вы, вероятно, верите, что славяне будут исключением из общего правила XIX века. Я не понимаю Вашей твердой с этой стороны веры; но я понимаю мысль, на такой вере основанную.
Вы обособления культурного для России не желаете и не верите вовсе в его возможность. Никакого особенного строя и стиля для нашей русской жизни не ищете. Вам претит культурное славянофильство, а не политический панславизм. «Национальное сознание» наше должно, по Вашему мнению, быть лишь сознанием всемирного религиозного призвания России.
Я Вас понимаю.
Но зачем панславизм г-ну Астафьеву? Зачем ему какой бы то ни было панславизм – либеральный ли или католический, все равно? Ни либерализму (обыкновенному), ни католицизму он не сочувствует. Они оба ему не нужны. Ему нужен особый русский идеал; нужно просветленное Православием русское сознание.
А если ему никакой панславизм собственно для этого не может быть нужен, то как же можно было назвать мое нападение на панславизм либеральным нападением на какой бы то ни было обособляющий национальный идеал, а тем более на русский?
Нет! Решительно что-нибудь одно: или он ошибся и не хочет в этом сознаться, или я выжил из ума и не только его, но и сам себя перестал понимать!
По-моему, тут нет примиряющей середины…
Быть может, Вы эту середину найдете…
Посмотрим.
Письмо 5
Надо отдать справедливость г-ну Астафьеву, что оба его на меня нападения (в «Русском обозрении» и в «Московских ведомостях») очень содержательны. При всей краткости своей в них есть много такого, что возбуждает мысль и заставляет ее даже насильно трудиться. Ошибочны ли взгляды моего неожиданного гонителя, или нет; темно ли его изложение, все равно, нельзя не согласиться, что он в этих замечаниях своих коснулся очень многих вопросов разом, и задал разом много задач внимательному читателю.
Например, упоминая о том, что одновременность торжества национального начала в XIX веке с революционными движениями не может сама по себе служить доказательством внутренней связи первого со вторыми, он говорит в заключение, что «одновременность исторических явлений сама по себе ничего не доказывает». Она (эта одновременность), по мнению г-на Астафьева, только «намек на приложение самого несовершенного из индуктивных приемов – метода согласия».
Понимаете ли Вы эти слова, Владимир Сергеевич?
Я их не понимаю, но невольно и упорно задумываюсь над ними. Мне хочется разгадать эту загадку, и эта принудительная экскурсия моей мысли на вовсе не знакомый мне и даже довольно тернистый путь меня очень занимает.
«Как так одновременность ничего сама по себе не доказывает?» – спрашиваю я себя с удивлением.
И что такое этот «метод согласия», о котором я никогда, признаюсь, не слыхал?
Насчет того, что такое этот «метод согласия» и бывает ли еще метод «несогласия» в каких-нибудь подобных этому случаях, я прошу Вас, Владимир Сергеевич, мне ответить. Вы специалист по этим вопросам.
Сам я об этом и думать не берусь. Тут дума и не поможет; тут надо знать твердо «названия».
Я же могу размышлять только о том – доказывает ли что-нибудь в истории «одновременность явлений» (т. е. событий, теорий, мировоззрений и т. д.).
Начну с того, что я не знаю – доказывает ли что-нибудь одновременность эта или нет, но знаю наверное, что она действует на людей очень сильно.
Не знаю, какую логическую ценность имеет одновременность исторических явлений, но знаю, что психологическое значение ее огромно.
Сверх того замечу еще следующее. Высшая сверхчеловеческая логика истории, ее духовная телеология нередко в том именно и видна, что для человеческой логики большинства современников тех или других исторических явлений – связи прямой между этими явлениями не видно. Многими она узнается поздно; немногим она открывается раньше.
Но на души людей – эта невидимая телеологическая связь действует неотразимо – посредством совокупности весьма сложных влияний.
Возьмем европейцев XV века.
В XV веке произошли почти одновременно следующие общеизвестные события: открытие Америки (1492); изобретение книгопечатания (1455); взятие Константинополя турками (1453).
Где прямая, видимая, ясная для современников связь между этими тремя историческими явлениями?
Еще между изобретением Гутенберга и открытием Колумба можно найти ту внутреннюю, предварительную (причинную?) связь, что умы в то время на Западе созрели и были чрезвычайно деятельны. Европейцы в то время были исполнены «искания», – под влиянием известных накопившихся веками впечатлений.
Но торжество полудикого племени турок на Востоке и бегство образованных греков с древними рукописями на Запад – это в какой логической связи стоит с книгопечатанием и открытием Америки?
По-видимому – ни в какой. Логической связи не было, но была одновременность и огромное психологическое действие всей этой совокупности на европейцев XV века.
Была связь высшей – телеологической – логики, и нам теперь, в XIX веке, эта внутренняя связь тогдашних событий ясна по плодам своим.
(Замечу мимоходом, что, не признавая подобной высшей, прямо сказать – сознательно-божественной телеологической связи в исторических явлениях, нам придется очень многое приписать бессмысленной случайности; например, почему у Фомы Палеолога была молодая дочь именно в такое время, когда Иоанн III овдовел и не успел еще второй раз жениться? Почему он не успел этого сделать? Почему бы изгнаннику Палеологу не быть бездетным? Или иметь только сыновей? Или почему бы Софье не быть уже замужем или до того перезрелой и некрасивой, что московский князь не захотел бы на ней жениться? Почему один из мусульманских народов (татарский народ) слабел на Севере именно в то время, когда другой мусульманский же народ (турки) торжествовал на Юге?
Прямой, ясной логической связи между всеми этими историческими обстоятельствами, видимо, нет; но одновременность всего этого действует могущественно на дух восточно-православных народов, на дух русских, греков, сербов и болгар.
Связь ясная не в основах логических, не в корнях, а в психологических последствиях, в плодах исторических. В основе – таинственная и сразу непонятная Божественная телеология; вполне целесообразные «смотрения», «изволения» и «попущения» Высшей Логики; в результате весьма определенные и ясные впечатления на душу человеческую – на этот живой микрокосм, столь способный к одновременности восприятия различных впечатлений и к приведению их к живому единству в недрах своих.)
Одновременность всего вышесказанного, т. е. и таких важных исторических событий, как взятие Царьграда турками на православном Юге и свержение татарского ига на православном Севере, и таких будто бы неважных случайностей, как вдовство Иоанна III и существование молодой Софии Палеолог, эта одновременность тогдашних событий и случайностей (говорю я) продолжает действовать даже и на всех нас в конце XIX века, почти 500 лет спустя. Благодаря этой одновременности и совокупности Достоевский писал об «искании» святых, и г-н Астафьев (оба западные европейцы по образованию и быту) идет по его следам в этом отношении.
Если предположить, что нужно было в то время – для наилучшего сохранения веры – с одной стороны, развить и просветить северный православный народ, весьма еще молодой, грубый и простой; а с другой – упростить и повергнуть в некоторую степень освежающего варварства и невежества другой православный народ, южный, несравненно более старый, просвещенный и развращенный, – то для подобной цели нельзя и придумать ничего лучше, как одновременно освободить русских от татарских уз; подчинить греков турецкому игу и женить русского князя на греческой княжне, которая принесла бы за собой в Москву множество византийских влияний и порядков.
Русским в то время назначено было развиваться на почве Восточного Православия; они могли идти по пути этого развития (осложнения) свободнее, не заботясь более о «страхе татарском».
Грекам суждено было в то время только сохранять Православие, давно уже у них развитое и вошедшее им в кровь.
Сохранить в чистоте и неподвижности свое старое народу уже зрелому всегда легче под игом глубоко иноверным и очень грубым, чем на полной и слишком долгой воле – или при зависимости от завоевателя, более близкого по вере и менее грубого. Не подчини тогда турки греков – эти последние, все старея и старея беспрепятственно, не только как государство, но и как нация и даже как ум, – могли бы легко стать католиками, протестантами или даже безбожниками.
При турках – было не до этого, при турках – греки помолодели на 400 лет, и никакого нет сомнения, что если Восточный вопрос опять своевременно (т. е. одновременно с другими благоприятными условиями) разрешится в нашу пользу, то греки, так или иначе, но еще скажут и теперь свое слово в истории восточного христианства!
Это слово еще остается за ними, благодаря одновременности – перечисленных событий и случайностей в XV веке!
Вот что я думаю об одновременности.
Не знаю, как называется этот метод, «согласия» или «несогласия», но верно одно, что это метод действительной жизни, о которой я в моих политических статьях гораздо больше забочусь, чем об испускании из себя, с непривычными мне натугами, непрерывной метафизико-диалектической нити.
И это все еще не главное. До главного я еще не касался.
Главное и ближайшее в этом вопросе – это вот что.
Г-н Астафьев говорит: «Прожитой нами век революций был веком торжества рационалистической философии, затем материализма, скептицизма и позитивизма, веком небывалых успехов техники и промышленности, экономического развития, роста и торжества космополитической буржуазии, парламентаризма и т. д. и т. д. Внутренняя связь всего этого «другого» с революцией не более и не менее связи ее с национальным началом доказывается простым фактом одновременности всех этих явлений и т. д.».
О какой это внутренней связи тут говорится – я не знаю.
Что значит это слово «внутренняя», в данном случае не могу понять отчетливо.
Я знаю наверное, и г-н Астафьев это знает, что на внутренний мир, на ум и душу людей, живущих в XIX веке, эта одновременность действует так могущественно, что не только сочувствующие рационализму, капитализму, индустрии и т. д., но и недовольные всем этим невольно всему этому подчиняются. Я знал, например, таких инженеров, техников, железнодорожных деятелей, которые считают, что в России, по крайней мере, железные дороги сделали гораздо больше самого разнородного вреда, чем пользы; но они не только вынуждены обстоятельствами ездить по ним, но и служить по этой части, строить мосты и рельсовые пути и т. д. Т. е. они не только пользуются этими орудиями всесмешения, но и способствуют поневоле их влиянию на других.
Г-н Астафьев сам даже читал лекции и издал книжку об этом предмете под заглавием «Наше техническое богатство и наша духовная нищета». Он во всем этом – надо отдать ему полную справедливость – увидал самую глубокую и существенную сторону разнообразного вреда цивилизации этой, прямо психическую сторону. Он находит, что для внутренней устойчивости наших впечатлений и для глубины их – движение жизни стало слишком быстро; обмен слишком ускорен.
Если бы даже все эти явления нынешнего прогресса и не состояли бы между собой исходными точками своими вовсе ни в какой предварительной логической связи, то при действии своем на душу современников наших они все-таки вступают в недрах этой души в теснейшую конечную, так сказать, связь – именно потому, что действуют одновременно.
Ребенок, рождающийся теперь, юноша, в настоящее время созревающий, ничего не знают о прежнем состоянии доступного им мира; они прямо и сразу подчиняются одновременным впечатлениям от всех этих явлений в совокупности.
Но ведь не всегда было так. В истории, мне кажется, все эти перечисленные явления состояли даже и в прямой причинной зависимости друг от друга. Сперва скептицизм религиозный (например, первоначальные сомнения Лютера в безусловной правоте и святости римского престола); потом эти сомнения перешли в решительное отрицание, и дана была воля рассудку подвергать критике религию, государственные учреждения, древний сословный строй и т. д. То есть – рационализм. Создать этот рационализм ничего не создал (кроме множества глубоких и остроумных философских систем, друг друга опровергающих), но расшатал более или менее все то, чем жило дотоле человечество. Люди захотели приложить теорию рассудка к жизни, к политической и социальной практике. Всякая мистическая ортодоксия не рациональна; неограниченная власть одного не рациональна; наследственная привилегированная аристократия, дворянство и т. д. не рациональны.
Все это – мистическое, наследственное и т. д. ограничили или уничтожили. Но так как равенства полного достичь при этом не могли, то явилось, как логическое неизбежное последствие – преобладание капитала, торжество буржуазии и т. д. Ведь это преобладание при поверхностном взгляде кажется даже гораздо более рациональным, чем мистические и наследственные привилегии. Так как люди не равны способностями, умом, терпением, твердостию, физической силой, то пусть более сильные, терпеливые, умные, твердые и выдвигаются – богатея. Вот всем известное оправдание для буржуазного строя общества и капитализма.
Рядом с этим рациональным усилением капитализма (которому до начала ассимиляционной революции мешало преобладание духовенства, монархов и дворянства) стало возрастать и другое детище того же рационализма – точная наука, механика, физика, химия, техника. Рационализм точных и прикладных знаний естественно вступил в теснейший союз с рационализмом капитала.
Рационализм же навел многих и на космополитические мысли, вкусы и теории; механика, усовершенствование путей сообщения и возрастание торгового обмена, выставки и т. п. стали способствовать воплощению в жизнь этих теорий рационального космополитизма.
Ясно, что это все «другое» состоит в неразрывной связи и между собою, и с революцией вообще. И с революцией, по моему понятию – в смысле всемирной, но не всегда преднамеренной ассимиляции и в более обыкновенном тесном смысле: в смысле прямого и преднамеренного ослабления, ограничения власти, религии, привилегий, в смысле мятежей и восстаний, наконец.
Все это – скептицизм, рационализм, капитализм, техника и т. д. – имеет космополитический характер; все это в высшей степени заразительно и всем доступно; если не сразу, то довольно все-таки скоро доступно.
Национальное же «начало», напротив того, есть антитеза космополитического, и г-н Астафьев напрасно говорит, что связь его (национального начала) с космополитической революцией не больше и не меньше, чем связь всего этого «другого».
Это все другое – состоит с революцией (в наш век) в связи неразрывной и прямо логической. Все это «другое» лишь частные проявления общего течения ко всемирной ассимиляции. Это разные цвета одного и того же всепожирающего луча, преломляющегося в спектре жизни. Это все космополитизм.
Национализм же состоит со всем этим лишь в такой антагонистической связи, в какой состоят свет и тени, жар и холод и т. д. Это хорошо. Но несчастье в том (с моей точки зрения, да, вероятно, и с точки зрения г-на Астафьева), что в XIX веке эта реакция против космополитизма до сих пор везде очень слаба и жалка. И защитникам национализма не надо подобными размерами этой реакции удовлетворяться.
Слаба эта реакция в наше время уже потому, что действие противоположного начала, революционного космополитизма, слишком сильно.
Условия нынешней одновременности в высшей степени неблагоприятны для подобной обособляющей, национальной реакции.
Нации, например, освобождаются из-под зависимости иноверной или инородной.
Но, освободившись политически, они очень рады – в быту или идеях походить на всех других.
Человека, положим, выпустили из тюрьмы или из другого какого-нибудь затвора – на вольный воздух; он свободен; но ведь большая разница, в какое время мы его выпустили: в мае или в январе, в здоровое время или во время ужасной эпидемии.
Во время эпидемии – он, вероятно, в затворе своем был бы целее.
Вот в каком смысле «одновременность» важна и для национального вопроса.
Политический национализм нашего времени не дает национального обособления, потому что подавляющее влияние всеобщих космополитических вкусов слишком сильно. Эпидемия еще не окончилась.
Письмо 6
Вторая статья г-на Астафьева, напечатанная им в «Московских ведомостях» против моего «протеста» в «Гражданине», подействовала на меня двояко; в некоторых отношениях более вразумительно, чем первая его заметка; в других, напротив того, еще более смущающим образом.
Весьма вразумительным мне показалось, во-первых, то, что г-н Астафьев уже не хочет более «укорять меня во враждебности русскому культурному идеалу», а укоряет меня только в «неоправданном логически отрицании национального начала как начала и политической жизни, и культуры вообще».
(«Начало политической жизни – и культуры вообще». Не разница ли это?)
Впрочем, не буду придирчив. Этот укор, быть может, и заслужен мною.
Не знаю, впрочем, в точности, до какой степени; ибо и это для меня не слишком ясно. Но я расположен подозревать, по крайней мере, что в этих словах г-на Астафьева кроется какая-то справедливая и не совсем выгодная для меня мысль.
Сознаюсь, что когда я пишу, то больше думаю о живой психологии человечества, чем о логике; больше забочусь о наглядности изложения, чем о последовательности и строгой связи моих мыслей. Меня самого при чтении чужих произведений очень скоро утомляет строгая последовательность отвлеченной мысли; глубокие отвлечения мне тогда только понятны, когда при чтении у меня в душе сами собой либо являются примеры, живые образы, какие-нибудь «иллюстрации», хотя бы смутно, туманно, мимолетно, но все-таки живописующие эту чужую логику, насильно мне навязываемую; или же пробуждаются, вспоминаются какие-нибудь собственные чувства, соответствующие этим чужим отвлечениям. Самые же эти, так называемые, «начала» мне мало доступны в своей чистоте; я никак не найду этим началам конца ни спереди, ни сзади. И мне даже все представляется, что никакое «начало» в жизни, на практике ничего не может и создать, если у многих людей не будет соответственное ему чувство…
Когда мне говорят – начало любви, я понимаю эти слова очень смутно до тех пор, пока я не вспоминаю о разных живых проявлениях чувства любви (сострадание, симпатия, привязанность, восхищение и т. д.). Вот как я слаб в метафизике. Из этого вовсе не следует, разумеется, что я не признаю метафизики. Наше собственное слабое понимание какого-нибудь предмета, конечно, не дает нам права думать, что и все другие его не понимают или что само по себе непонимаемое нами не ценно и не высоко.
«Начала» эти не виноваты в том, что чувства и образы доступнее их моим умственным силам.
Конечно, какое-нибудь такое «начало» существует, так как… люди очень умные и ученые говорят о них.
«Национальное начало? Национальное начало?» Не понимаю! Думаю, думаю; и кончаю тем, что хватаюсь за что-нибудь более конкретное, чтобы сквозь него как-нибудь добраться до этого абстрактного; сквозь узоры и краски жизни высмотреть хоть сколько-нибудь общую метафизическую основу или канву.
«Национальное государство!» Ясно. Вот Франция издавна была национальным государством; Австрия же никогда не была таковым.
«Национальная религия». Тоже ясно. Армянское христианство есть религия общая для большинства армянской нации, разделенной подданством по разным государствам. Англиканское протестантство есть тоже национальная религия, ибо оно тесно связано историей с государственными учреждениями Англии и даже пригодно только для одной Англии; не может быть во всецелости своей пропагандируемо иноземцам.
«Национальная поэзия»; это значит поэзия своеобразная, в национальном духе или стиле развившаяся.
Национальная одежда, национальная пляска; национальный обычай; все это очень ясно и наглядно.
«Национальная политика» есть уже выражение несравненно более сбивчивое (как я постараюсь доказать ниже), но все еще понятное.
Что касается до выражения – национальное начало, – то я, по философскому малосилию моему, не умею постичь его иначе как воплощенным во всех этих частных перечисленных мною разветвлениях его.
Возвращаюсь к исходной точке недоразумения или спора нашего.
Я нахожу, что это национальное «начало» выражается при современных нам национальных и племенных объединениях в высшей степени слабо. До того слабо, что все другие противоположные ему «начала» подавляют его до неузнаваемости.
Национальное начало – есть такое начало жизни нашей, которое располагает человечество распадаться, разделяться на особые, культурно-племенные группы.
Употребляя почти машинально, вослед за другими, это чуждое мне слово «начало», я сам про себя тотчас же думаю о «чувствах», вспоминаю примеры и вижу, что все те чувства и потребности, которые благоприятствуют вышесказанному разделению на особые культурно-племенные группы, в XIX веке очень слабы.
Господствуют теперь у всех европейских народов (не исключая и славян) весьма сходные культурные идеалы и житейские вкусы, и группировка новой Европы по племенным государствам, равняя политическое положение племен и наций, – еще более благоприятствует сходству их жизни.
Г-н Астафьев говорит, что я в этой брошюре пытаюсь «подорвать значение национального начала в политике и жизни».
Едва ли так! Значение этого национального начала в политике, к сожалению, очень велико, уже по тому одному, что оно в наше время в высшей степени разрушительно; этого революционного значения не подорвешь какими-нибудь «статьями»; и то слава Богу, если сумеешь хоть немногим людям открыть глаза на тот факт, что племенной национализм в политике (освобождение и объединение славян, немцев, итальянцев) не дает никаких национальных плодов в остальных областях (?) жизни.
Значение этого начала подорвать нельзя; значение это очень велико; и не будь оно так велико – не нужно бы и опасаться его. Как можно подрывать значение эпидемии? Достаточно только – назвать эпидемию по имени ее – и указать на предохранительные против нее меры.
В XIX веке племенные и национальные эмансипации и объединения не только не приносят тех культурно-обособляющих плодов, которых от них ждали многие (у нас в особенности Данилевский), а, напротив того, усиливают культурно-бытовое сходство, ускоряют в высшей степени всеобщую ассимиляцию.
Группировка государств по чистым народностям ведет быстрыми шагами европейское человечество – к господству международности. По окончании всех этих племенных, народных счетов и разграничений – во всей силе своей поднимется всенародный социальный вопрос!
Чистые прогрессисты, демократы, социалисты, нигилисты – имеют право радоваться этому. Это понятно.
Но каким образом могут отрицать этот факт или мириться с ним хотя бы многие из славянофилов наших – не понимаю!
Разве потому, что они находят исторические условия русской, жизни до того отличными даже и в наше время от условий западной жизни, что у нас и панславизм должен дать совсем иные плоды, чем те, которые дали пангерманизм или итальянское единство! Дай Бог!
Или, быть может, они думают, что у наций Запада впереди уже нет ничего такого, что заслуживало бы названия национально-культурного; что все подобное у Запада уже прожито, – а у России впереди. Первое вполне верно, но когда дело касается до России, то остается воскликнуть: «Дай Бог! Дай Бог!»
Но и это возможно только в таком случае, если в русском самосознании глубоко вкоренится представление о разнице между национализмом политическим и национализмом культурным: между политическим равенством прав и положения славян со всеми и культурно-бытовым их обособлением от Европы.
Или, быть может, большинство теперешних славянофилов наших гораздо меньше думают о том, чем бы глубже отличаться славянам от Запада (для предохранения себя от неизлечимых его недугов), чем о том, чтобы сравнять скорее славянство во всех отношениях с этим Западом.
Быть может, вовсе не своеобразие характера славянского им дорого (как было оно дорого Хомякову и Данилевскому), а только независимость и сила государственного положения.
Но надо бы при этом спросить себя: долго ли продержатся эта сила и независимость – без своеобразия культурного характера?
Я нападаю на политику национальных освобождений и объединений в XIX веке, потому что она в жизни не дает национальных результатов; я нападаю на нее за то, что она самообман; за то, что у нее не оказывается вовсе никаких национально-обособляющих плодов.
Я повторяю еще раз – в XIX веке. Ибо подобные освобождения и объединения случались и прежде, но, при других одновременных побочных условиях, – они действовали совершенно иначе.
В те времена, когда освобождающиеся от чуждой власти народы были руководимы вождями, еще не пережившими «веяний» XVIII века, – эмансипация наций не только не влекла за собой ослабление влияния духовенства и самой религии, но имела даже противоположное действие: она усиливала и то, и другое. В русской истории, например, мы видим, что со времен Димитрия Донского и до Петра I значение духовенства, даже и политическое, все растет, и само Православие все более и более усиливается, распространяется, все глубже и глубже входит в плоть и кровь русской нации. Освобождение русской нации от татарского ига не повлекло за собою ни удаления духовенства с поприща политического, ни уменьшения его веса и влияния, ни религиозного равнодушия в классах высших, ни космополитизма в нравах и обычаях. Потребности русской племенной эмансипации во времена св<ятого> Сергия Радонежского и Князя Ивана Васильевича III сочетались в душах руководителей народных не с теми идеалами и представлениями, с которыми в XIX веке сопрягается национальный патриотизм в умах современных вождей. Тогда важны казались права веры, права религии, права Бога; права того, что Владимир Соловьев так удачно зовет Боговластием.
В XIX веке прежде всего важными представляются права человека, права народной толпы, права народовластия. Это разница.
Подобных же сравнительных примеров обоего рода мы можем найти несколько и в истории Западной Европы. И там раньше провозглашения «прав человека» ни племенные объединения, ни изгнания иноверных или иноплеменных завоевателей не влекли за собой либерального космополитизма, не ослабляли религии; не уничтожали дотла и везде ни дворянских привилегий, ни монархического всевластия… Религия (какая бы то ни была) везде усиливалась и как бы обновлялась после этих объединений и изгнаний. Что касается до монархии и аристократии, то хотя в одной стране первая усиливалась на счет второй, а в другой – вторая на счет первой, но нигде они ни религию, ни друг друга до полного бессилия не доводили. Всего этого достиг в конце XVIII века и в XIX «средний класс»; все это совершили те «средние люди», в которых теперь все и сверху, и снизу, волей или неволей стремятся обратиться.
«Собирание» Франции начало быстрее совершаться при набожном Людовике XI, после изгнания англичан при отце его Карле VII, и окончилось (если взять в расчет централизационную деятельность Ришелье) приблизительно ко времени тоже набожного Людовика XIV.
Это объединение ничуть не поколебало во Франции католических чувств… Напротив того, эти чувства во время борьбы с заносным протестантизмом дошли, как известно, до фанатических крайностей.
Протестантство едва-едва добилось наконец до равноправности, но до преобладания ни разу не достигло…
Национальное объединение Франции не поколебало в ней тогда ни одной из национальных основ. Сочетание этих основ между собою, изменяясь значительно в XV и XVI веках, не только не сделало Францию более схожей с остальным миром, но, напротив того, яснее и гораздо выразительнее прежнего обособило ее культуру.
И в Англии, и в Шотландии одинаково преобладало издавна англо-саксонское племя над кельтическими остатками. В начале XVII века[11], при Иакове I, эти две державы соединились. Династия царства слабейшего вступила на престол сильнейшего царства.
И это было племенное объединение; и это было благоприятное решение национального вопроса. Но оно ничуть не сделало великобританцев эгалитарными космополитами в нынешнем общечеловеческом смысле. Напротив того, либерально-аристократический характер учреждений определялся после этого постепенно все яснее и точнее. Характер церкви англиканской в эти именно времена, последовавшие за слиянием, выразил вполне свое исключительно местное, чисто национальное значение, обособился.







