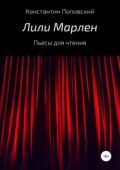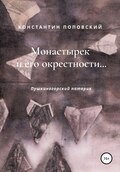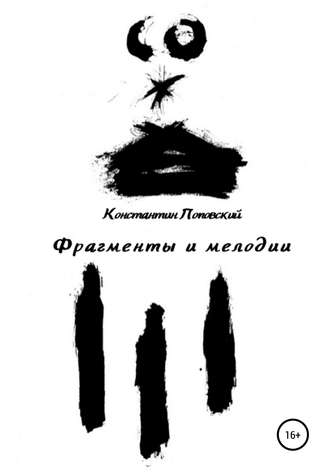
Константин Маркович Поповский
Фрагменты и мелодии. Прогулки с истиной и без
112.
Стоило мне открыть глаза после ночных странствий, вернувшись оттуда, где кошмары рождали фальшивые надежды, как я получил приглашение войти в Царствие Небесное. Приглашение исходило от голубой чашки китайского фарфора, которую я купил когда-то по случаю. К ней тотчас присоединилась стоящая со вчерашнего дня на моем столе ветка жасмина, а медная статуэтка прошлого века, доставшаяся мне по наследству, посоветовала оставить все сомнения, пообещав, что там, куда меня приглашают, я буду желанным гостем. – Напоминание о сомнениях было нелишним. Ведь почти все книги в моей библиотеке в один голос утверждали, что мое место как раз в гиене огненной. Относительно прочего все они придерживались самых противоположных суждений.
113.
Кажется, уже не впервые спрашиваешь ты о моем имени, – как будто это самое простое дело на свете, – назвать имя. Как знать, возможно, когда-нибудь я и сумею назвать его, но, разумеется, не прежде, чем узнаю его сам. Случится ли это, когда я достигну конца пути или этому суждено произойти уже там, за той чертой, где кончаются все пути и начинается нечто, чему нет названия ни на одном языке, – кто знает? Не знаю я и того, захочешь ли ты повторить тогда свой вопрос. Быть может, и для меня самого ответ на него уже не будет иметь никакого значения. – Оттого, вероятно, я не уверен сегодня даже в том, стоит ли отдавать свое время ожиданию…
114.
– Да вы вконец изолгались!
Что за восхитительная похвала! Неужели, я, и в самом деле, заслужил ее?
115.
Оглядываясь вокруг, вспоминая и прислушиваясь, невольно начинаешь испытывать беспокойство. Куда ни посмотришь, всюду взгляд проваливается во что-то рыхлое, едва оформленное, невнятное, неопределенное. Рыхлые лица, рыхлые глаза, рыхлые мысли. Рыхлые проповеди с церковных кафедр. Рыхлая, смутная вера, – она походит на спитый чай. Рыхлые убеждения, которые расползаются, словно забытые с прошлого года гнилые яблоки. Рыхлые книги, напоминающие переваренную вермишель. Рыхлые речи политиков, невнятно вещающих об «общечеловеческих ценностях» или «защите наших священных традиций». Рыхлые выставки, фестивали, ярмарки, собрания, резолюции. Неопределенные очертания всего: слов, улыбок, встреч, судеб, самой жизни и самой смерти, – не то они есть, не то только мерещатся. Вне подозрений остаются только дети, всегда безмолвное небо, да этот лес, – по-прежнему хранящие верность своему Создателю.
Что же еще остается, как не это, единственное: пробиваться сквозь это мутное, рыхлое, смазанное, невнятное, не зная – куда и не зная – как, но только бы – отсюда?..
116.
Мы очень богаты, – говорим мы без тени смущения.
Что же это за богатства, которыми мы так гордимся?
Конечно же, это кровь, текущая в наших жилах. Конечно же, это форма носа, цвет волос и разрез наших глаз. Конечно, это и язык, на котором мы лепечем наши милые глупости о «национальном интересе» или «судьбе народа». Кажется, есть у нас и еще кое-что. Ах, да, чуть было не забыл. Это «еще» называется «наши традиции». Разумеется, они всегда – «великие», ведь иначе они, конечно, ни были бы нашими. Великие традиции, естественно, предполагают и великое Прошлое, и не менее великое Будущее. Что же касается Настоящего, то разве Прошлое и Будущее – не достаточные поручители за наш сегодняшний день? К тому же, посмотрите: разве не остались все наши богатства при нас? Придет день – и мы пустим их в оборот, – мы, – гордящиеся текущей в наших жилах кровью и местом, где нам довелось родиться…
Опровергнуть притязающую на роль истины кровь, конечно же, нельзя, как нельзя опровергнуть эту нищету, все утратившую и ничего не умеющую, кроме одного: цепляться, перед лицом неизбежного, за последнее, что у нее еще осталось.
117.
ГЕРАКЛИТ. ФРАГМЕНТ 40 ДК. «Многознание уму не научает, – говорит этот фрагмент, – а не то оно научило бы Гесиода и Пифагора, равно как и Ксенофана с Гекатеем».
Это значит, конечно, что искать следует не «это» или «то», а что-то совсем другое, все-превосходящее, единственное, – то, научающее «уму», в чем (или благодаря чему) все остальное раскрывает себя в своей истинности. Знание остального, каким бы обширным оно ни казалось – не «знание» в точном смысле этого слова, ибо в подлинном знании вещи, события, люди и звезды, время и пространство, и даже боги выступают в своем подлинном обличии, они поворачиваются к нам лицом, сохраняя верность и послушание тому единственному, в лоне которого они рождены, благодаря которому они предстают, как истинные, и о котором не перестают свидетельствовать самим своим существованием.
Не так многознание. Если не бояться идти до конца, то его следовало бы сравнить с вероломством и предательством. Вероломством, нарушившим священную изначальность договора, и предательством, предающим свои собственные корни и истоки. Не от этого ли вероломства, и не от этого ли предательства рушится небо и размыкается под ногами земля? Не здесь ли скрыта и тайна рождения самой метафизики? Не здесь ли зачинается она – пережившая Истину? И если так, не знаменует ли этот уход того единственного, которое мы ищем? И сам этот уход, уходящий прочь от мира, не делает ли он мир чужим, – и для нас, и для самого себя?
Многознание: встреча с миром в его покинутости, в его окаменевшем самодовольстве.
Есть ли о чем сожалеть, глядя на него? И не сама ли Дике, богиня правосудия, заставила Анаксимандра произнести пророчество, предрекающее гибель мира и его вещей: «из каких начал вещам рождение, в то же самое и гибель совершается по роковой задолженности».
Впрочем, ведь и сам Анаксимандр мыслил и говорил на языке метафизики. Быть может, поэтому эта справедливость, кажущаяся столь незыблемой, и не станет тем последним словом, которое нам доведется услышать. И слезы Гераклита – не вечны.
118.
Но что же это такое за Единственное, которое столь желанно? Оно – все рождающее и все возвращающее самому себе? Не указывает ли к нему путь Демокрит, готовый отдать царскую власть и все богатства мира за знание одной-единственной причинной связи, способную научить нас истине? Все, кто когда-либо приносил метафизике присягу на верность, понимали это именно так. И, однако, дело здесь все же заключается не в причинах, способных объяснить все, что нуждается в объяснении, а в чем-то другом. Причины, – это ведь тоже только «остальное», – и как бы ни велика была их прячущаяся в тени власть, они все равно остаются только следствием, но не истоком. Немудрено, что метафизика всегда была занята именно этим «остальным», проживая в его границах и кормясь от его сомнительных щедрот. – Да разве единственно-научающее – само не похоже на «причину»? Не лежит ли оно в основании, властвуя и управляя? – Что ж, – спросим в свою очередь и мы, – разве Истина подобна тени, убегающей от света, но с неизбежностью остающейся позади? Не всегда ли она рядом, открытая, как открыты зеленеющие под открытым солнцем поля? И не о том ли простые и на все лады повторяемые, но никак не услышанные слова Гераклита (фрагмент 17 ДК): «Большинство не воспринимают вещи такими, какими встречают их, и, узнав, не понимают, но грезят».
Не отдаю ли и я дань этой грезе, спрашивая: что же это за единственное, которое так желанно?
119.
К слову сказать, верно также и то, что и многописание тоже «уму» не научает, – как бы глубоко и зорко оно ни было. Ведь, в конце концов, книга – это всегда только поиск и путь, – как ни прекрасны они, но найденное и постигнутое в конце пути, все же во сто крат его превосходит, как солнечный свет превосходит свет светильника. Сама книга, правда, полагает, что она рассказывает именно о найденном. И, похоже, так оно и есть. Дело только в том, чтобы не спутать это найденное с его утомительными поисками, занимающими миллионы страниц. Ведь само найденное может легко уместится всего в одной фразе-строчке. Да, пожалуй, и это слишком много. Ведь и эту фразу легко выговорить простым кивком головы или доверить ее молчанию. Все остальное – только пройденный и забытый путь.
120.
«Многознание», конечно, нечто совсем иное, чем «ум», которому оно не может научить. «Многознание» учит только многознанию, – «ум» же, похоже, смотрит совсем в другую сторону, – может быть, даже прямо противоположную и многознанию и, кто знает, – самому знанию. Сказанное, конечно, ничего не прибавляет ни к нашему пониманию «ума», ни, тем более, к уяснению той «стороны», куда он обращен. Комментаторы охотно объяснят нам, что «ум» Гераклита занят общей и единой основой для всего многообразного множества явлений, тогда как многознание как раз довольствуется этим лежащим под рукой сомнительным материалом, который, не будучи уловлен сетью единого, расползается в ничем не обоснованные беспочвенные мнения. Это представляется тем более верным, что может быть отнесено не только к Гераклиту, но ко всем кто мыслил и до, и после него. Правда, несомненное и самоочевидное имеет обыкновение ослеплять тех, кто безоговорочно доверяется его чарам. Указанное комментаторами, разумеется, безусловно верно, но лишь потому, что сам Гераклит, как и все «мыслящие», говорит именно на метафизическом языке, – том самом, который один открывает нам «единственное» и «последнее», столь же далекое от любопытствующего многознания, как тени платоновской пещеры от порождающих их первообразов. И в самом дел: все, что Гераклит рассказывает, как о не вызывающей сомнение Истине, – все эти «Огонь», «Логос», «Порядок», «Закон», «Мера» и прочее, – обнаруживает себя в этом языке, – или, может быть, лучше сказать: дает сотворить себя этому языку? – или же: становится возможным благодаря ему? – как бы то ни было, суть от этого не меняется: единственное и последнее, лежащее в основании нашей жизни и нашего мира, приоткрывается нам в такой близости к языку, на котором оно выговорено, что, пожалуй, у нас нет не только возможности сказать, где кончается одно и начинается другое, но и утверждать, что нам известно, какое из двух названных является причиной другого. Сам Гераклит так, конечно, не думал: «уму» (который ведь состоит в прямом родстве с языком) именно научаются, и научаются у того, что выше всякого «ума» (хотя и этот последний тоже состоит в прямом родстве с научающим). Да, собственно говоря, у кого нам еще учиться и на каком еще языке разговаривать, как ни на том, который приводит нас в Царство Последнего? Есть разве у нас другой язык, способный запечатлеть Увиденное? И все же кое-что здесь настораживает. Ну, например, отчего это научающее нас Последнее и Единственное – никогда не научает нас раз и навсегда? Отчего оно всякий раз является нам в новых одеждах и под разными именами? Разве все эти Огонь, Дух, Воля, Эйдосы, Бытие и Благо, Бог, Материя и Природа говорят об одном и том же? – о том единственном, которого мы ищем? Разве не ускользает оно – это единственное – всякий раз оставляя в наших руках только звучные имена и роскошные одеяния, которые мы храним в наших библиотеках и музеях? Не здесь ли и царит подлинное многознание, не научающее «уму», но научающее осторожности и оглядке?
Не обстоит ли дело так, что то ускользающее единственное, о котором идет речь, вовсе не нуждается ни в каком языке? И в этом ускользании, оставляющем вместо себя лишь имена и пустые одежды, и состоит его истинная «природа»? Не в эту ли «сторону» и смотрит «ум», и ни у этого ли Ускользающего хочет он обучиться?
Не спросить ли нам тогда: правда ли, что Гераклит рассказывает о том, о чем он действительно хотел бы рассказать? Быть может, тот язык, на котором он говорит, на котором говорили и до и после него, и сам этот «ум», обучающийся у имен, – есть только тень теней (или – следуя прежде сказанному – тени, обнаруживающие другие тени или даже их порождающие?) Но тогда и все эти метафизические пространства, возможно, – лишь раскрашенные декорации, меняющиеся от действия к действию, – а ускользающее от всех имен Единственное живет, быть может, совсем не в тех местах, где мы привыкли его искать, и говорит совсем не на том языке, на котором мы к нему привычно взываем. Не бродит ли оно по дорогам и тропам нашего мира, среди того многообразного множества, которое так презирает «ум»? Не здесь ли и Дом его, которым оно управляет мудро и с любовью, вечно пребывая в общении с вещами, небом и землей, не научая и не поучая их, а лишь оберегая и сохраняя то, чему они могут научить сами? Что же и остается нам тогда, как ни прислушаться к этой беседе и, быть может, принять в ней участие? Но прежде, нам следовало бы овладеть искусством перевода, силящимся разглядеть за чужим и враждебным нам языком наши собственные лица, – искусством, перелагающим суеверные и нелепые басни на язык ветра, леса и моря. Быть может, мы услышим тогда, о чем в действительности говорят Гераклит, Анаксимандр или Платон, о чем говорим и все мы – не решаясь признаться даже самим себе, что мы владеем языком, ничуть не похожим на тот, на котором говорит метафизика.