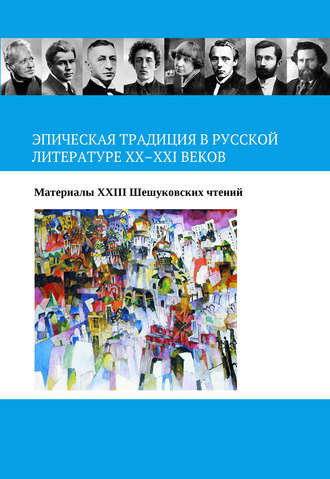
Коллектив авторов
Эпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
«Богостроительские» подтексты в рассказе М. Горького «Рождение человека»
С.В. Тихомиров /Москва/
Аннотация: В статье рассматриваются философские подтексты рассказа М. Горького «Рождение человека» и высказывается мысль, что на его концепцию сильное влияние оказали «богостроительские» идеи писателя, явившиеся оригинальным синтезом воззрений таких европейских мыслителей, как Л. Фейербах, О. Конт, К. Маркс и Ф. Ницше.
Ключевые слова: атеизм, Бог, Богородица, богостроительство, Горький, Конт, Ницше, сверхчеловек, Фейербах, христианство.
Насколько нам известно, рассказ «Рождение человека» (1912) никогда не рассматривался в связи с «богостроительскими» теориями Горького, между тем он проникнут ими в не меньшей степени, чем знаменитый финальный монолог Сатина о Человеке из пьесы «На дне» (1902) и рассказ-трактат «Человек» (1903), являющийся, согласно комментарию самого писателя, философским разъяснением тех мыслей, которые он вложил в сатинский монолог.
В узком плане «богостроительство» Горького – это тот круг воззрений, который он разделял с выделившейся после революции 1905 года внутри РСДРП(б) группой теоретиков, прежде всего А. В. Луначарским, В. А. Базаровым и А. А. Богдановым, стремившимся дополнить сухую марксистскую теорию необходимым для воодушевления масс особым религиозным чувством, в чем-то повторяющим прежнюю христианскую религиозность, но одновременно дающим ей принципиально новое содержание – на место Бога традиционной религии ставился отвергающий его и как бы его заменяющий Человек как объект религиозного культа. Как известно, прямой иллюстрацией «богостроительских» теорий является повесть Горького «Исповедь» (1908), в финале которой в явной форме проводится идея необходимости создания Нового Бога и называется его создатель – сам народ в его коллективном единстве.
Один из источников теоретической конструкции «богостроителей», конечно, образ Сверхчеловека из «мифопоэтического» трактата Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883-85). «Богостроителям» импонировал радикальный атеизм Ницше, отрицавшего все «священное» и «божественное» как иллюзии, которыми пробивалось прежнее человечество, культивировавшее созерцательно-пассивное отношение к миру («Бог умер»), и не меньше – провозглашенный им культ силы, т.е. не сдерживаемого никакими «божественными» запретами жизненосного активизма, вступающего в противоречие со всеми традиционными социальными и моральными нормами.
Ницше, несомненно, влиял на Горького еще до его конкретных контактов с «богостроителями». Не будет преувеличением сказать, что с философской точки зрения все раннее творчество писателя – это вдохновленный откровениями Ницше о Сверхчеловеке поиск некоего, как он выражался, «красивого и сильного человека», который был бы живым контрастом массе слабых, скучных, компромиссных людей, склоняющихся перед общепринятыми социальными и моральными установлениями, именуемыми им, вслед за Ницше, «мещанскими» (в оскорбительном для этих установлений смысле) и, вслед за Ницше же, приравниваемыми им к христианской этике в целом, столь же, в глазах и того и другого, «жалкой» и столь же «компромиссной». И Лойко Зобар, и Рада, и Лара, и Данко, и Изергиль в ее юности, и Челкаш, и Мальва, и Сокол, и Буревестник – все это разные варианты человеческого и, потенциально, сверх-человеческого активизма, сознательно или бессознательно бунтующие против отживших норм христианско-«мещанской» этики.
Ко времени написания «На дне» и «Человека» на эти восходящие к Ницше представления у Горького накладывается другая традиция европейской философской мысли. Когда в «На дне» Сатин рисует в воздухе фигуру Человека, как бы вмещающую в себя все человечество, а в трактате изображается некий также в себя вмещающий весь человеческий род Человек-Обобщение, Человек-Символ, упорно шествующий «вперед и выше», то тут перед нами явственно предстают по крайне мере два комплекса идей.
Первый – это основывающаяся на апологии человеческого разума просветительская вера в прогресс, с наибольшей отчетливостью запечатленная в таких культовых текстах эпохи Просвещения, как «Воспитание человеческого рода» Г.Э. Лессинга (1780) и «Очерки исторической картины прогресса человеческого разума» Ж. Кондорсе (1794).
Второй комплекс идей без особого труда вычитывается из слов «Все в Человеке – все для Человека», имеющихся и в трактате, и в пьесе. В трактате они расшифровываются так: бесконечно прогрессирующая человеческая мысль в своем историческом движении-развитии переживает «моменты утомления», и тогда она «творит богов», которых «в эпохи бодрости», напротив, «низвергает» [1, с.362]. По Горькому, все боги и все религии созданы человеческой мыслью, и это, с одной стороны, свидетельствует о ее ложной направленности, но с другой – о ее поразительной духовной силе, мощи и величии. Дело за малым – ту энергию, которую человек отдавал на сотворение богов, со временем обязательно превращавшихся в угнетающее и унижающее его начало, необходимо «вернуть» самому человеку, чтобы он наконец-таки смог поверить в самого себя как в Бога.
Откуда этот комплекс идей у Горького? Тут следует назвать два знаменитых сочинения 40-х годов ХIХ века – книгу Л. Фейербаха «Сущность христианства» и книгу О. Конта «Система позитивной политики, или Социологический трактат, учреждающий Религию человечества». И в том и в другом сочинении проводится мысль о необходимости переориентации человека и человечества с религиозного мироощущения на атеистическое, внерелигиозное. Вместе с тем у Фейербаха и, еще заметнее, у Конта действительно утверждается и провозглашается нечто вроде «человеческой религии», религии Человека – человечества – человеческого рода, долженствующей занять место религии прежней.
По учению Фейербаха, человек «отчуждает» лучшие свои качества – способность к познанию и самопознанию, моральному, этически правильному поведению, любви к другому человеку и т.д. – в некое духовное, умозрительное «пространство» и поклоняется этим своим качествам как где-то вне его самого существующим качествам Бога. Между тем, полагает Фейербах, все эти вещи сами по себе, от природы, «священны» и «божественны», и человеку нужно лишь осознать, что, поклоняясь своим же собственным качествам в образе богов или Бога, он раздваивает свое существо и обедняет себя, а если бы ему удалось осознать, что то, что он считает «божественным», находится не вне его, а внутри него самого, что «божественное» – это он сам, что его любовь к Богу на самом деле есть его любовь к «человеческому роду» и к себе самому как одному из его бесчисленных индивидуальных проявлений, то внутренний разрыв был бы преодолен и реально восторжествовала бы формула, придуманная философом для описания идеальных отношений между людьми, избавившимися от всех противных человеческой природе «отчуждений»: Человек человеку Бог.
Конт, основатель позитивизма, апологет научного знания, по определению не признающий никаких «теологических» объяснений мироустройства, но всегда мечтавший, вслед за своим учителем А. Сен-Симоном, о справедливо и гармонично устроенном социуме, где будут преодолены все конфликты между классами и сословиями и отношения между людьми будут основываться по преимуществу на принципе альтруизма, мыслит проект этого счастливого общества будущего по образцу социальной организации, выработанной католической церковью в Средневековье: там социальный хаос преодолевался единством и моральным авторитетом католической веры, теперь – он будет преодолен внерелигиозной философией позитивизма, которая на новом витке развития человечества якобы больше подходит для идеально-человечной организации социума; многие ритуально-организационные моменты в структуре нового общества прямо берутся Контом из опыта католической церкви, и новым именованием философии позитивизма, как более точное его обозначение, у позднего Конта становится как раз словосочетание «Религия Человечества».
Что собственно «богостроительского» в «Рождении человека»? Обыкновенно этот рассказ поражает читателя прежде всего своим необычным сюжетом – во всех подробностях рассказанной автором историей о том, как ему случилось однажды, осенним утром 1892 года, «между Сухумом и Очемчирами», принимать роды у простой русской крестьянки из Орловской губернии. Многим памятен также знаменитый афоризм из этого рассказа «Превосходная должность – быть на земле человеком» [3, с.8], обыкновенно (как и сатинские афоризмы о Человеке) толкуемый в общегуманистическом духе. Ссылка на нечто «общегуманистическое», однако, мало что дает, и правильнее было бы толковать эту фразу именно в «богостроительском» ключе.
Первое доказательство. Вскоре после этой фразы у Горького идет такой текст: «и солнцу часто очень трудно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а – не удались людишки… Разумеется, есть немало и хороших, но – их надобно починить или – лучше – переделать заново» [3, с.8]. Понятно, что это мысли не столько солнца, сколько автора-рассказчика. Людей плохих, неудачных представителей человеческой породы, много, хороших – значительно меньше, но и их «надобно переделать заново». Вспоминается идея Ницше о том, что современный человек, как антропологический тип, совершенно неудовлетворителен и нуждается в преодолении. Ницше пророчествовал о рождении Сверхчеловека. О чем пророчествует Горький? Безусловно, о чем-то подобном. Недаром же рассказ называется – «Рождение человека». В названии слово «человек» дается с маленькой буквы, но явно подразумевается большая (в трактате «Человек» слово «Человек» везде написано с большой – как своего рода контрастная параллель к тому, что в русской письменной традиции с большой буквы пишется слово «Бог»). В рассказе, конечно, нигде прямо не говорится, что крестьянка рождает Человека какого-то нового типа. Перед нами вроде бы всего лишь бытовая картинка, выписанная со скрупулезностью, свойственной жанру физиологического очерка. Тем не менее символический подтекст горьковского «физиологического очерка» очевиден: когда-нибудь такой человек родится, он должен родиться, и почему бы не этой самой крестьянке произвести его на свет?
Второе доказательство. Когда ребенок появляется из чрева, он кричит, крепко сжимая маленький кулачок, и его крик сопровождается следующим комментарием принимающего роды рассказчика: «Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут…» [3, с.13]; а по поводу сжатого кулачка сказано, что новорожденный тем самым «словно вызывает на драку с ним». Данные высказывания прозрачно заострены против основополагающей христианской максимы «любви к ближнему». По Горькому, нужно не смиряться с невзгодами жизни, а изо всех сил сопротивляться им. Ницше учил о любви не к «ближнему», а к «дальнему» – все тому же самому долженствующему когда-нибудь появиться-родиться Сверхчеловеку, который, в отличие от христианина, по Ницше – слабого и пассивного существа, испытывающего в отношении физически отменно-здоровых и сильных личностей чувство, именуемое им «рессантимент» – смесь зависти, обиды и мстительности, – способен на реализацию в жизни другой установки – активного самоутверждения в ней, не исключающего жестко осуждаемых христианской этикой моментов дерзкой агрессивности. Тому же, судя по всему, учит и Горький. Любезные сердцу Ницше витальность и агрессивность как естественные проявления могучего физического здоровья специально подчеркиваются автором рассказа в облике новорожденного: «ребенок орет орловским басом», «этот красный человечище», «буйный орловец». (Следует отметить, что ничего даже отдаленно подобного нет в ни в учении Фейербаха, ни в учении Конта.)
Третье доказательство. В рассказе не раз упоминается один из главных евангельских персонажей и один из важнейших объектов христианского культа – дева Мария, мать божественного младенца и Богочеловека Иисуса Христа. Всякий раз ее имя поминает сама роженица. Впервые – когда кормит ребенка: «Пресвятая, пречистая…»; чуть позже – когда, «подняв тяжелую руку», «медленно крестит» его и себя: «Слава Те, Пречистая Матерь Божия… ох… слава Тебе…» [3, с.13]; еще позднее – когда, не успев толком оправиться после родов, собирается догонять других работников с только что родившимся ребенком на руках: на вопрос рассказчика, сможет ли она идти, она уверяет, что, конечно же, сможет, потому что «Богородица», в помощь которой она искренне верит, непременно ей «пособит». Зачем этот мотив? А затем, что героиня рассказа – если опять-таки говорить не о документально-фактографической его основе, а о том «богостроительском» мифе, который вписан в него автором, – тоже на свой лад Богородица. Евангельская Богородица родила христианского Бога, Иисуса Христа, давшего людям великую, но, в глазах Горького, исторически не оправдавшую себя религию, а эта орловская крестьянка рождает нового Бога – Бога как Человека с большой буквы. Причем, похоже, Горький сознательно «дублирует» в судьбе своей героини некоторые моменты судьбы евангельской Девы Марии. О муже крестьянки, отце ее ребенка, сказано, что он недавно умер, и, следовательно, в момент, когда младенец рождается, у него нет реально-физического отца. Не отсылка ли это к евангельскому тексту, согласно которому у младенца Иисуса была земная мать, а вместо земного отца был «Отец Небесный», чистый Дух? Кроме того, фразу о недавней смерти отца новорожденного младенца, в котором автор усматривает проект «божественного» Человека нового типа, допустимо, как нам кажется, истолковать еще и как намек на знаменитую фразу Ницше о «смерти Бога»: традиционный, христианский Бог умер, и вот рождается нечто его бесконечно превосходящее – новый Бог в образе Человека как Бога. Далее. Младенец Иисус родился не на родине его матери и его условного отца Иосифа – не в Галилее, а в Вифлееме, куда они вынуждены были переместиться из-за случившейся переписи населения. Подобным образом «красный человечище» в горьковском рассказе появляется на свет не на родине его родителей – Орловищине, а на юге России, куда, спасавшиеся от страшного голода, они были занесены судьбой в поисках хоть какой-нибудь работы. И еще одна параллель: сын, рожденный у орловской крестьянки, – ее первенец («Первый у тебя?» – спрашивает рассказчик, «Первенькой…» – отвечает она), и точно так же, согласно церковному учению, Иисус Христос – первый (и единственный) сын девы Марии.
В то же время Горький последовательно переосмысляет все «мистические» моменты в образе христианской Богородицы как проигрывающие перед вполне земным, «конкретно-реалистическим» обликом Богородицы нового типа. В рассказе рождение нового Бога в образе Человека дается с сильным акцентированием телесно-физиологического характера этого рождения – в явном контрасте с тем, как рождение Иисуса Христа понимается в христианской богословской традиции, где телесно-физиологический момент практически полностью нейтрализован: христианское богословие настаивает на том, что рождение божественного сына ни в малой мере не помешало деве Марии сохранить свою девственность. Здесь у Горького налицо близость не только и не столько даже с Ницше, сколько с фейербаховской апологией чувственно-телесного начала. Подобно тому как у Фейербаха чувственно-телесное онтологически реальнее всех метафизически-духовных абстракций, поскольку, в его понимании, само телесное изначально является «святым» и «религиозным», а «отчуждение» телесного на Небеса, где оно превращается в чисто духовное, есть грубая ошибка слишком христиански-ориентированного человеческого разума, – у Горького в рассказе как «священный» преподносится сам акт рождения во всем его грубо-материальном физиологизме. Совершенно в духе Фейербаха глаза родившей ребенка орловской крестьянки Горький называет «прекрасными» и «святыми» («потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза – святые глаза родительницы» [3, с.13]).
И, наконец, самое существенное в плане расхождения с ортодоксальным христианством, но расхождения вместе с тем им же, его системой идей, и питаемое. Крестьянка убеждена, что Богородица поможет-«пособит» ей найти в себе силы, чтобы догнать с новорожденным младенцем на руках ушедших вперед работников. Подтекст очевиден: если в вера в Богородицу дает душе крестьянки такие колоссальные силы, то какой бы силой обладала она, если бы эту веру в Богородицу смогла преобразовать в другую веру – веру в нового Бога, Бога-Человека, ею самой рожденного в мир. Буквально ту же самую мысль, но только более развернуто, Горький высказывает в финале своей программно-«богостроительской» повести «Исповедь»: во время крестного хода, когда народ несет чудотворную икону Божией Матери, он так верит в нее и в ее силу, что открывает в самом себе – земную, человеческую, а говоря по-фейербахиански, «не отчуждаемую» в абстрактное пространство Небес – силу, благодаря которой, почувствовав ее и воодушевившись ею, больная девушка, четыре года лежавшая без движения, выздоравливает;
она обретает способность двигаться, и объяснение этому феномену дается вот какое – не Бог своим внешним усилием исцелил ее, совершил чудо (как то делает евангельский Иисус, оздоровляя «расслабленного»: «Встань, возьми постель свою и иди…»), а она сама совершила чудо, когда поверила в свою способность двигаться, зарядившись энергией коллективного воодушевления («Помню пыльное лицо в поту и слезах, а сквозь влагу слез повелительно сверкает чудотворная сила – вера во власть свою творить чудеса» [2, с.377]).
Литература
1. Горький М. Собр. соч. в 30 тт. Т.5. – М.: ГИХЛ, 1950.
2. Горький М. Собр. соч. в 30 тт. Т.8. – М.: ГИХЛ, 1950.
3. Горький М. Собр. соч. в 30 тт. Т.11. – М.: ГИХЛ, 1951.
4. Конт О. Религия человечества // Конт О. Общий обзор позитивизма. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.
5. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Т. 2. – М.: Мысль, 1990.
6. Фейербах Л. Сущность христианства // Фейербах Л. Избранные философские произведения в 2 тт. Т.1. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1955.
“God-building” subtexts in the story of M. Gorky “The Birth of man”
Abstract: The article comprises the philosophical subtexts of the story of M. Gorky “The Birth of man” and expresses the idea, that his conception was strongly influenced by the “God-building” ideas of the writer, which were the original synthesis of the views of such European thinkers as L. Feuerbach, O. Kont, K. Marx and F. Nietzsche.
Keywords: atheism, Christianity, God, God-building, Gorky, Kont, Nietzsche, the overman, Feuerbach, Virgin
Информация об авторе: Тихомиров Сергей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент, МПГУ.
Information about author: Tikhomirov Sergey Vladimirovich, candidate of philological sciences, docent, Moscow Pedagogical State University.
Мотивы «богоискательства» и «богостроительства» в повести Максима Горького «Исповедь» и в романе Чингиза Айтматова «Плаха»
К.Г. Горбачёва /Москва/
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу мотивов «богоискательства» и «богостроительства» в повести М. Горького «Исповедь» и в романе Ч. Айтматова «Плаха». В статье обосновывается влияние исторической ситуации на трансформацию идей «богоискательства» и «богостроительства» на заре и на закате XX века, выявляются общие гуманистические истоки, делается вывод о схожести религиозных установок и различии аксиологических идей данных произведений.
Ключевые слова: мотивы богоискательства и богостроительства, догматизм, диалектический марксизм, повесть «Исповедь» и творчество М. Горького, роман Ч. Айтматова «Плаха».
На заре и на закате XX века русская интеллигенция и простой народ, преодолевая духовно-исторические кризисы – крушение самодержавно-православной России и предперестроечный упадок в СССР, – искали спасение через осмысление религиозно-нравственных вопросов. Часто идея «богоискательства» превращалась в ревизионизм традиционного христианского (православного) учения. Например, идея «Третьего Завета» группы символистов: Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус и Д. В. Философова. Особо актуальной стала проблема синтеза марксистского диалектического философского метода и религиозно-христианских идей в формах, приближенных к гуманистическому идеалу. Трансформация идей «богоискательства» и «богостроительства» представляют для нас особый интерес в вычленении влияния исторической ситуации на философскую мировоззренческую позицию М. Горького и Ч. Т. Айтматова.
М. Горький и Ч. Айтматов – каждый в свое время – подверглись критике со стороны ортодоксального русского марксизма за свои богостроительные искания. Примечателен тот факт, что В. И. Ленин назвал повесть «Исповедь» и весь отраженный в ней каприйский богостроительный социализм Луначарского – Богданова «кокетничаньем с боженькой». Впоследствии в начале Перестройки эта цитата в виде названия статьи доктора философских наук И. Крывелёва «досталась по наследству» роману Ч. Айтматова «Плаха» [7, С. 4]. Так, используя критику Лениным «Исповеди» Горького, официальная марксистская идеология попыталась расправиться с художественной философией советского писателя.
Центральным мотивом «Исповеди» М. Горького и «Плахи» Ч. Айтматова является «богоискательство», сюжетно реализующееся в уходе двух героев из лона официальной церкви в бесконечный поиск по людским душам. Этот мотив объединяет другие мотивы, совпадая с основной темой произведений, максимально отражая авторские интенции.
«Я – атеист. В «Исповеди» мне нужно было показать, какими путями человек может прийти от индивидуализма к коллективистическому пониманию мира…» [3]. «Я пытаюсь совершить путь через религию к человеку, не к Богу, а к человеку!» (Ч. Айтматов) [9].
У главных героев-богоискателей повести «Исповедь» и романа «Плаха» библейские имена, своим значением указывающие на особую связь с Богом. Семантика имен реализуется в их судьбах, образуя мотив особого предназначения героев. Матвею – являющемуся – «Божьим даром», даровано будет познание истины богостроительства и причастность к судьбе единого Бога – народа-чудотворца. Преданному божьему служению Авдию, что означает «Слуга Бога», за свои богоносные убеждения будет уготована «Плаха» и мученическая смерть.
С мотивом особого предназначения связан и мотив «отцов-наставников и гармоничного религиозного детства». По сути, это трансформация житийного мотива праведных родителей.
С детства приученный к храму и молитве Матвей из «Исповеди» М. Горького, воспитанный деревенским дьячком Илларионом, «нежной, ласковый души человеком» [1. С. 222], воспринял от него его веру в «необъятного бога» [1. С. 271] – «мастера прекраснейших вещей» [1. С. 228]. Лучше всего Илларион говорил о Христе: «дитя чистое и прекрасное в неизречённой любви своей к народу, с доброй улыбкой всем, с ласковым словом утешения, – везде дитя, ослепительное красотою своею!» [1. С. 228] Мотив гармоничного религиозного детства также присущ богоискательскому сюжету об Авдии Каллистратове.
Отец его «воистину христианских добродетелей, к тому же прекрасно образованный», дьякон Иннокентий Каллистратов, рано овдовев, всю свою любовь направил на воспитание Авдия и сестры Варвары. Сам Авдий характеризует отца как человека умершего в ладу с самим собой и с Богом, хотя и понимающего всю формальность многих религиозных догматов и обрядов.
Итак, у обоих героев были праведные отцы наставники – «праведные родители», умеющие несмотря на догматические отклонения извлекать драгоценное содержание христианской веры, в отличие от сынов-максималистов, порывающих с религиозной традицией.
Философские основания богоискательской проблематики связаны с мотивом конфликта гармонического бытия природы и дисгармонического бытия людей. Несколько неортодоксальное понимание Бога, приближенное к пантеизму, зародило в душе юного Матвея восприятие Господа как образа эстетически прекрасного, дарящего людям чувство радостной красоты гармонического Бытия, связь человека с природным миром, лада с собою, мира с другими людьми.
Неслучайно одна из причин, заставивших столкнуться с проблемой Божественной теодицеи, – несовместимость земной красоты и ничтожества греховной жизни людей.
«В эти часы бог для меня – небо ясное, синие дали, <…> храм серебряный; реки, поля, звёзды и цветы – <…> всё божественное родственно душе. А вспомнишь о людях, <…> не сливается воедино красота божия с тёмной, нищей жизнью человеческой!» [1. С. 250].
Мотив конфликта гармонического бытия природы и дисгармонического общества, также будет заявлен и у Ч. Айтматова в романе «Плаха», где круговращение природы противопоставлено «карусели кровавых драм» человеческой жизни.
Мотивы «искушения» и «богоборчества» находятся в причинно-следственной связи с собственно мотивом «богоискательства». Так, забыв заветы своего названного отца Иллариона о том, что люди сами должны помогать себе, а Господь лишь является утешением в смертный час, герой «Исповеди» Матвей, нравственно неподготовленный к испытаниям в жизни, не имея силы духа устоять в житейском искушении, призывает Бога решить его проблемы. «Так низвёл я господа с высоты неизречённых красот его на должность защитника малых делишек моих, а бога унизив, и сам опустился до ничтожества» [1, С. 247].
Герой из-за любви соглашается на сделку с вором Титом, конторщиком, отцом любимой девушки, но после череды личных трагедий: пожара в нечестно построенном доме, потере любимой жены и гибели своего ребенка, герой проходит путь от богоборчества до богоискательства. Усомнившись в Божьей милости, герой лишь сильнее стал искать объективный закон Бытия, понимаемый Матвеем как Бытие Творца Богоблагостного и Всемогущего. Полемизируя с ветхозаветной книгой Иова, Матвей восклицает: «Иов, меня не касается! Я на его месте сказал бы господу: не пугай, но ответь ясно – где пути к тебе? – не унижай себя, отталкивая дитя твоё!» [1. С. 283]. Естественно, такое ренессансное представление о месте человека в мироздании, как равного Богу, хотя и окрашенное фанатической верой, не находит отклика у множества подобных ему богоискателей, для которых, как для язычников, бог выполняет отдельную функцию. «Вот <…> разобрали люди бога по частям, каждый по нужде своей, – у одного – добренький, у другого – страшный, попы его в работники наняли себе и кадильным дымом платят ему за то, что он сытно кормит их [1. С. 271]. Матвей готов быть учеником, но учеником непокорным, до всего доходящего сам, применяя свой разум и пламенное религиозное чувство, однако ортодоксальное православное смирение отвергается им. «Может, разум и заблуждается в исканиях своих, но бараном жить едва ли достойно и праведно для человека» [1. С. 270], отвечает он духовным наставникам –монахам.
Мы видим здесь мотив непокорного ученика-еретика, борца с догматами, в широком смысле мотив «богоискательства».
Для непокорного ученика, недоучившегося семинариста Авдия, героя романа «Плаха», богоборчества не существует, ведь Бог в его понимании – это прежде всего философская идея: «бесконечного совершенствования человеческого духа», в отличие от Матвея, чувствовавшего Бога как непосредственную реальность.
Авдий – «дитя времени сомнения», видя тотальный кризис общечеловеческих ценностей, считает своим долгом дать миру новое учение. «я буду искать новую, современную форму Бога, даже если мне никогда не удастся ее найти…» [2. С. 362], – клянется он. Понимание Авдием Творца зависит, как от вневременнного понимания, при котором идея Бога является неизменным этическим Абсолютом, так и от материалистической марксистской философии, духу которой он пытается противопоставить собственное учение, но невольно зависит от нее. «Традиционные религии на сегодняшний день безнадежно устарели, нельзя всерьез говорить о религии, которая рассчитана была на родовое сознание пробуждающихся низов [2. С. 361]. Мысль о Боге-современнике не покидает его мятущуюся душу, путь «богоискательства» герой понимает, как путь личного «богостроительства», так необходимой современной действительности с её культом денег и ядерных бомб. Чувствуя себя проповедником – божьим идеалистом, идущим к людям, пытающимся словом преодолеть материю зла, герой невольно отождествляет себя с Иисусом Христом, своим единственным духовным учителем.
Отождествление с Христом помогает Авдию стать христоподобным в ситуации искушения, столкнуться с наркоторговцем Гришаном, дьяволом в человеческом обличии, паразитирующим на духовном безверии народа и предлагающим провести людей в рай с «черного хода», то есть одурманить наркотическим дурманом. Эта схватка равных, в ходе которой, один будет нести свой крест, а другой – творить зло в саморазрушающемся материалистическом мире без духовных основ и Веры.
Личное богостроительство Авдия терпит фиаско. Ведь Бог не может быть умозрительно придуман, а религия, по словам самого Авдия, – продукт страдания многих поколений.
Реальная практическая проповедь о добре и покаянии среди заблудших, предпочитающих материальные наслаждения, духовным ценностям, также не возымела успеха, мученически оборвав его жизнь. «Ну что ж, на таких, как я, история отыгрывается, отводит душу…» [2. С. 347] – определяет герой свое место в мироздании, но именно герои-одиночки, по мнению Ч. Айтматова, являются двигателями духовного прогресса человечества, таков диалектический закон жизни устроения Бытия совершенствования человеческого духа, где «прозрение наступает через отрицания» [6].
Мотив «богостроительства» раскрывается в «Исповеди» Горького и в романе «Плахе» Айтматова через трансформацию идеи о «богочеловечестве». После долгого странствия по богомольной Руси, Матвей встречает своего ангела-благовестия Иону по прозвищу Иегудиил, бывшего священника, расстриженного за еретические мысли, который открывает Матвею правду об истинном Боге-богостроителе.
«Богостроитель – это суть народушко! Неисчислимый мировой народ! [1. С. 342]. Именно объединение трудового народа является для горьковских героев-идеологов: старца Ионы и рабочего Михаила синонимичным по смыслу второму пришествию Иисуса Христа – истинно народному Богу, созданным его волею. Любая героическая личность есть рупор воли народа, а сам Бог – есть Сын Духа человеческого, такое на первый взгляд, понимание сущности фейербаховского бога соседствует с представлениями о Боге у русской секты духоборов, для которых Бог проявляется в таких категориях как: «Отец-Бог – память; Сын-Бог -разум; Дух-Бог – воля. Бог-Троица – един» [5]. «Богостроительство» наряду с социальным толкованием трудового народа имеет и философско-аллегорическое толкование – совокупность всех творческих людей земли, бесконечно ищущих правду. «Люди делятся на два племени: одни – вечные богостроители, другие – навсегда рабы пленного стремления ко власти над первыми и надо всей землей. Захватили они эту власть и ею утверждают бытие бога вне человека, бога – врага людей, судию и господина земли. Исказили они лицо души Христа, отвергли его заповеди, ибо Христос живой – против их, против власти человека над ближним своим!» [1. С. 341]. В широком смысле это мотив противопоставления носителей идей царства духа и царства кесаря.


