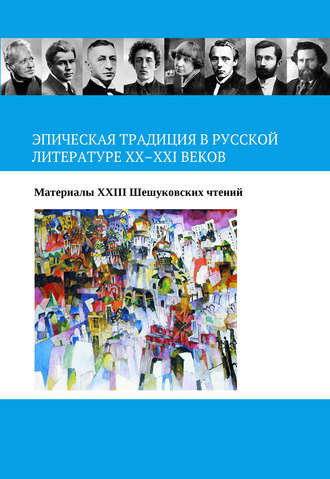
Коллектив авторов
Эпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
Деконструкция мифа о духовном пути Л. Толстого в прозе В. Пелевина
В.С. Симкина /Москва/
Аннотация. В статье исследуется реконструируемый в текстах В. Пелевина миф массовой культуры о духовном пути Л. Толстого, который оформляют такие концепты, как «непротивление злу», «опрощение», «страдание», «смысл жизни», «мир как воля и представление». Откровенная нарочитость мотивов творчества русского классика и доведение релевантного мифа о нем до абсурда выдают вторичность и пародийный характер философских исканий графа Т. в романе В. Пелевина «t», деконструирующего миф «дао Толстого». Анализируются стилистические приемы и художественные средства деконструкции мифа о духовном пути Л. Толстого, выкристаллизованного в массовой культуре.
Ключевые слова: миф, дао Л. Толстого, непротивление злу, опрощение, страдание, смысл жизни, солипсизм, деконструкция.
Виктор Пелевин, высвечивающий в своем творчестве контуры современного мира, образованного напластованиями языка (в соответствии с концепцией «мира как текста» Ж. Деррида), анализирует образы массового сознания, вскрывая их откровенную знаковость и условность, индуцирующие потребительский спрос. Сгущая стереотипы массовой культуры и доводя релевантные мифы до абсурда, писатель размывает устоявшиеся знаковые системы, высвобождая реальность из-под диктата языка.
В романах «Empire “V”», «t», «Бэтман Аполло» Пелевин прибегает к выкристаллизованному в массовой культуре мифу, который можно обозначить как «дао Толстого». Конструируют данный миф такие знаки, как «непротивление злу», «опрощение», «страдание», «смысл жизни», «мир как воля и представление».
Писатель рассредоточивает в своих текстах основные конвенции восприятия духовного пути Л. Толстого, оформляющие соположенный мифотворческий комплекс. Так, в романе “t” (2009) актуализируется концепт «умное неделание», восходящий к статье Л. Толстого «Неделание» (1893) и опосредующий толстовскую «этику ненасилия», или принцип «непротивления злу насилием», выступающий школьным ключом к постижению философских взглядов русского классика: «Умное неделание беззаботно. Если описать его на символическом языке момента, оно таково – Ваше Величество, вспомните, что вы император, и распустите думу!» [8, c. 318]. Концепция «непротивления злу» в качестве опознавательного знака аксиологических ориентиров Толстого преломляется в творчестве Пелевина в многомерную философскую конструкцию, в которую встраиваются: а) созерцательная пассивность У-вэй (недеяние), принятая в даосизме и обуславливающая принцип невмешательства; б) китайский военный канон «умное неделание», подразумевающий исключительно со-действие и со-бытийность; в) исихастская практика умного делания, направленная на уничтожение греховных помыслов посредством перманентного чтения молитвы; г) категория «неделание» К. Кастанеды, выступающая произвольным актом замены стереотипного поведения другим действием.
Солипсистский ракурс творчества Толстого как этап духовного совершенствования писателя, героя которого, лицезреющего звездное небо, настигает озарение: «И все это мое, и все это во мне, и все это я!» [11, c. 494], – также попадает в оптику Пелевина, который активно сгущает смыслы вокруг концепта «мир как воля и представление»: «Он создает то, что видит сам» [8, c. 368]; «Вещи – это тоже мысли» [8, c. 333]; «Надо постоянно что-то думать, а то исчезну совсем, растворюсь, как сахар…» [8, c. 170] и т.д. Иноформами (термин Л. Карасева) стратегии мира как умозрительной проекции, отражающей работу сознания, в романе «t» оказываются зеркало, лед, очки.
Знак «опрощение» как маркер толстовского правдоискательства также заимствуется Пелевиным. Писатель не просто использует политически ангажированный конструкт «опрощение», указывающий на нонконформизм героев-толстовцев (например, Озириса из романов «Empire “V”» и «Бэтман Аполло»), но также насыщает текст романа «t» поливариантными бинарными оппозициями: деревня / город; простота, безыскусность / искусственность, нарочитость; труд / праздность; полезность, практичность / бессмысленность и т.д. Однако граф Т. из одноименного романа, не избавившийся от оценочного мышления на подступах к просветлению, рассуждает о добродетельной крестьянской жизни, комично расположившись на стоге свежего сена в телеге, движущейся в Оптину Пустынь на фоне живописных полотен российской действительности.
Пелевин, осознающий симулятивный характер мифа о Толстом и его ограниченность, на страницах романа «t» деконструирует основные шаблоны читательского восприятия «просветления» русского классика. Дробление и переразложение рецептивных формул и моделей, подвергающихся деконструкции, осуществляется писателем целенаправленно и реализуется через композицию романа, через жанр, посредством иронии, через деконструкцию образа главного героя, наконец, через деконструкцию понятий.
1. Через композицию романа. Пелевин предлагает сложносочиненную архитектонику «движения к освобождению» графа Т., опоясывающего как минимум восемь разнородных реальностей, в которые помещается герой, призванный определить их истинность. Онтологический статус бытия должна получить одна из версий, объясняющая генезис и механизмы функционирования окружающего графа мира: 1). Версия Ариэля – главного редактора книги о возвращении отлученного Л. Толстого в «лоно церкви» (издательские стратегии, а вместе с тем и специфика сюжетных коллизий по ходу реализации проекта меняются). Согласно данной версии, граф Т. является лишь героем романа, марионеткой, чьей судьбой управляет группа маркетологов. 2). Версия детектива Кнопфа, согласно которой на графа ведет охоту группа сектантов, чтобы принести душу «Великого Льва» в жертву древнеегипетскому богу – гермафродиту с кошачьей головой, завершив тем самым цикл творения. 3). Версия Олсуфьева, в соответствии с которой лишившийся памяти граф направляется в Оптину Пустынь, чтобы обрести Бога (или «стать Богом самому»), а выдающий себя за создателя мира Ариэль оказывается демоном, сторожащим проход. 4). Версия Аксиньи Толстой-Олсуфьевой, считающей, что морально изувеченный отлучением от церкви граф в результате приема психотропных веществ и увлечения восточными культами, «вошел в молитвенное общение с бесами» [8, c. 304]. 5). Версия «Петербург Достоевского», в который попадает герой, благодаря сеансу гипноза. 6). Версия философа Соловьева, проповедующего мистического учение о поиске Читателя. 7) Версия «жизнь есть сон», многократно заслоняющая собой другие интерпретации действительности. 8). Версия друзей и домочадцев Толстого, подводящих графа к мысли о том, что автор текста Ариэль, чье имя обозначает «Лев Божий», и есть сам Лев Николаевич, слившийся во время написания текста со своим героем.
Таким образом, Пелевин моделирует виртуальную реальность, организованную по игровому принципу, аккумулируя вокруг нее смыслы равноиллюзорности всех конфигураций деформированного мира и ставя под сомнение существование истинной действительности. По справедливому замечанию В. Курицына: «Именно на этом сомнении, как основном принципе и строятся все произведения постмодернистской эстетики» [5, c. 10].
2. Через синтетический жанр, вобравший в себя элементы детектива, интеллектуального триллера, романа воспитания, любовного романа, романа-исповеди, компьютерного шутера и др. Пелевин начиняет текст отрывками различной идейно-тематической и лексико-стилистической направленности, производя некое гибридное образование à la brochet tarakanoff («щука по-таракановски»), выступающей в романе метафорой призрачности человеческой личности. Характерно, что составленному из различных сортов рыбы фамильному блюду княгини Тараконовой придана форма дракона, персонифицирующего гибридность (змея и птицы) и в свою очередь являющегося символом спаянности плоти и духа.
3. Через иронию. Так, постоянно переключающий повествовательные регистры писатель разбивает захватывающую сюжетную линию в духе экшн лирическими рассуждениями графа на традиционно «толстовские темы», помещенные в иронический контекст. Например:
«Главное, что женщина в своем ослеплении думает, будто способна подменить это мимолетное цветение природы, намазавшись помадой и белилами, надушившись парижскими духами и украсив себя золотом… Смешно. Только впору не смеяться, а плакать, потому что делает она это вынужденно, на потребу мужской похоти в зловонных клоаках городов, вместо того, чтобы радостно работать в поле» [8, c. 309]. Выпячивание и откровенная нарочитость мотивов творчества Толстого выдают их вторичность и пародийный характер. Пелевин обнажает прием, помещая размышления героя рядом с его наблюдениями за прикрывающей наготу возлюбленной, что является, по его догадке, принятой их создателями мерой для расширения целевой аудитории романа до старшего школьного возраста.
4. Через деконструкцию образа главного героя, оказывающегося мастером восточных боевых искусств, направляющимся с неопределенной целью в Оптину Пустынь, которая выступает в конце романа как метафизическое обобщение. «Наводя глянец» [3, c. 83] на своего героя, который «интересен публике только как граф, но не как Толстой» [8, c. 103], Пелевин в процессе мифотворческой практики сжимает весь корпус представлений о жизни и идеях писателя до ярлыка, состоящего из одной буквы «Т», подвергая дальнейшей синтагматической развертке игровое бытописание «состоятельного господина», жившего во временя «до Рублевки». Нельзя не согласиться с исследователями, утверждающими, что «такое намеренное отсекание связей с реальными прообразами, такое их радикальное преобразование оставляет от них только имена – пустые знаки, названия “интеллектуальных брендов”» [4, c. 17], эксплуатирующихся писателями-постмодернистами для последующей деконструкции.
5. Через развенчание понятий. Проблема языка является конститутивной для романа «t», поскольку оформляет онтологический пласт текста. Осмысляя концепции Г.-Х. Гадамера, утверждающего, что познающий субъект всегда имеет дело лишь с «лингвистически оформленным миром» [6, c. 189], который запечатлевается в языке, и Ж. Деррида, полагающего, что «внетекстовой реальности не существует <…> потому что у нас нет иного доступа к <…> так называемому “реальному” существованию, кроме как через текст» [1, c. 313], Пелевин «доводит в романе “t” “лингвистический” субъективизм до абсурда» [2, c. 268]. Так, главный герой Т. первоначально создает мерцающую, аморфную реальность при помощи зрительного восприятия, которая исчезает, как только демиург отводит от предметов взгляд. Затем пытается удержать ускользающее бытие посредством воспоминаний. Наконец, прибегает к самому надежному подвластному ему созидательному инструменту – к письму.
В конце романа прозревающий герой встречается с буддистским ламой, который указывает ему на иллюзорную природу «слов-призраков», таких как «душа», «чудо», «человек», «абсолют», включая дзен-буддистские категории «Будда», «пустота», «путь». Токсичность абстрактных понятий, по Пелевину, состоит в том, что они погружают познающий при помощи них мир разум в обманчивую иллюзию, поэтому спасение заключается в том, чтобы перестать опираться на слова и знаки.
Таким образом, пелевинская игра с мифом «дао Толстого», в результате которой читатель беспрестанно натыкается на сюжетные швы и смысловые сбои, освобождает его от «автоматизма восприятия» (понятие В. Шкловского), размыкает шаблон рецепции духовных исканий Льва Толстого. Однако возвращающий современной литературе русского классика, Пелевин сам вступает с ним в непосредственный диалог в попытках обнаружения предельных оснований бытия, что позволяет исследователям делать вывод о том, что «правдоискательство роднит Пелевина с его оппонентом Толстым» [10, c. 169].
Литература
1. Автономова Н. Философский язык Жака Дерриды. М.: РОССПЭН, 2011. 510 с.
2. Береснева Н.И. Текст как демиург субъективности в философии и литературе XX-XXI веков // Вестник Костромского государственного университета. 2011. С. 265–270.
3. Загидуллина М.В. Русская классика в современном интеллектуальном пространстве (романы Б. Акунина «FM» и В. Пелевина «T») // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2010. № 1. С. 81–85.
4. Кабанова И.В. Троица по Пелевину: автор-герой-читатель // Филологический класс. 2011. № 25. С. 15–20.
5. Курицын В. Группа продленного дня // Пелевин В. Жизнь насекомых / Предисл. В. Курицына М.: Вагриус, 1997. 351 с.
6. Огородников В.П. История и философия науки. СПб: Питер, 2011. 352 с.
7. Пелевин В.О. Empire «V»: повесть о настоящем сверхчеловеке. М.: Эксмо, 2012. 448 с.
8. Пелевин В.О. t. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. 416 с.
9. Пелевин В.О. Бэтман Аполло. – М.: Эксмо, 2013. 512 с.
10. Пустовая В. Ниче о ником: апофатик Пелевин // Октябрь. 2010. № 6. С. 166–172.
11. Толстой Л.Н. Война и мир. В двух книгах. Тома третий и четвертый. М.: Худож. лит., 2011. 744 с.
Deconstruction of the myth about the L. Tolstoy’s spiritual path in V. Pelevin’s texts
Abstract. The article deals with the mass culture myth about the spiritual path of L. Tolstoy which is reconstructed in V. Pelevin’s texts and composed of such concepts as “non-resistance to evil”, “questioning”, “suffering”, “the meaning of life”, “the world as will and representation”. Artificiality of the Tolstoy’s motives and bringing relevant myth about him to the point of absurdity reveal a secondary and a parody character of the spiritual search of the graph T. in the novel of V. Pelevin “t”, which deconstructs the myth «Tolstoy’s dao». The article analyzes stylistic techniques and artistic means of deconstructing the myth about the spiritual path of L. Tolstoy that appeared in the mass culture.
Key words: myth, L. Tolstoy’s dao, non-resistance to evil, suffering, meaning of life, solipsism, deconstruction.
Информация об авторе: Симкина Виктория Сергеевна, аспирант Московского городского педагогического университета.
Information about the author: Simkina Viktoriy Sergeevna, postgraduate student of Moscow City Pedagogical University.
Цветообозначения в рассказе В. Г. Короленко «Черкес» (об одном эстетическом аспекте русской эпики)
Ю.Г. Гущин /Глазов/, А.Ю. Сутягина /Ижевск/
Аннотация. Установлены особенности описаний пейзажей и интерьеров, портретов и характеров персонажей в рассказе Короленко «Черкес» с точки зрения цветообозначающей лексики и стилевых доминант.
Ключевые слова: описания пейзажей и интерьеров, портретов и характеров персонажей, цветообозначающая лексика, стилевые доминанты.
В современной науке все больше возрастает интерес к проблеме функционирования цветосветообозначающей лексики в художественной литературе. Цветосветообозначения связаны в первую очередь с описаниями действующих лиц, интерьерами и пейзажами. Цвет является, по существу, одним из важных компонентов, составляющих картину мира. Для интенсификации воздействия на эмоции и воображение читателей писатели нередко обращаются к особенностям восприятия цветовой гаммы человеком, используют художественно-изобразительные возможности «цветных» слов.
Цель статьи – проанализировать рассказ «Черкес» с точки зрения того, какие и как используются Короленко цветосветообозначения в пейзажах и портретах персонажей. К анализу «Черкеса» уже обращались в своих работах такие исследователи, как Е.В. Балабанович, Г.А. Бялый, С.В.Короленко, Е.А.Макарова, Д.С. Мережковский, Л.В. Ольховская, О.Орлова, С. Селиванова, А.В. Храбровицкий, К.И. Чуковский.
Отметим, что стилевые доминанты рассказа – психологизм и описательность – имеют, так сказать, общую точку схода в описаниях пейзажей и персонажей. При описательности превалируют статистические элементы, эта доминанта вызывает к жизни также обстоятельную детализацию внешнего мира [5]. Назовем разновидности описаний: пейзажные зарисовки; описания героев, их портретов, характеристик и душевных состояний; ситуаций общения (диалогов); мест действий и интерьеров; художественных деталей (вещей).
Несомненно, в композиции рассказа «Черкес» значимую роль играют пейзажные зарисовки. В рассказе они не только обрамляют текст, но и проходят через все повествование. Приведем некоторые из них. Например: «Ночь была темна, а в нашей повозке, конечно, еще темнее. /…/… то и дело залетали к нам из темноты острые снежинки… (здесь и далее выделено нами – Ю.Г., А.Ю.) [4, с. 248]. В этом эпизоде цветовую доминанту создают: ночь, темна, еще темнее, темным полукругом, темная туча, из темноты. Обратимся ко второму эпизоду: «Ямщик наш был одет в пеструю и мохнатую собачью доху, а так как темные пятна этой дохи сливались с темною же, как чернила, ночью, то на облучке нам виднелась лишь странная куча белых заплаток…» [4, с. 249]. Назовем цветовые слова: в пеструю доху; темные пятна; с темною же, как чернила, ночью; куча белых заплаток. Бесспорно, и в этом эпизоде цветовой доминантой являются: темные пятна; с темною же, как чернила, ночью. Заметим, что последнее сравнение употреблялось мастером и в «Огоньках». Правда, в «Огоньках» было сказано несколько иначе: «И долго мы еще плыли по темной, как чернила, реке» [4, с. 480]. Приведем еще пример: «Мгновенно вспыхнувший огонек осветил невероятной формы мохнатую шапку… /…/ … мы задернули фартук и вновь понеслись вперед среди холода и темноты» [4, с. 249]. Выделим цветовые пятна и в этом отрывке: вспыхнувший огонек, обмерзшее лицо, скрючившиеся руки, огонек погас, среди темноты. Нет сомнений в том, что и в данном случае огонек, беловатые пятна противопоставляются морозу и темноте. В тексте встречается еще один пейзажный отрывок: «Темная дорожная ночь тянулась без конца… /…/ … в промежутке между фартуком и верхом повозки проплыл яркий огонь фонаря, раскачиваемого ветром на верхушке полосатого столба» [4, с. 251]. Зарегистрируем цветовой ряд: темная ночь; яркий огонь фонаря; полосатого столба. В этом случае слово «темная» уравновешивается «ярким огнем фонаря», создавая иллюзию гармонии жизни. Последующая пейзажная заставка: «Метель стихла… /…/ В открытой перекладной сидела какая-то темная фигура». Подчеркнем цветообозначение: темная фигура. Шестая зарисовка: «Испуганные лошади взяли с места, телега загрохотала по колеям и исчезла в снежном сумраке…» [4, с. 265]. Отметим словосочетание: в снежном сумраке. Наконец, финальная пейзажная картина: «Снег продолжал валить хлопьями, в воздухе белело. /…/ Ряды невеселых мыслей развертывались в воображении, как ряды этих сумрачных сопок…» [4, с. 267]. Обратим внимание на цветовой ряд: снег; белело; заря, свет; темнота молочная; в снежном море; ряды сумрачных сопок. Итак, цветовая гамма пейзажей Короленко в рассказе состоит из строгих, сдержанных, можно даже сказать, бедных тонов. При этом преобладают ахроматические цвета. “Ахроматический” переводится с греческого языка как “бесцветный”. Такое оригинальное наименование получили цвета, которые не образуются комбинациями других. К ахроматическим цветам относятся белый, черный и оттенки серого. Из-за того, что их нельзя получить с помощью основных цветов, им и присвоили такое необычное название – ахроматические [7].
Доминирующим цветом в «Черкесе» является «темный», «темнота», «сумрак», «ряды сумрачных сопок» (числом 11). Им противопоставляется: яркий огонь фонаря, снег, снежинки, белело, заря, свет, куча белых заплаток (всего 9). Промежуточное положение занимают цветообозначения типа: темнота молочная; в снежном сумраке, в снежном море (3). Систематизация цветовой лексики рассказа «Черкес» выглядит имеющей принципиальное значение задачей в связи с необходимостью осмыслить наглядную передачу писателем реального мира, поскольку цветовые категории являются важным средством формирования образного пространства художественного произведения, а также помогают точнее и яснее уяснить замыслы Короленко.
Помимо пейзажей, немаловажную роль в структуре рассказа «Черкес» играют также описания интерьеров. Например: «Стены комнаты раздвигались, и я опять видел себя далеко на дороге, в темной повозке. /…/ … у меня есть добрый знакомый … в этом маленьком домике с полосатыми столбами, приютившемся у подножия угрюмых и мрачных хребтов» [4, с. 252-253].
В этом эпизоде цветовую доминанту составляют: темной; угрюмыми приленскими видами; в этом маленьком домике с полосатыми столбами; угрюмых и мрачных хребтов. Ей контрастно противостоит другой цветовой ряд: пробивалось пламя; в светлой комнате; пыхающее огнем. Обратимся ко второму эпизоду: «Я невольно посмотрел туда же… /…/ … они увидели в станционной избушке…» [4, с. 253]. Бесспорно, и в этом случае цветовой доминантой выглядят: ночь; из мрака, черные стекла; в темноту. Антитезой ей являются: пушистые снежинки; белые насекомые.
Последующая интерьерная заставка: «Свеча была погашена, и только железная печка освещала комнату вспышками пламени». [4, с. 256]. Подчеркнем слова, называющие цвет: свеча была погашена; печка освещала комнату вспышками пламени. Приведем еще пример: «Огонь в печке угасал. /…/ Староста в дохе и теплой шапке появился на пороге с ручным фонарем» [4, с. 258]. Выделим цветовые элементы в этом фрагменте: огонь в печке угасал; сыплет снегом в окна; зажег свечу; появился на пороге с ручным фонарем. Нет сомнений в том, что в данном случае огонь, свеча, ручной фонарь противопоставляются снегу. Далее в тексте встречается еще один интерьерный отрывок: «Писарь суетился, зажигал зачем-то стеариновую свечку на столике у зеркала. /…/ Вообще за минуту перед тем спавшая в безмолвии и темноте станционная комната теперь ожила…» [4, с. 259-260]. Зарегистрируем цветовые штрихи: зажигал стеариновую свечку; спавшая в безмолвии и темноте. В этом случае слово «темнота» уравновешивается «стеариновой свечкой».
Одним словом, в зарисовках интерьеров четко выявляется два контрастно выстроенных ряда. С одной стороны, это лексика, цветовой доминантой которой являются: темной; угрюмыми приленскими видами; в этом маленьком домике с полосатыми столбами; угрюмых и мрачных хребтов; ночь; из мрака, черные стекла; в темноту; темнота (9 случаев). Ей фактически противостоит другой цветовой ряд: пробивалось пламя; в светлой комнате; пыхающее огнем; пушистые снежинки; белые насекомые; свеча была погашена; печка освещала комнату вспышками пламени; огонь, свеча, ручной фонарь; снег; зажигал стеариновую свечку; возок со стеклянными дверцами (13 случаев). Можно сказать, цветовой ряд, условно говоря, с положительной окраской слов превосходит числом отрицательно окрашенные значения.
Отметим попутно, что цветопись выражается с помощью прилагательных, однако она может передаваться и существительными, их словосочетаниями, глаголами (печка освещала комнату вспышками пламени), причастиями (пыхающее огнем) и наречиями (ясно представлял себе). Слова, называющие цвет, несомненно, позволяют создать такую редакцию сочинения, в которой строго достоверно и зримо удается передать черты и подробности всего существующего, а также факты, взятые из жизни. А это дает возможность установить специфический колорит «цветной» мозаики Короленко. Следует также признать, что на антитезе построены не только описания пейзажей и интерьеров, но и характеры персонажей. Главная из них: лагерь Чепурникова (писарь, Пушных) и черкеса (баба в возке). При этом личный повествователь [2] сохраняет свою нейтральную позицию, как бы связующее положение между станами враждующих лагерей. Анализ характеристик персонажей и их оппозиций обусловливает необходимость обратиться к такой стилевой доминанте рассказа, как психологизм.
Психологизм – это мастерство художника, которое проявляется в умении «выстраивать» и отражать взаимоотношения героев с учетом их психофизиологических черт [5]. Мастер прибегает к так называемому «косвенному психологизму», то есть к передаче внутреннего мира персонажа через внешние признаки, например, при обрисовке образа черкеса. Он характеризует поведение героя всесторонне и во многих ситуациях. Сведения о нем появляются задолго до его появления на станции. Писарь Гаврилыч сообщает о том, черкес с товарищем «по спиртовому делу у нас первые», «на прииска запрещенным способом спирт доставляют и выменивают рабочим на золото. Отличные дела делают» [4, с. 254]. Нынче же спиртонос «золото в Иркутск везет китайцам продавать…» [4, с. 255]. Горец – человек «отчаянный», «настоящий», «молодчина», «храбрость имеет большую» (признают писарь с Чепурниковым).
Первое впечатление от черкеса после появления его на станции выглядит сложным, неоднозначным. Спиртонос – высокий стройный человек, который обладает взглядом, «острым, ясным и испытующим» [4, с. 260]. «Выражение вражды и частию испуга промелькнуло в его черных глазах…» [4, с. 260]. Впрочем, черкес очень быстро овладел собой и приветствовал всех «спокойным тоном, которому отчасти противоречили все еще беспокойно бегавшие взгляды» [4, с. 260]. Портрет «агента золотоискателей» обогащается деталями, которые отражают возникшую на станции ситуацию и дают возможность выявить сущность характера главного действующего лица. В рассказе необычность и детали одежды отступают на второй план, но подчеркиваются уже черты «хищника», «таежного коршуна», всегда готового к атаке и отражению любого внезапного нападения, защите собственной жизни: “Это был старик лет пятидесяти пяти с сухим и жестким лицом, гладко обритым. /…/ … толстый шнурок, очевидно, тоже от револьвера, терялся в кармане” [4, с. 260]. От едва намеченных в дневнике [3] черт литератор движется к созданию характера, раскрывая все более полно его стороны в каждом возникающем положении.
Портрет горца, можно сказать, дополняется новыми чертами и деталями.
На станции черкес «держался чутко, настороже» [4, с. 261]. Когда Чепурников «двинулся было к дверям», то горец, «точно стальная пружина, слегка отодвинул его локтем, и от этого движения юркая небольшая фигурка унтер-офицера очутилась в углу у перегородки… /…/ … когда он сказал Чепурникову: “Погоди, друг, вместе ходим”, то эта фраза казалась действительно дружеским приглашением» [4, с. 262]. Черкес все время контролирует ситуацию, которая сложилась на станции, хотя «его брови были сдвинуты, сухое лицо побледнело. Видно было, что напряжение этих минут не проходит ему даром» [4, с. 263]. По-видимому, «откупаясь» за стакан холодного чаю и предчувствуя возможное нападение воинов, он предложил Чепурникову купить возок с кожаным верхом за тридцать рублей, который стоил почти в два раза дороже. Когда они вышли со станции плечом к плечу, то черкес «шел легко, как кошка, слегка приподымаясь на носках, стройный, гибкий и напряженный. Чепурников рядом с ним казался маленьким и неуклюжим, но во всей фигуре унтер-офицера виднелись упрямство и злая решимость» [4, с. 263, 264]. При прощании Чепурников предложил этому «отчаянному» человеку побороться с ним. Но тот, обладая недюжинной силой, так его толкнул, что унтер-офицер долго не мог прийти в себя. Итак, классик детализирует и психологически заостряет портрет «агента золотоискателей». Портрет дополняется деталями, которые оттеняют черты личности, способной к энергичным действиям, с мгновенной реакцией на опасность. От намеченного в дневнике художник идет к созданию характера. Повествователь сравнивает его с тигром; таежным коршуном; его «дикие взвизгивания» с «диким криком хищника». В характеристике черкеса мастер использует разнообразные цветообозначения. Выделим первый ряд, условно говоря, с отрицательной доминантой: из темных сеней его фигура выступила с отчетливою резкостью; в его черных глазах; черкес холодно смотрел; черкес, точно стальная пружина; телега загрохотала по колеям и исчезла в снежном сумраке, только несколько раз еще донеслись до нас из темноты взвизгивания черкеса; казалось это были крики возбужденного, опьяневшего человека; дикие взвизгивания черкеса прорезали ночной воздух, точно резкие крики ночной птицы (9 раз); второй ряд с положительной оценкой: свет ударил ему в глаза; загоревшихся под седыми бровями; взгляд, острый, ясный и испытующий; глаза у черкеса вспыхнули, как у тигра; острый взгляд быстро обежал всех; сухое лицо побледнело (6 случаев). Кроме того, можно выделить еще один – третий ряд с неопределенной или нейтральной доминантой: высокий стройный человек; беспокойно бегавшие взгляды; с сухим и жестким лицом, гладко обритым; с крутою грудью; тонким станом; рыжая черкеска; тонким кожаным поясом; красивый кинжал; в кожаном чехле; толстый шнурок; красивые и грозные повадки тигра; черкес шел легко, как кошка… /…/… стройный, гибкий и напряженный; возбужденного, опьяневшего человека (15 раз). Можно сказать, в характеристике черкеса преобладает третий ряд с нейтральной доминантой. Количество этих цветообозначений сопоставимо с суммой цветовых слов первого и второго ряда. Совершенно ясно, цветообозначения вводятся писателем, так сказать, для добавочных пояснений к облику персонажей. Их назначение заключается в том, чтобы индивидуализировать сложную природу психологии героев, поскольку настроения и переживания обычно отражаются в цветовых словах. Чтобы осмыслить ту или иную жизненную ситуацию, своё положение в ней, герой прибегает к характерным для него «цветным» словам-самохарактеристикам. В характеристике персонажей Короленко использует не только цвето-обозначения. В нее включается и нечто другое: многосторонняя физиологическая и психологическая характеристика персонажа. Очевидно, поэтому герои “Черкеса” – это конкретные психологические типы. В разрешении конфликта индивидуальные черты проявляются рельефно и многосторонне. Например, и Чепурников получает в рассказе достаточно полную и многостороннюю характеристику. Он достаточно уверенно и точно различает людей и относится к ним по-разному. Отметим черты его характера: несколько злобный, желчный и нервный, часто сердитый и неуравновешенный тип, раздражительный и бесцеремонный, юркий унтер-офицер. Однако он хитрец, жаждет сочувствия, может быть вкрадчивым и иметь задумчивый вид. Василий Петрович – человек экономный, делиться он ни с кем не хочет, мечтает «в один день человеком сделаться», им владеет страсть к наживе, что объединяет его с писарем [4, с. 253]. Мечтает возыметь «хорошую копеечку», купить «славный домик, с огородом и с мензелинчиком» и «службу-то бросить» [4, с. 256, 257]. «С капиталом какая надобность?» – простодушно признается он [4, с. 257]. Чепурников способен на поступок, однако трусоват и боится наказания начальства. Страшится он и черкеса, хотя и мечтает его ограбить. Возможно, именно эта черта – страх – не позволила ему напасть на вооруженного до зубов горца. Впрочем, с подобострастием относится унтер-офицер к повествователю как человеку образованному, не хочет его обижать, «дружит» с писарем Гавриловым.


