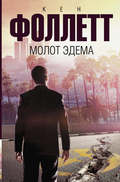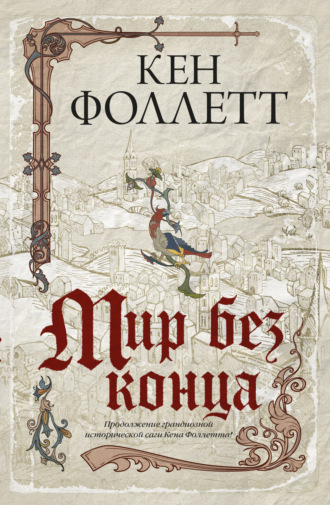
Кен Фоллетт
Мир без конца
Годвин ожидал от Слепого чего-либо подобного. Карл терпеть не мог, когда переставляли мебель, потому что натыкался на нее. Точно так же он противился любым переменам, опасаясь спасовать перед неизвестностью.
Теодорик быстро возразил:
– Тем больше оснований строже соблюдать правила. Кто живет по соседству с таверной, тому надлежит особо следить за собой, дабы не впасть в грех винопития.
Монахи одобрительно загудели: они любили остроумные ответы. Годвин кивнул Теодорику, белое лицо которого порозовело от благодарности.
Расхрабрившийся послушник по имени Иулей громко прошептал:
– Что Карлу женщины, он их не видит.
Кто-то из монахов рассмеялся, но многие неодобрительно закачали головами.
Годвин решил, что все идет хорошо: пока чаша весов клонится в его сторону.
Тут заговорил приор Антоний:
– Что именно ты предлагаешь, брат Годвин?
Дядя не учился в Оксфорде, но неплохо умел заставить противника высказаться.
Годвин неохотно ответил:
– Может, нам стоит вернуться к правилам времен приора Филиппа?
– Что ты хочешь этим сказать? Никаких монахинь?
– Да.
– Куда же им деваться?
– Женский монастырь можно перенести в другое место, он мог бы стать уединенной обителью аббатства, как Кингсбриджский колледж или обитель Святого Иоанна-в-Лесу.
Все опешили, а затем поднялся шум, с которым приору не сразу удалось справиться. Прочие голоса перекрыл голос старшего врача Иосифа, умного, но гордого человека, которого Годвин остерегался.
– Как же мы управимся с госпиталем без монахинь? – Из-за плохих зубов брат Иосиф шепелявил, отчего казалось, что он пьян, однако говорил весьма убедительно. – Они разносят лекарства, меняют повязки, кормят тяжелобольных, причесывают дряхлых стариков…
Теодорик вставил:
– Все это способны делать монахи.
– А роды? – спросил Иосиф. – Женщинам часто бывает трудно произвести на свет ребенка. Как же братья станут помогать им совершать подобное… действие без сестер?
Многие согласно зашумели, но Годвин, предвидевший этот вопрос, предложил:
– А что, если переселить сестер в старый лепрозорий?
Прокаженным в свое время отвели небольшой островок на реке к югу от города, где построили для них приют, так называемый «дом Лазаря»[26]. Когда-то там было полным-полно несчастных, но с проказой, похоже, удалось справиться, и теперь на острове проживали всего двое престарелых монахов.
Остроумец брат Катберт пробормотал:
– Не хотел бы я быть тем, кто сообщит матери Сесилии, что ей придется поселиться в лепрозории.
Послышался смех.
– Женщины должны повиноваться мужчинам, – стоял на своем Теодорик.
– Мать Сесилия повинуется епископу Ричарду, – указал приор Антоний. – Ему и принимать подобные решения.
– Да не допустят этого Небеса, – вмешался в спор казначей Симеон. Этот худой брат с вытянутым лицом выступал против любых предложений, связанных с расходами средств. – Мы не сможем прожить без монахинь.
– Почему? – удивился Годвин.
– У нас мало денег, – объяснил казначей. – Когда нужно восстанавливать собор, как вы думаете, кто платит строителям? Не мы – у нас нет такой возможности. Платит мать Сесилия. Она же закупает съестные припасы для госпиталя, пергамент для скриптория и лошадиный корм. За все, чем братья и сестры пользуются совместно, платит настоятельница.
Годвин растерялся.
– Как же это возможно? Почему мы столь зависимы от нее?
Симеон пожал плечами:
– Уже много лет благочестивые женщины завещают женскому монастырю земли и другое имущество.
Ризничий не сомневался в том, что это лишь часть правды. У монахов тоже немало источников доходов. Они собирают подати с каждого жителя Кингсбриджа, а монастырю принадлежат тысячи акров пахотных земель. Значит, причина в том, как этими богатствами распоряжаются. Однако сейчас не время вдаваться в эти подробности. Что ж, выходит, что этот спор он проиграл. Вон, умолк даже Теодорик.
Антоний примирительно сказал:
– Ладно, крайне интересная получилась беседа. Спасибо, брат Годвин. А теперь давайте помолимся.
Годвин был слишком зол, чтобы молиться. Он ничего не добился и побаивался, что совершил ошибку, бросив вызов приору.
Когда монахи выходили из здания капитула, Теодорик испуганно посмотрел на ризничего:
– Я не знал, что сестры дают нам столько денег.
– А кто знал? – ответил Годвин. Он поймал себя на том, что с ненавистью смотрит на Теодорика, и поспешил исправить положение: – Но ты был великолепен: спорил лучше многих оксфордских светочей.
Прозвучало весомо, и Теодорик расцвел.
В это время суток монахам полагалось читать в библиотеке или с молитвой прогуливаться по внутреннему двору, но у Годвина имелись другие планы. За обедом и на собрании его неотвязно преследовала одна мысль. Он старательно прогонял ее, поглощенный более важными вопросами, но теперь решил разобраться. Следовало проверить догадку, куда подевался браслет леди Филиппы.
В монастырях мало мест, где можно устроить тайник. Братья жили общиной, отдельной комнатой располагал лишь приор. Даже в отхожем месте братья сидели рядышком над корытом, промывавшимся проточной водой из трубы. Им не дозволялось иметь личного имущества, потому ни у кого не было ни своего сундука, ни даже шкатулки.
Но сегодня Годвин видел настоящий тайник.
Ризничий поднялся в пустой дормиторий, отодвинул комод с одеялами от стены и вынул камень. В щель заглядывать не стал, а вместо этого вслепую пошарил в выемке, ощупал сперва верх, потом низ, потом боковины. Справа пальцы наткнулись на углубление. Годвин изогнул руку и ощутил под пальцами нечто – не камень и не застывший строительный раствор.
Подцепив находку ногтем, он извлек из углубления резной деревянный браслет.
Годвин поднес украшение к свету. Прочное дерево – может быть, дуб. Внутренняя поверхность отполирована, а на внешней с немалым тщанием вырезан затейливый узор из квадратов и диагоналей. Понятно, почему леди Филиппа так дорожит этим браслетом.
Он положил браслет обратно, задвинул камень и вернул комод на место.
Что замыслил учинить с украшением Филемон? Продать за пару пенни? Но это опасно, потому что браслет легко опознать. Что ж, носить его служка точно не собирался.
Годвин вышел из дормитория и спустился по лестнице во двор. Не хотелось ни занимать ум чтением, ни молиться. Нужно обсудить события сегодняшнего дня, повидаться с матерью.
Это соображение заставило его поежиться. Она скорее всего выбранит его за провал на собрании, зато наверняка похвалит за епископа Ричарда. Ему очень хотелось рассказать ей эту историю. Годвин отправился искать Петраниллу.
Строго говоря, это не разрешалось. Монахи не могли разгуливать по городу в свое удовольствие. Требовалась некая причина, и полагалось, прежде чем выйти за стены аббатства, спрашивать разрешение настоятеля. Но у монахов-обедиентиариев, исполнявших определенные послушания и занимавших некоторые должности, имелись десятки таких причин. Аббатство постоянно вело дела с торговцами – закупало продукты, сукно, обувь, пергамент, свечи, садовые инструменты, лошадиный корм и прочие необходимые товары. Кроме того, оно владело землями почти всего города. А врача могли позвать к больному, который сам не в состоянии дойти до госпиталя. Так что братья на улицах встречались часто, и с ризничего вряд ли потребуют объяснения, что он делает за пределами монастырских стен.
Тем не менее следовало соблюдать осторожность, а потому, выходя из аббатства, Годвин убедился, что его никто не видит. Он миновал оживленную ярмарку и по главной улице добрался до дома дяди Эдмунда.
Как он и рассчитывал, Эдмунд и Керис ушли по делам, и Петранилла была одна, если не считать слуг.
– Вот так утешение для матери, – проговорила она. – Вижу тебя второй раз за день! Заодно и покормлю. – Петранилла налила сыну большую кружку крепкого эля и велела кухарке принести блюдо с холодной говядиной. – Как прошло собрание?
Годвин подробно рассказал и присовокупил в конце:
– Я слишком поторопился.
Она кивнула.
– Мой отец всегда говорил: «Никогда не назначай встречу, если не уверен в ее исходе».
Годвин улыбнулся.
– Я это запомню.
– Ладно, не думаю, что ты все испортил.
«Хвала небесам, она вроде бы не рассердилась».
– Но у меня больше нет доводов, – продолжал Годвин.
– Ты показал себя вожаком молодых, жаждущих перемен.
– И выставил полным дураком.
– Все лучше, чем ничтожество.
Годвин не был уверен в справедливости этого довода, но, как обычно, спорить не стал: пусть он сомневается в мудрости материнского совета, это можно обдумать позже.
– Еще случилось кое-что странное.
Годвин рассказал про Ричарда и Марджери, опустив грубые физические подробности.
Петранилла искренне изумилась:
– Ричард, должно быть, с ума сошел. Свадьба не состоится, если граф Монмут узнает, что Марджери не девственница. Граф Роланд будет в ярости. Ричарда могут лишить сана.
– Но ведь у многих епископов есть любовницы…
– Тут совсем другое дело. Священник может иметь экономку, которая, по сути, ему жена во всем, кроме названия. У епископа таких может быть несколько. Но лишить девственности знатную девицу незадолго до ее свадьбы – даже графскому сыну трудно надеяться после такого на сохранение сана.
– Как по-твоему, что мне делать?
– Ничего. Пока ты действовал превосходно. – Годвин довольно улыбнулся, гордый собою. А мать добавила: – В один прекрасный день у тебя будет мощное оружие. Просто не забывай об этом.
– Последнее, мама. Я все думал, как Филемон отыскал этот камень, который закрывает дыру в стене, и мне пришло в голову, что поначалу он использовал эту дырку как тайник. Я оказался прав: там отыскался браслет, который потеряла леди Филиппа.
– Любопытно. Сдается мне, этот Филемон будет тебе полезен. Он сделает для тебя что угодно, понимаешь? Человек без совести, без морали… У моего отца был знакомый, всегда готовый взяться за грязную работу: распускал слухи, сеял ядовитые сплетни, плел интриги, – такие люди бесценны.
– Думаешь, не нужно докладывать о краже?
– Разумеется, нет. Заставь его вернуть браслет, если считаешь, что это важно. Пусть скажет, что нашел украшение, когда подметал комнату. Но не выдавай его. Уверена, ты пожнешь богатый урожай.
– Так что же, мне его покрывать?
– Смотри на него как на бешеную собаку, которая сторожит дом от грабителей. Такие псы опасны, но без них не обойтись.
10
В четверг Мерфин закончил вырезать дверь.
С делами в южном приделе тоже было покончено, строительные леса стояли. Опалубку для каменщиков мастерить не пришлось, поскольку Годвин и Томас намеревались сохранить деньги аббатства, применив тот самый способ работы без опалубки, за который он ратовал. Мерфин вернулся к резьбе и быстро понял, что дверь почти готова. Около часа он подправлял волосы одной из мудрых дев, еще час дорезал глупую улыбку на лице одной из неразумных, но сам не знал, стало ли от этого лучше. Было трудно сказать что-то определенное, и еще он постоянно отвлекался на мысли о Керис и Гризельде.
Юноше всю неделю едва удавалось заставлять себя вести разговоры с Керис. Мерфин изводился и, что называется, сгорал со стыда. Каждый раз, завидев Керис, он вспоминал, как обнимал Гризельду, как ее целовал, как сошелся с нею в самом тесном человеческом единении, а ведь эта женщина ему даже не нравилась, о любви и говорить нечего. Раньше он чуть не всякий миг погружался в блаженные грезы, воображая телесную близость с Керис, но теперь сама эта мысль его пугала. С Гризельдой все прошло благополучно – ну хорошо, не все, но не в том суть: пожалуй, он испытывал бы схожие чувства, окажись на месте Гризельды любая другая женщина, кроме Керис. Сойдясь с Гризельдой, он словно лишил телесную близость всякого смысла, и потому не смел смотреть в глаза девушке, которую любил.
Пока Мерфин разглядывал резьбу, стараясь отделаться от мыслей насчет Керис и прикинуть, пора ли сдавать работу, в собор вошла бледнокожая Элизабет Клерк, красавица двадцати пяти лет, чье лицо обрамляло облако белокурых волос. Ее отец был епископом Кингсбриджа до Ричарда Ширинга. Подобно Ричарду он жил в епископском дворце в городе Ширинг, однако частенько бывал в Кингсбридже, и случилось, что запал на служанку из «Колокола», будущую мать Элизабет. Будучи незаконнорожденной, Элизабет весьма остро воспринимала любые намеки на свое положение в обществе, не терпела ни малейшего неуважения и обижалась по всякому поводу. Но Мерфину Элизабет нравилась: умная, красивая, – а когда ему было восемнадцать, позволяла целовать и гладить ее плоские груди, напоминавшие две плошки; он хорошо помнил, как твердели соски под осторожными прикосновениями. Отношения оборвались из-за того, что для него было сущей ерундой, а вот для нее оказалось чем-то непростительным: юноша имел глупость пошутить про распутных священников, – однако Мерфин по-прежнему питал к ней теплые чувства.
Элизабет тронула его за плечо, потом посмотрела на дверь. Ее рука будто сама собой поползла к губам, и девушка охнула:
– Как живые, честное слово!
Мерфин был польщен: Элизабет всегда отличалась скупостью на похвалы, – но все же счел необходимым проявить скромность и смирение.
– Я просто сделал их разными, а на старой двери все девы были одинаковые.
– Скажешь тоже: просто… Они выглядят так, будто готовы сойти с двери и заговорить с нами.
– Спасибо.
– Имей в виду: ничего подобного в соборе еще не было. Что скажут монахи, ты подумал?
– Брату Томасу вроде нравится.
– А ризничему?
– Годвину? Не знаю. Если поднимется шум, пойду к приору. Антоний вряд ли захочет заказывать новую дверь, ведь тогда придется платить дважды.
– Что ж, в Библии не сказано, что они все были на одно лицо, – задумчиво произнесла девушка. – Там лишь говорится, что пять мудрых подготовились и встретили жениха, а пять неразумных ждали до последнего, не позаботились залить в светильники масло и потому не попали на брачный пир. А Элфрику ты уже дверь показывал?
– Зачем? Его это не касается.
– Он же твой мастер.
– Его волнуют только деньги.
Элизабет не согласилась.
– Беда в том, что ты лучше его в вашем ремесле. Это стало ясно несколько лет назад и всем известно. Элфрик никогда этого не признает, но именно потому он тебя ненавидит. Смотри, как бы тебе не пожалеть.
– Вечно ты все видишь в черном цвете.
– Вот как? – обиделась Элизабет. – Что ж, поглядим. Надеюсь, я ошибаюсь.
Она было собралась уходить.
– Погоди.
– Что?
– Я правда очень рад, что тебе понравилось.
Девушка не ответила, но, кажется, несколько смягчилась. Помахав на прощание рукой, она ушла.
Мерфин признался себе, что дверь готова, и обмотал свой труд грубой мешковиной. Все равно предстоит показать дверь Элфрику, так почему бы и не сейчас. Дождь-то прекратился, по крайней мере на время.
Юноша попросил одного из работников помочь ему с переноской двери. У строителей имелся особый способ перетаскивания тяжелых и громоздких вещей. На землю клали два крепких шеста, а на них поперек укладывали посредине доски, служившие основанием для груза, и на эти доски затаскивали тяжесть; затем двое мужчин вставали спереди и сзади досок и поднимали шесты на плечи. Такую конструкцию называли носилками и применяли, к слову, для доставки больных в госпиталь.
Но даже на носилках дверь оказалась очень тяжелой. Мерфин, правда, успел привыкнуть к переноске тяжестей, благо Элфрик не давал ему поблажек из-за хрупкости телосложения, и в результате, к собственному удивлению, он изрядно нарастил мышцы.
Вдвоем с работником они занесли дверь в дом Элфрика. Гризельда сидела на кухне. Она на вид становилась крупнее с каждым днем, и без того пышная грудь грозила вывалиться из платья. Мерфин терпеть не мог ссориться с людьми, поэтому попытался проявить учтивость.
– Хочешь посмотреть мою дверь?
– Чего я там не видела?
– Она резная. Я вырезал притчу о мудрых и неразумных девах.
Гризельда невесело усмехнулась:
– Только не надо мне про дев.
Пронесли дверь во двор. Мерфину подумалось, что он напрочь не понимает женщин. После той близости Гризельда была с ним неизменно холодна. Если таково ее истинное отношение к нему, то зачем, спрашивается, соблазняла? Она ясно давала понять, что больше близости не желает. Он бы охотно уверил ее, что разделяет ее чувства – его буквально воротило от воспоминаний, – но это было бы оскорбительно, и потому Мерфин молчал.
Носилки опустились на землю, и работник ушел. Коренастый Элфрик, наклонившись над кучей деревяшек, пересчитывал доски, постукивал по каждой квадратным бруском в пару футов длиной и цокал языком, как делал всегда, когда ему выпадало поразмыслить. Он сердито посмотрел на Мерфина и вернулся к своему занятию, а юноша молча снял с двери мешковину и прислонил дверь к груде камней. Он чрезвычайно гордился своей работой: еще бы – он следовал установленному канону, однако сумел сотворить нечто свое, нечто такое, отчего люди восторженно ахали. Поскорее бы эту дверь навесили на петли в соборе.
– Сорок семь, – буркнул Элфрик и, наконец, повернулся к Мерфину.
– Я закончил дверь, – гордо сказал юноша. – Как она вам?
Элфрик окинул дверь оценивающим взглядом. Ноздри его крупного носа раздулись – верно, от удивления, – а затем он без предупреждения ударил Мерфина по лицу бруском, которым пересчитывал доски. Брусок оказался увесистым, так что удар вышел сильным. Мерфин вскрикнул от боли и от неожиданности неловко попятился, оступился и упал.
– Кусок дерьма! – выкрикнул Элфрик. – Ты обесчестил мою дочь!
Мерфин рад был бы возразить, но мешала кровь, заполнившая рот.
– Да как ты посмел? – прорычал Элфрик.
Будто дождавшись сигнала, из дома выскочила Элис.
– Змея! – взвизгнула она. – Пробрался, аспид, в наш дом, опозорил юную девушку!
«Притворяются, что узнали случайно, – подумал Мерфин. – Но на самом деле все спланировали заранее». Он сплюнул кровь и ответил:
– Обесчестил? Она не была девушкой!
Элфрик замахнулся вновь. Мерфин сумел увернуться, однако брусок болезненно задел его по плечу.
Элис не унималась:
– Как ты мог поступить так с Керис? Моя бедная сестренка! Когда она об этом узнает, это разобьет ей сердце.
Мерфин не замедлил уколоть в ответ:
– А ты, конечно, поспешишь ей сообщить, сволочь.
– Знай, ты не сможешь жениться на Гризельде тайно! – воскликнула Элис.
– Жениться? – Мерфин изумился. – Я не собираюсь на ней жениться. Да она меня ненавидит!
Тут из дома вышла Гризельда.
– Я не хочу выходить за тебя замуж. Но мне придется. Я беременна.
Мерфин уставился на нее.
– Это невозможно. Мы были близки всего один раз.
Элфрик грубо рассмеялся:
– Достаточно и одного раза, олух ты этакий.
– Я не женюсь на ней.
– Значит, вылетишь вон. – Мастер был непреклонен.
– Вы этого не сделаете.
– Почему же?
– Да плевать! Я на ней не женюсь.
Элфрик отложил брусок и взялся за топор.
– Боже милостивый! – вырвалось у Мерфина.
Элис сделала шаг вперед.
– Элфрик, только не убивай.
– Отойди, женщина. – Мастер вскинул топор.
Мерфин на четвереньках быстро пополз по двору, страшась за свою жизнь.
Элфрик опустил топор, но не на Мерфина, а на дверь.
– Не-ет! – завопил юноша.
Острое лезвие вонзилось в лицо длинноволосой девы и расщепило его надвое.
– Прекратите! – вскричал Мерфин.
Элфрик вновь занес топор и с силой опустил. Дверь раскололась.
Мерфин вскочил на ноги. К своему стыду, он ощутил слезы на щеках.
– Вы не имеете права! – Хотелось кричать во весь голос, но с губ срывался разве что шепот.
Элфрик поудобнее взял топор и повернулся к подмастерью.
– Отойди, козявка, не искушай меня.
Мерфин углядел в его глазах безумный блеск и отступил.
Элфрик обрушил топор на дверь.
Мерфин стоял и смотрел, а по щекам текли слезы.
11
Две собаки, Скип и Скрэп, весело приветствовали друг друга. Хоть и из одного помета, они заметно различались. Скип был кобельком коричневого окраса, а Скрэп – маленькой черной сукой. Тощий и подозрительный к чужакам Скип выглядел обыкновенной деревенской псиной, зато обитавшая в городе Скрэп рядом с ним казалась упитанной и довольной жизнью.
Прошло десять лет с тех пор, как Гвенда выбрала Скипа на полу комнаты в большом доме торговца шерстью, в день, когда умерла мать Керис. За это время девочки крепко сдружились. Правда, виделись они всего пару-тройку раз в год, но при встречах рассказывали друг другу все. Гвенда чувствовала, что может поделиться с подругой чем угодно, и ее слова не дойдут ни до родителей, ни до кого другого в Уигли. Она рассчитывала, что такое отношение взаимно; вдобавок сама она с другими кингсбриджскими девчонками не общалась, а значит, не могла по неосторожности ляпнуть что-нибудь не то.
Гвенда явилась в Кингсбридж в пятницу ярмарочной недели. Ее отец Джоби отправился на торг перед собором продавать шкурки белок, пойманных в лесу возле Уигли. Гвенда же двинулась прямиком к дому Керис, где и состоялось свидание двух собак.
Как всегда, заговорили про мужчин.
– Мерфин ходит какой-то странный, – сказала Керис. – В воскресенье все было хорошо, мы целовались, а в понедельник уже отводил глаза.
– Он в чем-то виноват, – тут же решила Гвенда.
– Может, дело в Элизабет Клерк? Она всегда на него заглядывалась, хотя сама холодная, как ледышка, и вообще слишком старая.
– А ты с Мерфином уже это делала?
– Делала что?
– Ну, то самое… В детстве я называла это хрюканьем, ведь взрослые будто хрюкают, когда этим занимаются.
– Ах это… Нет, еще нет.
– Почему?
– Не знаю…
– Ты не хочешь?
– Хочу, но… Скажи, ты вот готова всю жизнь подчиняться мужским приказам?
Гвенда пожала плечами.
– Не то чтобы мне это нравилось, но я как-то не задумывалась.
– А что насчет тебя? Ты это уже делала.
– Толком нет. Пару лет назад я позволила одному парню из соседней деревни, просто чтобы узнать, каково это… Чувство приятное, в животе тепло, будто вина напилась. Было всего один раз. Но вот Вулфрику я бы разрешила, стоит ему поманить.
– Вулфрику? Ба, ну ты даешь, подруга!
– Угу. Да, я знаю его с детства, он дергал меня за волосы и удирал, чтобы не получить сдачи. А тут, вскоре после Рождества, он вошел в храм, и я вдруг поняла, что мальчишка Вулфрик стал мужчиной. Не просто мужчиной, а очень, очень красивым. У него на волосах лежал снег, а горло прикрывал шарф горчичного оттенка. Он весь будто светился!
– Ты его любишь?
Гвенда вздохнула. Она не знала, как точнее описать свои чувства. «Любовь» слишком простое слово. Она постоянно думала о Вулфрике и не представляла, как будет жить без него. Мечтала похитить его и запереть где-нибудь в лачуге, далеко в лесу, чтобы он не смог убежать.
– Твое лицо все сказало, – сама себе ответила Керис. – А он что?
Гвенда покачала головой.
– Он даже не заговаривает со мною. Хоть бы сделал что-нибудь, показал, что знает, кто я такая, пусть всего-навсего та, кого он когда-то дергал за волосы. Но Вулфрик втюрился в Аннет, дочь Перкина. Самовлюбленная корова, а он ее обожает. Их отцы – самые богатые крестьяне в нашей деревне. Перкин разводит и продает несушек, а у отца Вулфрика пятьдесят акров земли.
– Звучит как-то безнадежно.
– Не знаю. Почему безнадежно? Аннет может умереть. Вулфрик может вдруг понять, что всегда любил меня. Мой отец может стать графом и приказать ему жениться на мне.
Керис снова улыбнулась.
– Ты права. Любовь никогда не бывает безнадежной. Мне хочется посмотреть на твоего Вулфрика.
Гвенда встала.
– Я надеялась, что ты так скажешь. Пойдем поищем.
Девушки вышли из дома, собаки помчались за ними следом. Потоки дождя, заливавшие город в начале недели, сменились редкими ливнями, но главная улица по-прежнему утопала в грязи. Благодаря ярмарке эта грязь мешалась с лошадиным навозом, гнилыми овощами и всевозможным мусором и отходами, оставленными тысячами посетителей.
Пока шлепали по омерзительным лужам, Керис справилась у подруги, как дела дома.
– Корова сдохла, – ответила Гвенда. – Нужна новая, но я понятия не имею, где отец собирается взять денег. Ему нечего продавать, кроме беличьих шкурок.
– Коровы в этом году по двенадцать шиллингов, – озабоченно заметила Керис. – Это сто сорок четыре серебряных пенни. – Ей не составляло труда посчитать в уме: у Буонавентуры Кароли она научилась арабскому счету и уверяла, что так считать проще.
– Последние несколько зим мы продержались только на этой корове, особенно малыши.
К своему несчастью, Гвенда хорошо знала, что такое настоящий голод. Даже с молоком от коровы четыре ребенка мамаши поумирали. Неудивительно, что Филемон так рвался стать монахом: чем не пожертвуешь, чтобы иметь сытную еду каждый день.
Керис просила:
– Что собирается делать твой отец?
– Что-нибудь. Корову украсть трудно, в мешок ее не засунешь, но он наверняка что-нибудь придумает.
На самом деле особой уверенности Гвенда не испытывала. Отец нечист на руку, но не блещет умом. Чтобы достать новую корову, он пойдет на все, и законы ему не указ, но кто сказал, что у него получится?
Девушки прошли в ворота аббатства и очутились на обширной ярмарке. После пяти дней непогоды мокрые торговцы выглядели донельзя расстроенными. Еще бы – промочили товары под дождем почти без всякой выгоды.
Гвенде было не по себе. Они с Керис редко говорили о разнице в достатке двух семейств. При каждой встрече Керис тихонько давала ей что-нибудь с собою: сыр, копченую рыбу, отрез сукна или кувшин меда. Гвенда неизменно благодарила – она и вправду была благодарна, – но больше никак не проявляла своих чувств. Когда папаша пытался заставить дочь воспользоваться доверием Керис и обокрасть ее, Гвенда отговаривалась тем, что тогда не сможет больше заходить в гости, а так два-три раза в год она обязательно что-нибудь да приносит в дом. Даже отец вынужден был признать разумность этого довода.
Гвенда поискала глазами лоток, с которого Перкин обычно продавал кур. Поблизости должна быть Аннет, а где Аннет, там обязательно будет Вулфрик. Она оказалась права в своих догадках. Вон Перкин, толстый и хитрый, подобострастный с покупателями и грубый со всеми остальными. Аннет лучезарно улыбалась, расхаживая с подносом яиц в руках. Платье туго натянуто на груди, пряди светлых волос выбивались из-под шапки и ниспадали завитками на румяные щеки и длинную шею. А вон и Вулфрик, похожий на архангела, что ненароком спустился на землю и по ошибке затесался среди людей.
– Вон он, – пробормотала Гвенда. – Тот высокий с…
– Я поняла, – перебила Керис. – Так хорош, что хочется съесть.
– Теперь ты меня понимаешь.
– Он не слишком молод?
– Ему шестнадцать, мне восемнадцать. Аннет тоже восемнадцать.
– Ясно.
– Знаю, что ты думаешь, – проговорила Гвенда. – Он чересчур хорош для меня.
– Вовсе нет…
– Красивые мужчины никогда не влюбляются в уродок, ведь так?
– Ты не уродка…
– Я видела себя в зеркале. – Воспоминание было болезненным, и девушка поморщилась. – Расплакалась, когда поняла, на что похожа. У меня большой нос и глаза сидят слишком близко. Как у отца.
Керис возразила:
– У тебя красивые карие глаза и чудесные густые волосы.
– Но с ним мы не пара.
Вулфрик стоял боком к подругам, как бы намеренно выставляя напоказ свой точеный профиль. Обе девушки восхищенно любовались юношей, затем он повернулся, и Гвенда разинула рот. Другая половина его лица выглядела сплошным синяком и распухла, а глаз не открывался.
Девушка подбежала к Вулфрику:
– Что случилось?
Юноша вздрогнул от неожиданности.
– О, привет, Гвенда. Да подрался тут… – Явно смущенный, он отвернулся.
– С кем?
– С графским сквайром.
– Тебе больно?
– Не волнуйся, все в порядке, – раздраженно бросил юноша.
Он, конечно, не понял, почему Гвенда так встревожилась. Может быть, подумал даже, что она тишком злорадствует.
– С каким сквайром? – спросила Керис.
Вулфрик с интересом покосился на нее и по одежде понял, что перед ним состоятельная горожанка.
– Его зовут Ральф Фицджеральд.
– О, брат Мерфина! – воскликнула Керис. – Он не пострадал?
– Я сломал ему нос. – Вулфрик подбоченился.
– И тебя не наказали?
– Просидел ночь в колодках.
У Гвенды вырвался крик ужаса.
– Бедный!
– Ничего страшного. Мой брат отгонял всех, кто хотел бросить в меня камень.
– Все равно…
Гвенда страшно испугалась. Любое ограничение свободы виделось ей наихудшей пыткой на свете.
Между тем к разговору присоединилась Аннет, отделавшаяся от очередного покупателя.
– А, это ты, Гвенда, – холодно промолвила она. Возможно, Вулфрик и вправду не замечал чувств Гвенды, но Аннет о них догадывалась, а потому обращалась с Гвендой враждебно и презрительно. – Вулфрик подрался со сквайром, который меня оскорбил. – Аннет не скрывала гордости. – Прямо-таки рыцарь из баллады.
– Я бы не хотела, чтобы он из-за меня опух, – отрезала Гвенда.
– К счастью, это вряд ли случится, правда? – Аннет торжествующе усмехнулась.
– Никогда не знаешь, что может произойти в будущем, – заметила Керис.
Аннет искоса поглядела на незнакомку, удивленная вмешательством, а еще ее явно смутило, что спутница Гвенды оказалась столь добротно одета.
Керис взяла Гвенду за руку.
– Приятно было повидать жителей Уигли, – любезно попрощалась она. – До свидания.
Девушки пошли дальше. Гвенда прыснула.
– Ловко ты осадила Аннет.
– Она меня разозлила. Из-за таких, как она, о женщинах ходит дурная слава.
– А как она радовалась, что Вулфрика из-за нее побили! Хочется глаза ей выцарапать.
Керис задумчиво поинтересовалась:
– А кроме того, что красивый, он вообще какой?
– Сильный, гордый, верный. Такой точно полезет драться за другого. Он из тех, кто будет трудиться ради своей семьи год за годом, пока не падет бездыханным. – Керис молчала, и Гвенда не могла не спросить: – Вулфрик тебе не понравился?
– С твоих слов выходит, будто он не слишком умен.
– Росла бы ты рядом с моим отцом, не говорила бы, что кормить семью не очень умно.
– Знаю. – Керис стиснула руку Гвенды. – Думаю, он тебе подходит. Чтобы ты не сомневалась, я помогу тебе его завоевать.
Подруга растерялась.
– Это как?
– Идем.
Они вышли с ярмарки и двинулись в северную часть города. Керис подвела Гвенду к маленькому домику на боковой улочке возле приходской церкви Святого Марка.
– Здесь живет знахарка, – сказала она.
Оставив собак на улице, девушки нырнули в низкую дверь.
Единственную узкую комнату первого этажа делила надвое занавеска, перед которой стояли стул и скамья. «Значит, очаг за занавеской», – подумала Гвенда и подивилась, кому могло понадобиться прятать происходящее на кухне. В комнате было чисто, но сильно пахло травами и чем-то кисловатым. Не благовония, конечно, но не противно.
Керис окликнула:
– Мэтти, это я.
Женщина лет сорока, с седыми волосами и бледным лицом человека, не бывающего на свежем воздухе, выглянула из-за занавески. Она улыбнулась, увидев Керис, затем пристально посмотрела на Гвенду и обронила:
– Вижу, твоя подруга влюблена, но избранник с нею почти не говорит.