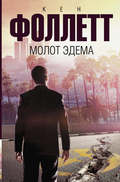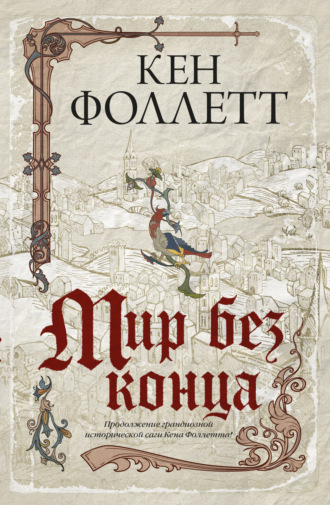
Кен Фоллетт
Мир без конца
В деревянном, как у Эдмунда, доме на первом этаже располагался большой зал и передняя, наверху – две спальни. Кухня отсутствовала, так как для приора готовили в монастыре. Многие епископы и настоятели жили во дворцах – тот же епископ Кингсбриджа имел прекрасный дворец в Ширинге, – но местный приор ратовал за скромность, делая уступку лишь ради удобных стульев, шпалер на стенах с изображением библейских сцен и большого очага, согревавшего дом в зимние холода.
Керис и Эдмунд пришли после завтрака, когда молодым монахам полагалось трудиться, а старшим читать. Карл Слепой находился в зале и был погружен в беседу с казначеем Симеоном.
– Мы должны поговорить о новом мосте, – с места начал олдермен.
– Хорошо, Эдмунд, – ответил Карл, узнав его по голосу.
Приветствие не отличалось особой сердечностью, и Керис решила, что они пришли не вовремя.
Эдмунд не менее тонко улавливал намеки, но всегда шел напролом. Он сел на стул и спросил:
– Как вы думаете, когда состоятся выборы нового аббата?
– Ты тоже можешь сесть, Керис, – предложил Карл. Любопытно, подумалось девушке, как он догадался, что она пришла с отцом. – Точная дата пока не определена. Граф Роланд имеет право назвать своего кандидата, но он еще не пришел в себя.
– Мы не можем ждать. – Керис показалось, что отец излишне резок, но такова уж была его манера, и она промолчала. – Строительные работы нужно начинать прямо сейчас. Дерево не годится. Строить необходимо из камня. Это займет три года, а если затянем, то четыре.
– Каменный мост?
– Да, только каменный. Я говорил с Элфриком и Мерфином. Деревянный мост рухнет точно так же, как рухнул прежний.
– Но расходы!
– Около двухсот пятидесяти фунтов в зависимости от конструкции по подсчетам Элфрика.
Брат Симеон поджал губы.
– Деревянный мост тянет на пятьдесят фунтов, и приор Антоний на прошлой неделе отверг этот план из-за непомерных расходов.
– И каков результат? Сотни жертв, куда больше раненых, погибший скот, повозки, приор скончался, а граф при смерти.
Карл жестко проговорил:
– Надеюсь, вы не собираетесь возлагать вину за все это на усопшего приора Антония.
– Мы не можем утверждать, что его решение пошло на пользу.
– Господь покарал нас за грехи.
Эдмунд вздохнул. Керис приуныла: всякий раз, когда ошибались, монахи начинали ссылаться на волю Господа.
– Нам, простым людям, трудно постичь Божий Промысел, – сказал Эдмунд. – Но одно известно наверняка: без моста город погибнет. Мы уже уступаем Ширингу. Если не построим как можно скорее новый каменный мост, Кингсбридж станет маленькой деревней.
– Возможно, таков Божий замысел.
Эдмунд начал раздражаться.
– А возможно ли, что Господь недоволен вами, монахами? Поверьте, если шерстяная ярмарка и рынок захиреют, здесь не будет ни аббатства с двадцатью пятью братьями, сорока сестрами и пятьюдесятью служками, ни госпиталя, ни хора, ни школы. Может, не будет даже собора. Епископ Кингсбриджа всегда жил в Ширинге. Что, если тамошние богатые купцы предложат ему построить великолепный новый собор на доходы от их процветающей торговли? Ни рынка, ни города, ни собора, ни аббатства – вы этого хотите?
Карл выглядел расстроенным. Ему явно не приходило в голову, что крушение моста способно в отдаленном будущем обернуться крахом для аббатства.
Но Симеон повторил:
– Если монастырь не имеет средств построить деревянный мост, что уж говорить о каменном.
– Но вам придется его построить!
– А каменщики будут работать бесплатно?
– Разумеется, нет. Им нужно кормить семьи. Мы уже объясняли, что горожане могут собрать деньги и одолжить их аббатству под мостовщину.
– Отобрать у нас доход с моста? – возмущенно воскликнул Симеон. – Вы опять за свое?
– Сейчас вы вообще ничего не получаете, – вставила Керис.
– Почему же, нам отходит плата за паром.
– Значит, вы все же нашли средства расплатиться с Элфриком?
– Это намного дешевле, чем мост, но наша казна изрядно пострадала.
– Так вы ее не пополните: паром переправляет слишком медленно.
– Не исключено, что в будущем аббатство сможет построить новый мост. Если Господу будет угодно, он ниспошлет нам средства. И тогда мы станем получать причитающийся доход в полной мере.
– Господь уже послал вам решение: надоумил мою дочь, как собрать необходимые средства. Такого еще никто не делал.
Карл сухо ответил:
– Пожалуйста, предоставьте нам решать, что замыслил Господь.
– Прекрасно. – Эдмунд встал, за ним поднялась и Керис. – Мне очень жаль, что вы настолько упрямы. Это гибель для Кингсбриджа и для всех, кто там живет, включая монахов.
– Я должен слушаться Господа, а не вас.
Отец и дочь направились было к выходу.
– Еще одно, если позволите, – остановил их Карл.
Эдмунд обернулся.
– Разумеется.
– Мирянам не дозволяется свободно заходить в здания аббатства. В следующий раз, когда вам будет угодно повидать меня, пожалуйста, ступайте в госпиталь и пошлите послушника или служку аббатства найти меня, как полагается.
– Я олдермен приходской гильдии, – возразил Эдмунд, – и всегда имел прямой доступ к приору.
– Никаких сомнений, приору Антонию, вашему брату, было неудобно настаивать на соблюдении обычных правил. Но эти дни миновали.
Керис посмотрела на отца. Тот едва сдерживал бешенство.
– Как скажете.
– Да благословит вас Господь.
Эдмунд вышел, Керис последовала за отцом.
Вместе они пересекли двор и лужайку, миновали прискорбно жалкую горстку рыночных лотков. Девушка понимала, как тяжело отцу, сколь велики его обязательства. Большинство горожан беспокоились лишь о том, как прокормить семью. Олдермен же заботился обо всем городе. Керис покосилась на отца и заметила, что тот озадаченно кривится. В отличие от Карла Эдмунд не станет воздевать руки к небу и твердить, что на все воля Божья. Нет, он будет ломать голову, пытаясь решить задачу. Керис стало жаль отца, брошенного на произвол судьбы без всякой помощи от будто бы всесильного аббатства. Отец никогда не жаловался на груз ответственности, просто брал его на себя. Ей захотелось плакать.
Вышли со двора на главную улицу. У двери дома Керис спросила:
– Что же нам теперь делать?
– Это же очевидно, – ответил отец. – Нельзя допустить, чтобы Карла выбрали приором.
15
Годвин хотел стать аббатом Кингсбриджа, желал этого всем сердцем. Ему не терпелось изменить к лучшему денежное положение аббатства, навести порядок в управлении землями и другим имуществом, чтобы монахам больше не приходилось обращаться за деньгами к матери Сесилии. Он жаждал добиться четкого разделения братии с сестрами, а также выстроить преграду между всеми монашествующими и горожанами, чтобы принявшие постриг могли дышать чистым воздухом праведности. Помимо этих высоких целей им двигало кое-что еще: он желал власти и титулов. По ночам он уже воображал себя приором.
«Прибери мусор во дворе», – говорил он какому-нибудь монаху.
«Да, отец-настоятель, уже иду».
Годвину нравилось, как звучат слова «отец-настоятель».
«Добрый день, епископ Ричард», – говорил он дружески, вежливо, но без подобострастия.
Епископ Ричард отвечал ему, как один почтенный клирик отвечает другому: «Вам также добрый день, приор Годвин».
«Надеюсь, вы довольны, милорд архиепископ?» – спрашивал настоятель уже более почтительно, но все же не как подчиненный, а как младший сподвижник великого человека.
«О да, приор, вы проделали прекрасную работу».
«Ваше преосвященство очень добры».
Может быть, в один прекрасный день, прогуливаясь по дворику подле богато одетого властителя, он скажет: «Ваше величество оказали нам великую честь, посетив наше скромное аббатство».
«Благодарю вас, отец Годвин, но я приехал к вам за советом».
Да, ризничий очень хотел стать настоятелем, но не знал, как этого добиться. Думал неделю напролет, наблюдая за сотнями похорон и устраивая воскресную службу – погребение Антония и одновременно поминание всех погибших жителей Кингсбриджа.
О своих чаяниях он ни с кем не заговаривал. Всего десять дней назад он познал цену бесхитростности, когда пришел на общее собрание с «Книгой Тимофея» и сильными доводами в пользу перемен, а старики, словно сговорившись, дружно ополчились на него и размозжили, точно колесо повозки лягушку.
Такое больше не должно повториться.
В воскресенье утром, когда монахи потянулись в трапезную на завтрак, послушник шепнул Годвину, что у северного входа в собор ожидает его мать. Ризничий незаметно отделился от братии.
Легким шагом, почти крадучись, он пересек двор и вступил в собор. Его одолевали дурные предчувствия. Наверное, что-то стряслось, что-то произошло вчера, и Петранилла забеспокоилась. Небось пролежала полночи без сна, зато проснулась с рассветом, составив некий план действий, и он, Годвин, был частью этого плана. Значит, мать будет крайне настойчивой и станет подавлять. Скорее всего ее план сулит успех, но даже если нет, она все равно будет требовать его выполнения.
Петранилла стояла во мраке в мокрой накидке – опять пошел дождь.
– Мой брат Эдмунд ходил вчера к Карлу Слепому. Говорит, Карл ведет себя так, будто уже стал приором, а выборы – простая условность.
В ее голосе звучало обвинение, словно Годвин был виноват в спеси регента, и Годвин начал защищаться:
– Старики сплотились вокруг Слепого еще прежде, чем остыло тело дяди Антония. Они и слышать не хотят о других кандидатах.
– Хм-м. А молодые?
– Конечно, хотят меня. Им понравилось, как я выступил против приора Антония с «Книгой Тимофея», хоть меня и поставили на место. Но я ничего не ответил.
– Другие соперники есть?
– Лэнгли – чужак. Некоторые не любят его, так как он был рыцарем и по собственному произволу убивал людей. Зато он очень способный, хорошо работает и никогда не задирает послушников…
Петранилла задумалась.
– А какова его история? Почему он стал монахом?
Дурные предчувствия, похоже, не оправдывались. Вроде бы мать не собиралась бранить Годвина за бездействие.
– Сам он говорит, что всегда стремился к благочестивой жизни и, когда оказался здесь с раной от меча, решил остаться.
– Это я помню. Десять лет назад было. Кстати, известно, кто его ранил?
– Нет. Брат Томас не любит рассказывать о своем бурном прошлом.
– А кто внес за него пожертвование?
– Как ни странно, этого я тоже не знаю. – Годвин часто поражался способности матери задавать самые важные вопросы и восхищался ею, при всех ее деспотических замашках. – Возможно, епископ Ричард. Помню, он обещал посодействовать. Но своих средств у него не имелось, ведь тогда он был не епископом, а простым священником. Возможно, он попросил графа Роланда.
– Выясни это.
Годвин не спешил соглашаться. Придется просмотреть все документы в монастырской библиотеке. Библиотекарь брат Августин не посмеет расспрашивать ризничего, но есть люди поважнее библиотекаря. Тогда понадобится правдоподобное объяснение. Если пожертвование поступило деньгами, а не землями или каким-либо иным имуществом – это было необычно, но допускалось, – придется изучить все счета…
– В чем дело? – резко спросила мать.
– Ни в чем. Ты права. – Годвин снова напомнил себе, что материнская тирания – признак любви; наверное, иначе Петранилла не умеет выражать свою заботу. – Должна быть запись. Просто…
– Что?
– О таких пожертвованиях обычно трубят на всех углах. Приор объявляет об этом в храме, призывает благословение на голову жертвователя, затем читает проповедь о том, что люди, дарующие земли монастырям, вознаграждаются на небесах. Но я не помню ничего подобного в то время, когда у нас появился Лэнгли.
– Тем более нужно поискать в документах. Думаю, у этого Томаса есть какая-то тайна, а тайна всегда слабость.
– Я проверю. Но что отвечать тем, кто хочет видеть меня приором?
Петранилла улыбнулась.
– Думаю, лучше отвечать, что ты не собираешься выдвигаться.
* * *
Когда Годвин простился с матерью, завтрак уже закончился.
По старинному правилу опоздавших не кормили, но трапезник брат Рейнард всегда находил что-нибудь для своих любимчиков. Годвин прошел на кухню и получил кусок сыра с хлебом. Ел он стоя, а монастырские служки носили миски из трапезной и скребли железный котел, в котором варилась каша для завтрака.
Годвин обдумывал слова матери, и чем дольше размышлял, тем разумнее казался ее совет. Если он объявит, что не собирается выдвигаться, все его дальнейшие высказывания станут восприниматься как незаинтересованное мнение. Он сможет управлять выборами, не возбуждая подозрений в том, что действует ради собственной выгоды. А в последний миг сделает свой ход. Теплая волна благодарности матери за изворотливость ума и верность неукротимого сердца заполнила душу.
Брат Теодорик отыскал ризничего на кухне. Светлокожий монах покраснел от возмущения.
– Брат Симеон за завтраком сказал нам, что Карл станет приором! – воскликнул он. – Мол, нужно блюсти мудрые установления Антония. Слепой ничего не будет менять!
«Хитро», – подумал Годвин. Казначей воспользовался отсутствием Годвина и сообщил братии то, что вызвало бы возражения ризничего, будь он на завтраке.
Годвин поморщился:
– Это некрасиво.
– Я спросил, позволено ли другим кандидатам обратиться к монахам таким же образом за завтраком.
Годвин похвалил:
– Молодец!
– Симеон сказал, что другие кандидаты не нужны. Дескать, у нас не состязание в стрельбе из лука. По его мнению, решение уже принято: приор Антоний избрал Карла своим преемником, назначив помощником.
– Какая ерунда.
– Точно. Монахи в бешенстве.
«Это замечательно, – подумал Годвин. – Карл обидел даже своих сторонников, лишив их права выбора. Слепой сам рубит сук, на котором сидит».
Теодорик продолжал:
– Думаю, нужно заставить Карла отказаться.
Годвину захотелось узнать, не спятил ли монах, однако он прикусил язык и попытался сделать вид, будто размышляет над этим предложением.
– Думаешь, так будет лучше? – спросил он, словно в самом деле сомневался.
Теодорик удивился вопросу.
– Ты о чем?
– Говоришь, братья в бешенстве от Карла и Симеона? Тогда они не проголосуют за Карла. Но если Слепой откажется от выборов, старики выставят нового кандидата, причем посильнее, например, брата Иосифа, которого все уважают.
Теодорик ошарашенно кивнул.
– Я об этом не подумал.
– Наверное, будет лучше, если кандидатом стариков останется Карл. Все знают, что он против любых перемен. Слепой стал монахом, поскольку ему приятно, что каждый новый день не приносит ничего нового. Он намерен ходить по одним и тем же дорожкам, сидеть на том же стуле, обедать, молиться, спать в одних и тех же местах. Возможно, причиной тому его слепота, хотя я предполагаю, что он вообще такой по характеру. Но это не важно. По его мнению, менять ничего не нужно. Однако многие монахи настроены иначе, поэтому Карла легко обойти. Другой кандидат от стариков, ратующий за мелкие, несущественные перемены, победит скорее. – Годвин осекся, поймав себя на том, что отбросил показную неуверенность и принялся составлять вслух план действий. – Не знаю, конечно, а ты как думаешь?
– Я думаю, что ты гений, – ответил Теодорик.
«Нет, не гений, – подумал Годвин, – но быстро учусь».
Он направился в госпиталь, где нашел Филемона, подметавшего гостевые комнаты наверху. В аббатстве по-прежнему находился лорд Уильям, ожидавший, пока его отец придет в себя или умрет. Леди Филиппа не покидала супруга. Епископ Ричард вернулся в Ширинг, но должен был приехать сегодня на поминальную службу.
Годвин повел Филемона в библиотеку. Сам служка едва умел читать, но мог оказаться полезным.
В аббатстве хранилось более сотни хартий. Большинство содержало сведения о заключении земельных сделок, в основном в окрестностях Кингсбриджа, хотя отдельные владения аббатства были рассеяны по всей Англии и встречались даже в Уэльсе. Другие хартии наделяли монахов правом учреждать обители, строить церкви, бесплатно брать камни из каменоломни во владениях графа Ширинга, делить землю вокруг аббатства на участки под дома и сдавать их в аренду, собирать мостовщину, проводить судебные заседания, а также устраивать раз в неделю рынок и проводить ежегодно шерстяную ярмарку, а еще сплавлять товары в Мелкум по реке, не платя податей владельцам земель, по которым та река протекала.
Хартии писались пером и чернилами на пергаменте. Тонкую кожу старательно зачищали, скоблили, отбеливали и растягивали, чтобы она стала пригодной для письма. Длинный пергамент сворачивали в свитки, перевязывали тонкими кожаными ремешками и хранили в обитом железом сундуке. Тот запирался на замок, но ключ хранился тут же, в библиотеке, в маленькой резной шкатулке.
Открыв сундук, Годвин недовольно нахмурился. Хартии, обычно лежавшие ровными рядами, были запиханы кое-как. Некоторые оказались измятыми, обтрепались, все без исключения запылились. «Их нужно хранить в календарной последовательности, – думал ризничий, – пронумеровать, а список с номерами прикрепить к внутренней стороне крышки, чтобы каждый документ было легко отыскать. Когда стану приором…»
Филемон по одной вытаскивал хартии, сдувал пыль и клал на стол перед Годвином. Служку не любили почти все. Кое-кто из пожилых монахов не доверял ему, но только не Годвин: трудно испытывать неприязнь к человеку, который видит в тебе всемогущего заступника. Впрочем, большинство привыкли к Филемону, ведь он находился в аббатстве давным-давно. Годвин помнил его еще мальчиком, высоким и неуклюжим, который вечно торчал возле монастыря, расспрашивая братьев, какому святому лучше молиться и видели ли монахи когда-нибудь своими глазами настоящее чудо.
Большинство документов писали на одном листе дважды. Затем между одинаковыми текстами большими буквами выводили слово «хирографа»[30] и по этому слову зигзагом разрезали пергамент на две части. Потом половинки складывали, и если линии зигзага совпадали, это служило доказательством, что оба документа подлинные.
На некоторых хартиях имелись дыры – должно быть, там, куда живую еще овцу укусило насекомое. Другие были обгрызены – по всей видимости, мышами.
Конечно, все хартии были на латыни. Свежие читались легче, но старинный шрифт порою давался Годвину с трудом. Он просматривал документы в поисках нужной даты, ведь целью его являлась хартия, написанная вскоре после службы Всем Святым десять лет назад.
Увы, нужной не нашлось.
Ближайшим по времени являлся документ, составленный несколько недель спустя: граф Роланд давал позволение сэру Джеральду перевести земли во владение монастыря, в обмен на что аббатство прощало рыцарю долги и брало его вместе с женой на пожизненное иждивение.
Годвин не сильно расстроился. Скорее наоборот. Либо брата Томаса приняли в монастырь без обычного пожертвования – что само по себе странно, – либо документ хранится в другом месте, подальше от любопытных глаз. В любом случае мать права и у Лэнгли действительно есть тайна.
Укромных уголков в аббатстве было немного. Хотя в некоторых богатых монастырях старшим братьям выделяли отдельные кельи, в Кингсбридже все, кроме настоятеля, спали в одной большой комнате. Почти наверняка искомая хартия о приеме Томаса находится в доме приора.
Этот дом ныне занимает Карл.
Плохо, дело усложняется. Слепой не позволит Годвину там шарить. Хотя шарить-то, может, и не придется. Почти наверняка где-нибудь на видном месте стоит шкатулка или ларец с личными документами покойного приора: записи поры послушничества, дружеские письма от архиепископа, проповеди. Верно, после смерти Антония регент велел все просмотреть, но это вовсе не значит, что он разрешит Годвину сделать то же самое.
Раздумывая, Годвин нахмурился. Если Эдмунд или Петранилла попросят показать им бумаги покойного брата, Карлу будет сложно отклонить такую просьбу. Но прежде Слепой может кое-что изъять. Нет, искать нужно тайком.
Зазвонил колокол на службу третьего часа. Годвин вдруг осознал, что единственное время, когда Карла наверняка не будет в доме, это соборная служба.
Значит, придется пропустить молитву. Потребуется правдоподобное объяснение, а подобрать такое будет нелегко: он ризничий, тот самый человек, который ни при каких обстоятельствах не должен пропускать службы. Но выбора не было.
– Подойди ко мне в храме, – велел он Филемону.
– Хорошо, – ответил тот, но заметно встревожился: служкам не разрешалось заходить в алтарную часть во время службы.
– Зайди сразу после прочтения стиха[31] и пошепчи мне что-нибудь на ухо. Не важно что. Не обращай внимания на мое недовольство, продолжай шептать.
Филемон озадаченно нахмурился, но кивнул в знак согласия. Для Годвина он сделает все.
Ризничий вышел из библиотеки и присоединился к братьям, шедшим в собор. В нефе стояло всего несколько человек: большинство горожан придут позже, на поминальную службу. Монахи заняли свои места в алтаре, и служба началась.
– Господи, помилуй, – взмолился Годвин вместе с остальными.
Прочитали из Библии, начался первый гимн, и тут появился Филемон. Все монахи уставились на него, как бывает, когда по ходу привычного действа случается что-то необычное. Брат Симеон неодобрительно насупился. Регент Карл почувствовал общее смятение, и на лице его промелькнуло удивление. Служка подошел к Годвину и наклонился.
– Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых[32], – прошептал он.
Годвин сделал вид, что удивился, но не стал прерывать служку, а Филемон продолжал читать первый псалом. Спустя несколько мгновений Годвин потряс головой, как бы отклоняя некую просьбу, затем вновь прислушался, сознавая, что ему придется придумать убедительное оправдание всей этой пантомиме. К примеру, можно потом сказать, что его матери понадобилось срочно переговорить с ним о похоронах Антония, и она угрожала ворваться в алтарную часть, если Филемон не позовет Годвина. Норов Петраниллы в сочетании с семейным горем делал эту историю вполне правдоподобной. Когда служка дочитал до конца псалом, Годвин состроил сокрушенную мину, встал со скамьи и следом за Филемоном покинул храм.
Они спешно обошли собор, торопясь в дом приора. На пороге им встретился молодой служка, подметавший пол, но не посмел ни о чем спрашивать ризничего. Может, потом он наябедничает Карлу, что Годвин и Филемон приходили в его отсутствие, но будет уже поздно.
Ризничий считал дом приора позором для аббатства. Строение было меньше дома дяди Эдмунда на главной улице, хотя настоятелю полагался подобающий его сану дворец, как у епископа. А в этом строении не было ничего величественного. На стенах висели редкие шпалеры с библейскими сценами, мешавшие свободно гулять по дому сквознякам, но все убранство было каким-то блеклым, не внушающим почтения, – как и сам покойный Антоний.
Годвин и Филемон быстро осмотрели дом и вскоре нашли то, что искали. Наверху, в спальне, в сундуке возле скамеечки для молитв лежала довольно большая сумка мягкой козьей кожи имбирного оттенка, красиво расшитая алой нитью. Наверняка дар какого-нибудь набожного городского кожевника.
Филемон пристально посмотрел на Годвина, а тот открыл сумку.
Внутри нашлось около трех десятков пергаментных свитков, переложенных холщовыми тряпочками. Ризничий быстро их просмотрел.
Некоторые содержали скучные записи про псалмы: должно быть, Антоний когда-то думал написать книгу толкований к псалмам, да так и не собрался. Более всего Годвина удивило лирическое стихотворение на латыни. Заголовок «Virent oculi»[33] говорил о том, что оно посвящено человеку с зелеными глазами. У дяди Антония, как и у всех членов семьи, были зеленые глаза с золотыми искорками.
Годвин прикинул, кто мог быть автором стихов. Не так уж много женщин настолько хорошо владеют латынью, чтобы писать стихи. Или автором был мужчина? Пергамент старый, пожелтевший: любовная история, если таковая имела место, произошла в юности покойного настоятеля. Может, Антоний и не был таким уж скучным типом, каким всегда казался Годвину.
Филемон спросил:
– Это что?
Монах почувствовал себя виноватым: заглянул в укромный уголок личной жизни дяди и пожалел об этом.
– Ничего, просто стихотворение.
Он взял в руки следующий пергамент и замер.
Хартия, датированная Рождеством десятилетней давности. Речь в ней шла о пятистах акрах земли возле Линна в Норфолке. Владелец земель на ту пору недавно скончался. Бесхозные владения передавались Кингсбриджскому аббатству, оговаривались ежегодные подати – зерном, руном, телятами, цыплятами. Выплачивать должное аббатству полагалось сервам[34] и свободным крестьянам, что трудились на этой земле. Указывалось имя крестьянина, назначаемого старостой и отвечавшего за ежегодные поставки в аббатство. Документ предусматривал также денежные выплаты вместо продуктов – распространенная ныне практика, особенно когда владения располагались далеко от местожительства владельца.
Обычная хартия. Каждый год после сбора урожая старосты из десятков таких деревень появлялись в аббатстве – привозили монахам подати. Из ближних селений приезжали ранней осенью, остальные – в разные сроки до Рождества.
Еще в документе указывалось, что дар пожертвован в благодарность за то, что монастырь принял сэра Томаса Лэнгли в монахи: ничего особенного, – но привлекала внимание подпись на документе. Хартию подписала королева Изабелла.
Вот это уже интересно. Неверная супруга Эдуарда II подняла мятеж против короля, посадив на престол своего четырнадцатилетнего сына. Вскоре свергнутый король умер, и приор Антоний ездил на погребение в Глостер. Брат Томас появился в монастыре приблизительно в это же время.
Несколько лет в Англии хозяйничали королева и ее фаворит Роджер Мортимер, но недавно, несмотря на молодость, их оттеснил от власти Эдуард III. Новому королю было двадцать четыре года, однако правил он крепкой рукой. Мортимер умер, а Изабелла в свои сорок два поселилась в роскошном, но уединенном замке Райзинг в Норфолке, недалеко от Линна.
– Вот оно! – Годвин повернулся к Филемону. – Брат Томас стал монахом благодаря королеве Изабелле.
Филемон нахмурился.
– Но почему?
Нигде не учившийся, служка был сметлив от природы.
– А в самом деле, почему? – задумался вслух Годвин. – Может, она хотела вознаградить его или заставить замолчать, а может, и то и другое вместе. Ведь это случилось в год свержения короля.
– Должно быть, Томас оказал ей какую-то услугу.
Годвин кивнул.
– Например, доставил какую-нибудь записку, или открыл ворота замка, или выдал планы короля, или заручился для нее поддержкой важного барона. Но почему это тайна?
– Это не может быть тайной, – возразил Филемон. – Казначей должен знать. И в Линне все должны знать. Староста ведь говорит с кем-то, когда приезжает сюда.
– Но никому не ведомо, что все делалось во благо брата Томаса, если, конечно, никто не заглядывал в эту хартию.
– Выходит, вот в чем тайна – королева Изабелла внесла пожертвование за Томаса.
– Воистину так. – Годвин аккуратно переложил листы пергамента тряпочками, засунул их обратно в сумку, а сумку положил в сундук.
Филемон спросил:
– Но почему это нужно хранить в тайне? В таком пожертвовании нет ничего бесчестного или позорного. Обычное дело.
– Не знаю почему, да нам это и не нужно. Вполне достаточно того, что кто-то пытается сохранить секрет. Пойдем.
Годвин ликовал. У Лэнгли есть тайна, и он, Годвин, об этом знает. Это власть. Теперь он может выдвинуть на должность аббата брата Томаса. Но в глубине души его снедала тревога: Томас вовсе не дурак.
Годвин и Филемон вернулись в собор. Служба вскоре закончилась, и ризничий начал готовиться к поминовению. По его указанию шестеро монахов поставили гроб с телом Антония на возвышение перед алтарем, а вокруг разместили свечи. Горожане стали собираться в нефе. Годвин кивнул двоюродной сестре Керис, которая повязала черный шелковый платок поверх повседневного головного убора. Тут он заметил Томаса, который вместе с послушником нес большое красивое кресло – епископский престол, или кафедру, которая и давала собору статус кафедрального.
Годвин тронул монаха за руку.
– Давай дальше понесет Филемон.
Томас явно вознегодовал, решив, что собрат предлагает помощь калеке.
– Я справлюсь.
– Знаю, что справишься. Мне нужно с тобою поговорить.
Лэнгли был старше Годвина – ему исполнилось тридцать четыре, Годвину стукнул тридцать один, – но в монастырском чиноначалии ризничий стоял выше. Тем не менее он всегда немного робел перед Томасом. Матрикуларий неизменно выказывал уважение, но Годвину это почтение казалось напускным: он подозревал, что Томас уважителен ровно настолько, насколько требуется, не более того. В своих поступках брат Томас целиком соответствовал Правилам святого Бенедикта, однако чудилось, что он принес в аббатство дух рыцарской вольницы и за минувшие годы нисколько не утратил былой самостоятельности суждений.
Обмануть Лэнгли будет непросто, а именно это Годвин и намеревался сделать.
Томас уступил Филемону престол и отошел следом за ризничим в боковой придел.
– Говорят, ты можешь стать приором, – начал Годвин.
– То же самое говорят о тебе, – ответил Томас.
– Я откажусь выдвигаться.
Томас приподнял бровь.
– Ты удивляешь меня, брат.
– По двум причинам. Во-первых, как мне кажется, ты лучше справишься с этой ношей.
Томас удивился еще больше. Видимо, он не предполагал в Годвине подобной скромности. И был прав: ризничий лгал.
– Во-вторых, у тебя больше сторонников. – Вот теперь Годвин говорил правду. – Молодые предпочитают меня, но ты по нраву всем независимо от возраста.
Томас озадаченно сощурился, пытаясь отыскать ловушку.
– Я хочу тебе помочь, – продолжал ризничий. – Убежден, нам следует выбрать приора, который изменит аббатство и приведет в порядок хозяйство.
– Думаю, мне это по силам. Но чего ты хочешь за поддержку?
Годвин понимал, что ничего не просить нельзя: Томас все равно не поверит, поэтому заготовил правдоподобную ложь:
– Хочу стать твоим помощником.
Томас кивнул, но согласился не сразу.
– И как ты собираешься мне помогать?
– Прежде всего обеспечу тебе поддержку горожан.
– Считаешь, для этого достаточно иметь дядей Эдмунда-суконщика?
– Не все так просто. Городу нужен мост. Карл ничего не обещает. Город не хочет видеть его приором. Если я скажу олдермену, что ты начнешь строить мост сразу после избрания, за тебя встанут все горожане.
– Но тогда многие монахи за меня не проголосуют.
– Я в этом не уверен. Не забудь: выбор братьев должен одобрить епископ. Епископы, как правило, достаточно осторожны и учитывают мнение мирян. Ричард не станет нарываться на неприятности. Если горожане поддержат тебя, это будет много значить.
Годвин видел, что Томас ему не верит. Матрикуларий пристально смотрел на него, и ризничий ощутил, как по хребту сбегает струйка холодного пота. Однако в итоге Томас согласился с его доводами.
– Разумеется, нам нужен новый мост. Глупо со стороны Карла этому противиться.