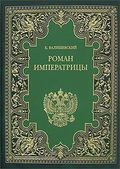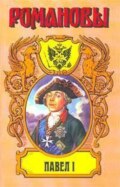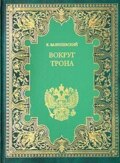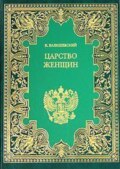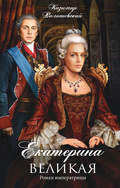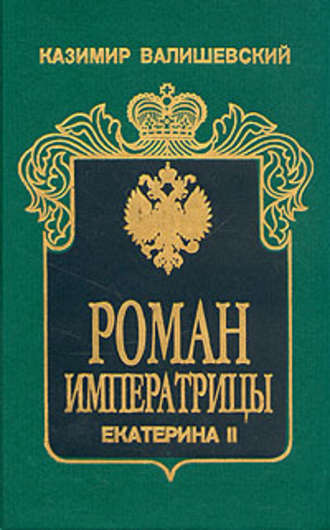
Казимир Валишевский
Роман императрицы. Екатерина II
– Что вам угодно, милостивый государь? – спросил великий князь.
– Вы не узнаете меня, ваша светлость!
– Я прекрасно вас узнаю; вы господин Клериссо.
– Почему же вы в таком случае ничего не говорите мне?
– Потому что мне нечего вам сказать.
– Вы, значит, и здесь будете обращаться со мной, как и у себя, ваша светлость, не признавать меня, как незнакомца, – меня, архитектора императрицы, состоящего в переписке с ней! Я писал вашей матушке, чтобы пожаловаться на тот недостойный прием, который вы оказали мне.
– Напишите также моей матушке, в таком случае, что вы мешаете мне пройти, милостивый государь! Она наверное вас поблагодарит за это.
Версия Гримма – он излагает инцидент в письме к Екатерине – значительно отличается от рассказа г-жи Оберкирх. Она кажется нам более правдоподобной. Павел, по-видимому, первый подошел к Клериссо, чтобы загладить свою вину перед ним, и стал напоминать ему очень любезным тоном те похвалы, которые расточал ему во время их первого свидания. Но Клериссо резко оборвал эти запоздавшие излияния:
– Граф, возможно, что вы имели намерение сказать мне все это, но я этого не слышал.
– В таком случае у вас нет ни слуха, ни памяти, – возразил ему нетерпеливо Павел.
Эти слова и вмешательство присутствовавших положили конец неприятному разговору. «Никогда со мной так дурно не обращались, – сказал смеясь великий князь: – меня всего даже бросило в жар». Великая княгиня пыталась было потом поправить дело; но Клериссо остался непреклонным и в конце концов стал даже груб. Графиня Северная просила его прислать ей модель и рисунки салона его работы, которым она очень восхищалась, но он ответил на это сухо:
– Я пошлю эту модель и эти рисунки моей августейшей благотворительнице, у которой графиня может их видеть.
Екатерина, разумеется, не взяла сторону архитектора против наследника своего престола: она слишком высоко ставила для этого престиж своего сана и царского достоинства. Но это столкновение само по себе не могло не произвести на нее тяжелого впечатления: она еще более укрепилась во мнении, что ее сын и наследник не умеет обходиться с людьми. Ее письма к нему и к невестке во время их путешествия были, впрочем, полны материнской заботливости и любви. Продолжительная разлука с сыном как будто смягчила и умиротворила Екатерину. Но, возвратившись и живя у нее на глазах, Павел опять стал для нее угрозой и причиной неумолчной тревоги. Разве не ходили прежде в народе слухи, что императрица только ждет его совершеннолетия, чтобы восстановить его права, т.е. вернуть ему престол, который она занимала?
III. Эти отношения обостряются. – Разномыслие между Павлом и Екатериной. – Павел составляет оппозицию. – Денежные затруднения молодого двора. – Гневное чтение бумаг одного банкира. – Догадки о последней воле Екатерины. – Будет ли Павел лишен престола? – Все ждут манифеста. – Предполагаемое завещание Екатерины.
После заграничного путешествия отношения Павла с матерью еще обострились. Он и великая княгиня жаловались на то, что императрица отнимает у них детей. Даже отправляясь в Крым, Екатерина хотела увезти с собою маленьких великих князей Александра и Константина Павловичей. Но на этот раз родители так горячо восстали против этого, что она не решилась пойти против их воли. Кроме того, и вопросы чисто государственного характера играли большую роль в этой ссоре матери и сына, становившейся изо дня в день все более ожесточенной. В июле 1783 года маркиз Верак, французский посланник в Петербурге, много раз предлагавший Екатерине услуги Версальского двора, чтобы уладить враждебные отношения между Россией и Турцией, писал о равнодушном, даже пренебрежительном приеме, оказанном ему императрицей и ее министрами, но в то же время указывал на антагонизм между Екатериной и Павлом, в котором видел в будущем надежду для Франции: «Великий князь решительный противник политической системы императрицы; этот принц, воспитанный в мудрых принципах покойного графа Панина, думает со смертельным огорчением о бедственном состоянии, до которого будет доведено его государство безграничной расточительностью его матери. Он смотрит на план нападения на турок, как на проект, который вызовет полное разорение России, и лично крайне возбужден против императора, так как считает его зачинщиком этого дела».
Когда разразилась война, Екатерина не позволила великому князю принять в ней участие. «Это была бы для вас новая обуза», – писала она Потемкину. А во время шведской войны она хотя и разрешила Павлу отправиться в Финляндию, но Кнорринг, командовавший одним из корпусов действующей армии, получил – как он уверял впоследствии – приказ не сообщать его высочеству планов военных операций. В 1789 году, когда поднялся вопрос о разрыве с Пруссией, положение Павла приняло угрожающее для него сходство с положением Петра в последние годы царствования Елизаветы. По Петербургу пошли мрачные слухи. Знаменитый греческий проект императрицы был тоже поводом к постоянным столкновениям между нею и сыном: Павел относился к нему с нескрываемым несочувствием. И наконец, видя постоянные смены временщиков, Павел отказывал иногда матери в сыновнем уважении, а фавориты, со своей стороны, не считали нужным щадить великого князя. Раз за обедом, когда цесаревич согласился с какою-то мыслью Зубова, тот спросил громко: «Разве я сказал какую-нибудь глупость?»
У молодого двора часто бывали большие денежные затруднения. В 1793 году Екатерина просматривала вместе со своим секретарем Державиным счета придворного банкира Сэтерланда, дела которого были настолько плохи, что он со дня на день мог прекратить платежи, Перечисляя его актив, Державин дошел до суммы, которую банкиру должно было «одно высокое лицо, не очень любимое государыней». Екатерина сейчас же догадалась, о ком идет речь. «Вот как мотает! – воскликнула она: – на что ему такая сумма!» Державин позволил себе тогда напомнить императрице, что покойный князь Потемкин имел обыкновение заключать еще более крупные займы; он указал на некоторые из них среди долгов Сэтерланду. Екатерина промолчала, и Державин стал читать дальше. Дошли до второго долга «высокого лица». – «Вот опять!» вскричала в гневе Екатерина: – мудрено ли после этого сделаться банкротом». Державин, желая подвести нового фаворита, Платона Зубова, который, по его мнению, платил ему за его преданность слишком скупо, обратил внимание императрицы на громадную сумму, недавно взятую Зубовым у банкира. Ничего не отвечая, Екатерина позвонила. «Нет ли там кого в секретарской комнате?» спросила она. – «Василий Степанович Попов, ваше величество». – «Позови его сюда». Попов вошел. «Сядьте тут, – сказала ему Екатерина, – да посидите во время доклада; этот господин, мне кажется, меня прибить хочет…»
Великий князь жил с женой в Гатчине или в Павловске, совершенно отдельно от матери и разлученный со своими детьми, находившимися при императрице; он не видал их иногда месяцами. Для свидания с ними ему необходимо было испрашивать разрешение у графа Салтыкова, их воспитателя. Мы говорили уже о том, что в последние годы царствования Екатерины при дворе и в обществе сложилось убеждение, что она лишит сына престола. Многие горячо желали этого. Все ждали манифеста, который бы выяснил этот важный пункт. Думали, что он появится 1 января 1797 года. По одной версии манифест будто бы уже был составлен, и в нем обещалось дать России конституционный строй с воцарением Александра, так как характер Павла был несовместим с такой формой правления. В Записках же Энгельгардта и в отрывке Записок Державина, дошедшем до нас, говорится тоже о подобном завещании императрицы, но без загадочного и сомнительного упоминания о конституционализме, так мало совместимом со взглядами Екатерины в те годы. Ода, написанная Державиным на восшествие на престол Александра I, тоже намекает на это, как и любопытное сочинение под заглавием «Разговоры в царстве мертвых Екатерины Великой с Петром Великим, Фридрихом II, королем Прусским, и Людовиком XVI, королем Французским», ходившее по рукам после смерти Екатерины. Государыня упрекает в нем Безбородко, которому было вверено вышеупомянутое завещание, за то, что он наказал ее страну царствованием Павла.
Достоверно во всяком случае то, что, когда Екатерине случалось говорить в своих письмах о будущем, ожидавшем Россию после ее смерти, она умалчивала о царствовании сына. Она всегда указывала на Александра, как на своего преемника. И, по-видимому, она даже приняла в последние минуты решительные меры, чтобы предотвратить возмущение законного наследника.
Мать и сын виделись теперь только на официальных приемах. Они писали друг другу церемонные письма. Во время своего короткого пребывания в финляндской армии, когда великий князь сразу заметил, что ему там нечего делать, он почти ежедневно обменивался письмами с императрицей. Эти послания очень напоминают переписку испанского короля с Марией Нейбургской в той версии, которую дал ей Виктор Гюго. Вот образчик их:
«Любезная матушка, письмо Вашего Императорского Величества доставило мне чувствительное удовольствие, и слова Ваши тронули меня бесконечно. Прошу Ваше Величество принять выражение моей признательности, а также уважения и преданности, с которыми пребываю…»
Ответ Екатерины:
«Я получила, любезный сын, ваше письмо от 5 сего месяца с выражением ваших чувств, на которые отвечаю взаимностью. Прощайте, будьте здоровы».
И так письма чередуются одно за другим почти без вариантов.
IV. Чья вина? – Характер Павла. – Его портрет, сделанный принцем де-Линь. – Свидетельство графа Ростопчина. – Любимцы и любовницы великого князя. – Другие, более благоприятные показания. – Сердце и ум Павла. – Болезненные явления. – Предполагаемые причины. – Любовник, отравляющий мужа своей подруги сердца. – Граф Андрей Разумовский. – Нервность и впечатлительность Павла. – Коронование Петра III.
Но кто был виновником этой ссоры, так жестоко разлучившей два существа, тесно связанные природой? Сохранилось много описаний Павла – и с внешней и с духовной стороны. Некоторые из этих портретов лестны для него; но таких очень мало. Известно его изображение, сделанное принцем де-Линь; кажется, оно наиболее искреннее:
«Работоспособный, слишком часто меняющий свои мнения и своих фаворитов, чтоб сейчас же взять нового фаворита, советника или любовницу; быстрый, пылкий, непоследовательный, – он станет когда-нибудь, может быть, опасным. Он мыслит ложно, но сердце у него прямое; суждения его совершенно случайны. Он недоверчив, подозрителен, в обществе любезен, в деловых сношениях невыносим, страстно предан чести, но, увлеченный своею вспыльчивостью, не всегда умеет разбирать правду. Он разыгрывает недовольного, угнетенного, хотя ею мать ничего не имеет против того, чтобы за ним ухаживали и давали ему возможность развлекаться, сколько он пожелает. Горе его друзьям, врагам, союзникам и подданным! Притом он чрезвычайно изменчив; но за то короткое время, когда он хочет чего-нибудь в душе, или когда любит или ненавидит, то отдается чувству со стремительностью и упорством. Он презирает свой народ и говорил мне в былое время в Гатчине такие вещи, которых я не смею повторить».
Впрочем, может быть, преклонение перед Екатериной заставляло очаровательного принца сгущать на своей палитре одни темные краски? Послушаем свидетельство другого лица, более беспристрастного в данном вопросе и наверное самого авторитетного из всех. Среди придворных Екатерины у Павла был друг и поверенный тайн, который должен был стать всемогущим после смерти императрицы. Великий князь выказывал ему постоянно свою привязанность и даже уважение и осыпал его милостями: он не скрывал, что хочет сделать его своим первым министром. То был граф Ростопчин. И вот что он говорил о своем привилегированном положении и о великом князе, сделавшем его своим избранником. Он писал графу Воронцову, русскому послу в Лондоне: «Для меня нет ничего в свете страшнее после бесчестия, как его благосклонность». В других письмах он горько осуждал будущего императора, как человека, вечно со всеми препиравшегося, изо всех делавшего себе врагов и стремившегося подражать печальной памяти Петру III, разыгрывая по его примеру прусского короля с вверенным ему небольшим гарнизоном. Ростопчин писал: «Великий князь находится в Павловске постоянно не в духе, с головою, наполненною призраками, и окруженный людьми, из которых наиболее честный заслуживает быть колесованным без суда». Он прогнал Александра Львовича Нарышкина, бывшего искренне ему преданным; жестоко оскорбил князя А. Куракина, которого еще накануне называл «своею душой». Он преследовал своими ухаживаниями Нелидову, и та, чтобы спастись от них, просила у императрицы позволения покинуть двор и уйти в монастырь.
Нелидова, фрейлина великой княгини, – если верить Рибопьеру, она была «мала ростом, дурна, черна, но очень умна», – имела нескольких предшественниц в милостях великого князя: прежде всего фрейлину Шкурину, тоже выразившую желание постричься и действительно выполнившую его; говорили, что Шкурина была дочь придворного истопника, находившегося в очень близких отношениях с Екатериной еще в бытность ее великой княгиней. Ее сменила Лопухина. Все эти привязанности не были, по-видимому, чисто платонического характера, как чувство Павла к Нелидовой. Так, ходили слухи, что у кн. Чарторыйской, вышедшей вторым браком за графа Григория Разумовского, был от Павла сын, которого назвали Семеном Великим.
Но ни одна из этих женщин не любила Павла. По рассказу Ростопчина, Нелидова открыто издевалась над ним и презирала его. Порвав с ним, она осталась при дворе, где ее успех «бесил его» и делал его смешным.
Но письма самого Павла, сохранившиеся для потомства, рисуют нам его в совершенно ином свете. Те, что он писал за 1776—1782 гг. барону Карлу Сакену, одному из своих воспитателей, можно считать почти откровением: мы видим в них нежную, любящую, благодарную душу, возвышенный ум и даже известную долю здравого смысла. Барон Карл Сакен был русским послом в Копенгагене. Павел писал ему:
«Вы видите: я не бесчувствен, как камень, и мое сердце не так черство, как то многие думают. Моя жизнь докажет это».
«Я предпочитаю быть ненавидимым, делая добро, нежели любимым, делая зло».
«Если я когда-нибудь заслужу что-либо хорошее, то знайте, что это благодаря вам, как и всем тем, кто старался смягчить мою сухую природу».
«Все блестящее несвойственно мне; становишься только неловким, стремясь быть тем, чем не можешь быть».
Павел не был лишен, по-видимому, и острого природного ума. Во время его пребывания в Париже, на обеде, который ему давали представители литературы, Лагарп удивился, услышав, что великий князь называет «превосходительством» (Excellence) своего врача Шеффера. Павел объяснил ему, что этот титул соответствует чину Шеффера. Лагарп сказал на это:
– Но если врачи имеют в России генеральский чин, то какое же положение занимают там литераторы?
– Если бы моя матушка была тут, – ответил Павел: – она наверное называла бы вас «высочеством».
В другой раз граф д'Артуа предложил ему одну из английских шпаг, которыми Павел любовался:
– Я лучше попрошу у вас ту, – сказал великий Князь: – которой вы возьмете Гибралтар.
Как известно, граф д'Артуа готовился идти на юг Испании во главе экспедиции, оказавшейся, впрочем, неудачной.
Правда, не следует, может быть, придавать веры всем этим анекдотам: ведь наследники императорских престолов так легко находят себе поклонников. Но каковы бы ни были природный ум и сердце Павла, их омрачала его крайняя нервность, по поводу которой носились различные и зловещие толки. Уже в октябре 1770 года Сабатье доносил герцогу Шуазелю, что у великого князя «бывали страшные конвульсии и совершенно недвусмысленные признаки очень сильного припадка падучей». Сабатье объяснял болезнь великого князя тем, что, как ему рассказывали, маленького Павла сильно испугали при свержении Петра III, сказав ему, что отец хочет его убить: ему сообщили это грубо и без всякой осторожности, не щадя ребенка, и это так поразило Павла, что на всю жизнь потрясло его здоровье. Аллонвиль приводит в своих Записках другую версию со слов эллиниста Виллуазона, «серьезного человека, имевшего долгие и постоянные сношения с великим князем»: умственные способности Павла пострадали будто бы от больших доз опия, которые он принимал при очень своеобразных условиях: «граф, а впоследствии князь Разумовский, его близкий приятель, но связанный еще более интимной дружбой с великой княгиней, рожденной принцессой Дармштадтской, ужинал каждый день один с августейшими супругами и не нашел иного способа, чтобы превращать трио в уединение вдвоем».
Самый факт слишком большой близости между графом Разумовским и первой супругой Павла установлен почти с достоверностью. Согласно депеше Дюрана графу Верженну, в октябре 1774 года Екатерина решила открыть глаза сыну, но безуспешно. И только после смерти великой княгини Павел узнал правду, найдя в бумагах покойной жены компрометирующую переписку. Разумовский получил тогда приказание выехать за границу. Но играл ли в этой придворной интриге какую-нибудь роль опий, — трудно сказать.
Душевное здоровье Павла еще с малолетства внушало большие опасения. Когда 1781 г., проезжая через Вену, он должен был присутствовать на придворном спектакле и решено было дать «Гамлета», актер Брокман отказался исполнить эту роль, сказав, что не хочет, чтобы в зале было два Гамлета. Иосиф послал ему 50 червонцев в благодарность его за его такт. Павел был всегда нервен, раздражителен и крайне впечатлителен. В 1783 году маркиз Верак писал из Петербурга, что, узнав о внезапной кончине графа Панина, великий князь потерял сознание. Впрочем, уж одна та мрачная церемония, которую он разыграл при своем восшествии на престол, думая реабилитировать этим память отца, достаточно характерна, чтобы подтвердить подозрения в безумии, висевшие над головою Павла при его жизни и не утихшие и после его безвременной кончины. Рассказ о том, что он приказал вынуть из гроба останки Петра III и посадить покойного императора на престол в знак коронования, вымышлен. В гробу несчастного императора, – тело его не было набальзамировано, – через тридцать четыре года не оставалось ничего, кроме скелета. И сын Екатерины удовольствовался тем, что возложил на алтарь Петропавловского собора уродливый череп, который и увенчал царской короной.
Все знают также историю краткого правления наследника Екатерины, на которого она естественно смотрела с гневом и боязнью. И не простительно ли было бы поэтому с ее стороны желание спасти свой народ от его печального царствования? Но зато, если рассудок ее сына и был омрачен, то разве не была виновницей его безумия сама Екатерина, так равнодушно и невозмутимо погубившая его здоровье? Ведь мучительный бред больной души Павла мог быть вызван кровавою тенью Ропшинского дворца…
V. Другой сын Екатерины. – Бобринский. – Равнодушие и заброшенность. – Нехорошая мать и лучшая из бабушек. – Воспоминание внуков. – Нежность к ним Екатерины. – Немецкие принцессы съезжаются дюжинами. – Из этой массы выбирают супруг для великих князей.
Тяжким свидетельством против Екатерины в этой грустной и не вполне выясненной истории ее отношений к Павлу, так омрачившей ее блестящее и великое царствование, служит ее обращение с другим сыном, который не мог тревожить ни ее честолюбия, ни ответственности перед Россией. Как мы знаем, у Екатерины был побочный сын, названный Бобринским. Любила ли она его? По-видимому, нет. Заботилась ли она по крайней мере о нем? Она давала ему средства для жизни, позволяла путешествовать за границей и даже сорить деньгами, но когда он стал злоупотреблять этим последним правом, то отнеслась к нему с удивительным, по своей непринужденности, равнодушием.
«Что это такое, эта история с Бобринским? – писала она Гримму. – Этот молодой человек необыкновенно беспечен… Если бы вы могли узнать о положении его дел в Париже, то доставили бы мне удовольствие… Впрочем, он имеет полную возможность расплатиться сам: он получает 30.000 годового содержания…»
Два года спустя она писала опять:
«Очень жаль, что г. Бобринский входит в долги; он знает свои средства; они вполне приличны. Но, кроме них, у него нет ничего».
Она давала таким образом понять, что не станет платить долгов сына; сверх того относительно умеренного содержания, которое было назначено ему, он и его кредиторы ни на что больше не смели рассчитывать. И она сдержала слово. К концу 1786 года у молодого Бобринского было уже несколько миллионов долгу в Париже, не говоря о его кредиторах в Лондоне, от которых ему удалось бежать. Между прочим он подписал вексель в 1.400.000 ливров на имя маркиза Феррьера. Екатерина все не принимала никаких мер, чтобы остановить безумства молодого человека. Но тут она решилась: она выписала его в Россию и поместила в Ревель под строгий надзор. Но при этом она не выказала ни малейшего желания видеть его и узнать его ближе. Только бы он оставил ее в покое, не требовал у нее денег и не заставлял говорить о себе: вот все, что ей от него было нужно.
Это безусловно цинично. Но неужели же голос материнства молчал в бесчувственном сердце Екатерины? Отрицать это трудно. Но так же нелегко утверждать это. Если она была холодна к своим сыновьям, то зато как нежно она любила внуков. С 1779 года ей каждый день в половине одиннадцатого приводили маленького Александра. «Я вам уже говорила и опять повторяю, – писала она Гримму: – что я без ума от этого мальчугана… Мы ежедневно делаем с ним новые открытия, т.е. из каждой игрушки устраиваем десять или двенадцать новых и стараемся перещеголять друг друга в изобретательности… После обеда мой мальчуган приходит ко мне опять, когда пожелает, и проводит у меня в комнате часа три-четыре». В том же году она стала учить азбуке великого князя Александра, «хотя он еще не умеет говорить, и ему только полтора года». Она заботилась также и об его костюмах: «Вот как он одет с шестого месяца своей жизни, – писала она Гримму, посылая ему образец детского платьица, скроенного по ее указаниям. – Все это сшито вместе, одевается сразу и застегивается сзади четырьмя или пятью маленькими крючками… Здесь нет никаких завязок, и ребенок не подозревает даже, что его одевают: ему просовывают незаметно руки и ноги в это платье, вот и все; это гениальное изобретение с моей стороны. Шведский король и принц Прусский просили и получили от меня образец костюма великого князя Александра». Затем идут неизбежные рассказы, которые можно найти в письмах всех матерей: в них повествуется изо дня в день о всех проделках маленького чуда, свидетельствующих об его уме, необыкновенном для его возраста. Однажды, когда гениальный ребенок был болен и дрожал от лихорадки, Екатерина нашла его в дверях своей спальни, закутанного в длинный плащ. Она спросила его, что это означает. «Я часовой, замерзающий от холода», – ответил Александр. Другой раз он стал приставать к горничной императрицы, прося, чтобы она сказала ему, на кого он похож. – На вашу мать, – ответила ему камер-юнгфера: – у вас все ее черты, нос, рот. – Нет, не то, – сказал Александр; – а на кого я похож характером? – Ну, этим вы скорей похожи на бабушку. – В ответ на это маленький великий князь бросился на шею к старой деве и стал горячо ее целовать. «Вот это я и хотел, чтобы ты мне сказала!»
Этот последний анекдот отчетливо показывает взаимное положение Павла и Екатерины по отношению к его детям, которыми всецело завладела властная императрица. Приведем еще один отрывок из письма Екатерины к Гримму, где речь опять идет об обожаемом ею ребенке: «По-моему, из него выйдет превосходнейший человек, если только lа secondaterie не замедлит мне его успехи». Secondat, secondaterie – это были своеобразные выражения, под которыми Екатерина разумела сына и невестку, а также взгляды на воспитание и политику, господствовавшие в Павловске и совершенно противоположные ее собственным воззрениям, по крайней мере в то время, так как прозвище Павла и его жены было, очевидно, заимствовано ею у барона «Secondat» Монтескье.
Маленький Константин не пользовался вначале благоволением бабушки в равной степени с братом. Екатерина находила, что он слишком хрупок и тщедушен, чтобы быть внуком императрицы. «Что касается второго, – писала она после восторженных похвал Александру: – то я не дала бы за него десяти копеек; возможно, что я очень ошибаюсь, но думаю, что он не жилец на свете». Но вскоре и младший внук завоевал сердце Екатерины. Он вырос, окреп; в это время на южном горизонте России в воображении императрицы стала рисоваться Византийская империя, и вместе с этими мечтами в ней проснулась нежность к ребенку, вскормленному гречанкой Еленой.
Увы! мы должны признать это: даже в теплой привязанности к внукам политика играла у Екатерины не только большую, но, пожалуй, главную роль. Политика! Можно быть уверенным, что найдешь ее во всем, что касается Екатерины: и в ее чувствах, и в мыслях, и в увлечениях, как и в ее антипатиях, и даже в ее любви к младшему поколению своей семьи. Все, что кажется непонятным и загадочным в ней, объясняется, думаем мы, этим словом. Мы не хотим, конечно, сказать, что сердце этой женщины, заслуживавшей, с одной стороны, всевозможного осуждения, а с другой – всяческой похвалы, было совершенно бесчувственно, как то утверждали многие, или глухо, извращено и отзывчиво только на низкие инстинкты. Оно было на одном уровне с ее умом, никогда не достигавшим большой высоты, как мы уже указывали на это. Она умела любить, но подчиняла любовь, как и все другие чувства, великой руководящей идее своей жизни – идее исключительно сильной и непоколебимой в ней: политике и ее интересам. Она полюбила однажды красавца Орлова за его красоту, но и за то, что он был готов сложить свою голову, чтобы достать ей царский венец, и был способен сдержать это слово. Она была холодна и даже враждебна к Павлу, отчасти потому, что ей не удалось развить в себе материнское чувство, – ребенка отняли у нее с колыбели, – но главным образом потому, что он был ей опасным соперником в настоящем и жалким наследником в будущем. И она страстно привязалась к маленькому Александру под влиянием таких же побуждений, относящихся к той же категории чувств и идей.
Письма, которые она писала внукам при разлуке с ними, например, в 1783 году, когда она некоторое время жила в Москве, и в 1787 году, во время крымского путешествия, полны теплоты, нежности и ласки. Невозможность взять их с собою на феерически разукрашенные дороги Крыма причиняли ей искреннее огорчение. Переговоры между Петербургом и Павловском по этому поводу все затягивались, и, из-за денежным соображений, Екатерина должна была положить им конец, пожертвовать своим удовольствием: каждый день замедления стоил ей 12.000 рублей. По этой цифре можно судить, во что обошлось все это путешествие, вызывавшее справедливое удивление Европы.
В воспитании Александра и Константина Павловичей Екатерина применила полностью свои педагогические взгляды. Но результаты, достигнутые ею, были, по-видимому, далеко не блестящи. Только она одна приходила в восхищение от успехов, сделанных ее учениками. Другие же – и среди них Лагарп – думали об этом иначе. Лагарп Каловался не раз на дурные инстинкты и недостатки старшего великого князя. Он указывал на некоторые довольно некрасивые его поступки. В 1796 году, при приезде шведского короля, при дворе невольно проводили параллель между молодыми людьми, оказавшуюся не в пользу внуков Екатерины. А между тем она приложила большие старания к тому, чтобы сделать их лучше, и, не давая воли своей любви к ним, применяла к ним, когда нужно, даже строгость. Так, она раз заметила, что при cмене часовых, стоявших у императорского дворца, солдат задерживают дольше обыкновенного: это был спектакль, который задавали маленьким великим князьям, смотревшим из окошка. Екатерина сейчас же вызвала их гувернера и сделала ему строгое внушение: государственная служба, особенно военная, – сказала она, – создана не для забавы детей. А если бы великие князья заупрямились, то им следовало сказать, что бабушка этого не позволяет. Это был, бесспорно, очень мудрый принцип. Но вся воспитательная система Екатерины не держалась на его высоте.
Екатерина взяла также исключительно на себя заботу о браке своих внуков и внучек. Мнение родителей при этом не спрашивалось. Впрочем, мнения Павла не спрашивали даже тогда, когда вопрос шел о его собственной женитьбе. В Петербург было вызвано в общем около дюжины немецких принцесс, чередовавшихся одна за другими. Императрица хотела, чтобы ее сыну, а затем внукам было среди кого выбирать. И выбор, действительно, был богатый: три принцессы Дармштадтские, три принцессы Вюртембергские, две принцессы Баденские и три принцессы Кобургские, Принцессы Вюртембергские не поехали, впрочем, дальше Берлина, так как галантный к женщинам Фридрих потребовал, чтобы Павел сделал хотя бы полдороги навстречу своей невесте. Этот брак был устроен стараниями принца Генриха Прусского, приезжавшего в 1776 году в Петербург. Старшая из принцесс была еще прежде помолвлена с Принцем Дармштадтским, но было решено, что он откажется от нее, если «в нем есть хоть малейшая честность», – как писал принц Генрих своему брату, если «он не захочет разрушать счастье двух держав». Принц Дармштадтский, действительно, показал себя «честным». Так как старшая сестра ускользала от него, он решил удовольствоваться младшей: «ведь в сущности это было одно и то же». Кроме того, как Фридрих и предвидел это, отец принцессы не стал ждать его согласия, чтобы «ударить по рукам, раз его дочери представлялась более выгодная партия». Затруднение было встречено только в выборе лютеранского пастора, достаточно «просвещенного», чтоб доказать будущей великой княгине, что она делает вещь, угодную Богу, изменяя вере отцов. Но в виду того, что Петербургский двор прислал 40.000 рублей на путешествие принцесс, «истинный бальзам», по выражению их матери, для расстроенных финансов их дома, то это маленькое препятствие оказалось преодолимым.
Через несколько лет принцессы Дармштадтские приехали уже в самый Петербург. Их сменили две принцессы Баден-Дурлахские. Они были сироты, и за ними послали графиню Шувалову, вдову автора «Epitrea Ninon», и некоего Стрекалова, который будто бы вел себя в пути, как казак, похищающий грузинских девушек. Но в то время германские дворы не были очень щепетильны. По приезде принцесс императрица пожелала видеть их приданое. Осмотрев его, она сказала: «Милые мои, я не была так богата, как вы, когда приехала в Россию». Старшая принцесса осталась в Петербурге и вышла замуж за великого князя Александра; младшая возвратилась домой: она не понравилась Константину. Ей было только четырнадцать лет, и она была еще не сформирована. Впоследствии она вышла замуж за шведского короля. Празднества, сопровождавшие свадьбу Александра, были последним блестящим и радостным торжеством в царствование Екатерины. Ко дню свадьбы была сложена между прочим следующая эпиталама: