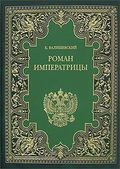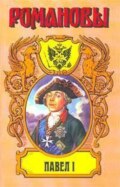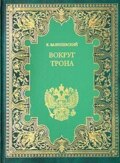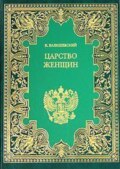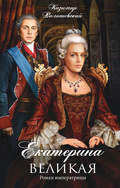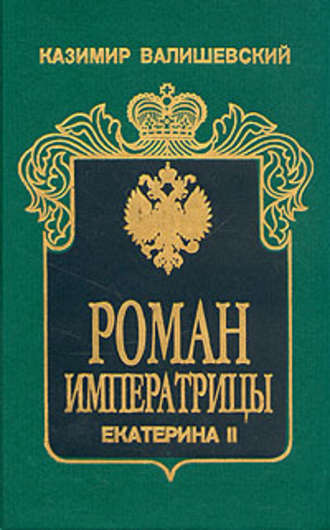
Казимир Валишевский
Роман императрицы. Екатерина II
Глава вторая
Екатерина, как писательница: драматург – романист – баснописец – публицист – поэт
I. Екатерина с пером в руке. – Страсть к писательству. – Императрица, не умеющая диктовать. – Мысль и стиль. – Принадлежали ли Екатерине ее письма к Вольтеру? – Сотрудничество Андрея Шувалова. – Письма Екатерины к Гримму. – Французский язык императрицы. – Грамматика и правописание. – Образчик описательного стиля.
Перечисляя любимые занятия Екатерины, Дюран, несомненно, сделал один важный пропуск. Он забыл сказать, что Екатерина страстно любила писать. Мы думаем даже, что ничто другое не доставляло ей такого удовольствия. Писать – служило ей не только развлечением, но было для нее потребностью и потребностью почти физическою. Самая возможность держать в руке перо, которое через минуту свободна загуляет но чистому листу бумаги, вызывала в ней чувство не только духовного, но словно чувственного наслаждения. Она писала как-то Гримму, что при виде нового пера у нее начинают «чесаться руки». Поэтому она никогда не диктовала. «Я не умею диктовать», говорила она. Все, что она писала, было написано ею собственноручно, а чего только она не писала? Не говоря об ее очень деятельной политической корреспонденции и частной переписке, достигавшей, благодаря громадным «плакатам», аккуратно посылавшимся ею Гримму, совершенно необычных размеров; не считая обязательного для нее подписывания массы казенных бумаг, – она нередко покрывала их сплошь своими пометками, – не считая драматических и других произведений, она еще очень часто писала для себя, для собственного удовольствия, без всякого определенного повода и цели, если не считать той потребности унять «зуд в пальцах», о которой мы говорили выше. Она делала из старинных летописей выписки, относившиеся к житию преподобного Сергия, хотя вряд ли сильно интересовалась подробностями его жизни; переписывала тексты на древне-славянском церковном языке, который ей было вовсе не обязательно знать, несмотря на ее положение православной царицы. Она не могла прочесть книгу, чтоб не исписать ее поля своим крупным, размашистым почерком. Она составляла программы празднеств и концертов. Подобно тому государственному деятелю современной истории, который мог думать только тогда, когда говорил, она, по-видимому, тоже не умела мыслить иначе, как с пером в руках. И как тот пьянел от своих слов, так она опьянялась чернилами. Мысли начинали тесниться в ее голове и постепенно улетали из области реального в мир фантазий. Екатерина сама сознавала это. Она писала Гримму:
«Я собиралась было сказать вам, что буду писать вам, как только захочу, и сколько мне вздумается, когда вспомнила, что я – здесь, а вы – в Париже. Я вам советую диктовать, потому что мне сто раз давали этот совет: счастлив тот, кто может следовать ему; что касается меня, то мне кажется невозможным говорить всякий вздор пером другого человека… Если бы я сказала другому то, что выходит из-под моего собственного пера, он часто отказывался бы писать то, что я ему бы говорила».
Но когда она успевала писать все это? Мы знаем, что для того, чтоб беседовать по душе и вволю со своим любимым конфидентом Гриммом, она вставала в шесть часов утра. Но, даже принимая в расчет эту трудолюбивую привычку, вопрос остается для нас неясным. 7 мая 1767 года, во время путешествия императрицы по России, ее застигла на Волге «страшная» буря. И она воспользовалась остановкой в пути, чтобы написать длинное письмо Мармонтелю, незадолго перед тем приславшему ей своего «Велизария». Положительно удивляешься, как она умудрялась найти время для своих писем. Не надо забывать при этом, что мыслить и писать было для нее одно и то же, а заранее обдумывать письма она была совершенно неспособна, и поэтому в важных случаях ей приходилось иногда переписывать их по несколько раз. Сохранились, например, два черновика ее ответа Берлинской академии, избравшей ее в 1768 году своим почетным членом. Случалось, что она не ограничивалась и двумя черновиками, так как не любила помарок. Если какое-нибудь выражение или фраза в ее письме не нравилась ей, она бросала весь лист – она писала обыкновенно на золотообрезных листах очень большого формата – и начинала снова.
Как же писала Екатерина? Что представлял ее стиль, ее литературный талант? Аббат Мори находил, например, что ее письма к Вольтеру стоят в художественном отношении выше, нежели ответы самого философа. Допустим что эта оценка справедлива: но здесь приходится принимать в соображение побочные обстоятельства. Известен ответ Жорж-Занд одному блестящему собеседнику, который, встретив ее где-то в гостиной, слишком откровенно выдал перед нею свое разочарование.
– Вы приходите сюда работать, – ответила она ему: – я прихожу отдыхать.
А переписка с Екатериной была для Вольтера даже меньше, чем отдых, и наверное он не стремился в ней блеснуть. Для Екатерины же ее письма к «учителю» были средством подтвердить ту репутацию всемирного гения, которую Фернейский патриарх и ее другие друзья с Запада хотели создать ей. Через голову Вольтера она обращалась к суду всей Европы. Но и это еще не все. Возникает вопрос: сама ли Екатерина писала эти письма? Его поднимали в печати не раз и приходили к разноречивым заключениям. Но вот что говорит по этому поводу один тонкий знаток дела:
«Из всех писем Екатерины II, составляющих ее переписку с Вольтером, я уверен, нет ни одного написанного этой государыней. Только тот, кто никогда не видел других ее сочинений, может подумать, что эти письма принадлежат ей. Екатерина владела французским языком не вполне свободно; она говорила на нем неправильно, – хотя в живом разговоре эти ошибки должны были быть менее заметны, нежели на бумаге, – если судить по собственноручным письмам императрицы, которые мне приходилось читать. Ошибки правописания, грамматики, неверные выражения – все это в них можно найти: в них нет только того остроумия, глубины мысли и прекрасного стиля, которыми мы так восхищаемся в письмах к Вольтеру, приписываемых Екатерине II. Это особенно бросилось мне в глаза, когда я читал инструкции, данные русской императрицей графу д'Артуа (впоследствии Карлу X), когда он приезжал в Петербург, и написанные ею лично. Екатерина указывала в них, как затушить в самом зародыше революцию, только что вспыхнувшую во Франции. Сущность этих наставлений была так же нелепа, как и грубо выражена. О неправильности стиля я уже и не говорю».
Но кто же при дворе Екатерины мог заменить ее в этой переписке, обратившей на себя внимание всего мира. Ответить на это нетрудно: это был, по-видимому, Андрей Шувалов, автор знаменитой «Epitre a Ninon», которую в свое время приписывали самому Вольтеру; Шувалов был учеником, корреспондентом и другом Фернейского философа и в совершенстве усвоил и форму, и дух французского языка. Екатерина не могла бы сделать лучшего выбора. Впоследствии она также прибегала к помощи Храповицкого для своих писем на русском языке. И во всяком случае можно с уверенностью сказать, что ее послания к Вольтеру были написаны не самостоятельно. Чтобы судить об ее стиле, остроумии, а также о тех познаниях, которые сохранились в ее памяти от уроков mademoiselle Кардель, надо обратиться к другой ее переписке – к ее письмам к Гримму. Их она писала безусловно сама. Она вылилась в них вся, со своим правописанием, грамматикой и синтаксисом, с обычным ей складом мыслей, с ее оборотами речи, манерой понимать, ценить и чувствовать вещи, с ее умом, характером, темпераментом, одним словом, со всей ее сущностью. Эту переписку сравнивали в письмами г-жи Севинье. Но мы думаем, что это сходство слишком лестно для писания Екатерины. Один русский писатель провел недавно несравненно более правильную параллель между ее письмами и образцом, которым она, по всей вероятности, не только могла, но должна была вдохновляться. Ее переписка с Гриммом удивительно похожа на письма ее матери к Пуйльи, опубликованные недавно Бильбасовым.
Но хорошо ли знала Екатерина французский язык? Те неправильности, которые так часто встречаются в ее письмах и придают случайно то неточный, то извращенный смысл ее словам, не могут иметь в этом вопросе решающего значения. Они объясняются обычной Екатерине манерой писать и ее глубоким пренебрежением к форме. Она никогда не заботилась о том, чтобы слова верно выражали ее мысль и красиво сочетались между собой. Даже явные несообразности не пугали ее. Она писала, что «elle a un mal de tete qui ne se mouche pas du pied», или «cinquieme roue au carrosse ne saurait rien gater a l'omelette». Находили, что образность ее речи напоминает порою Монтэня и, в подтверждение этого, указывали на ее фразу в письме к Гримму: «Ма visiere a la minute passe comme une fusee et s'enfuit dans l'avenir, quelquefois ne voyant qu'un trait caracteristique». Но из тех трех языков, на которых Екатерина постоянно говорила, французский был ей безусловно ближе других. Она владела им свободно, пожалуй, не находя нужным считаться с правилами синтаксиса и грамматики, выдумывая новые обороты речи и собственного изобретения слова. Она говорила: girouetterie, toupillage, pancarter, souffre – douleurien. Говоря о новом издании сочинений ее «учителя», вышедшем под редакцией Бомарше, она называла его «du Voltaire figaroise». В одном из ее писем к графу Кейзерлингу от 25 сентября 1762 года есть такая фраза: «Я пишу вам по-французски, но, если это вас стесняет, буду писать впредь на таком же скверном немецком языке, на котором имею обыкновение говорить». Ее немецкий язык, по мнению одного современного критика, напоминал язык «Frau Rath», Матери Гете, с теми же устаревшими выражениями, грамматическими ошибками и частыми вульгаризмами, в которых чувствовалось все-таки (это утверждает Гиллебранд) очень верное понимание духа языка. Сама же Екатерина любила хвалиться – хоть и не очень убедительно – знанием другого языка, того, который ее научил любить Вольтер: «Заметьте, – писала она по-французски кн. Черкасской, – что, хотя я пишу (quoiquc j'ccric вместо ecris) хуже вас, но зато лучше соблюдаю правописание» (ortographie вместо ortographe). Можно догадываться, что же представляло в гаком случае правописание кн. Черкасской. Во второй половине царствования Екатерина стала пренебрегать французским и немецким языками в пользу русского. Она находила, что все, что она пишет, выходит у нее очень нескладным, если оно напечатано на каком-нибудь другом языке, а не по-русски. Но еще в 1768 году ее русский диалект был далеко не чист: в нем встречались на каждом шагу грубо руссифицированные французские выражения, вроде тех, которыми пестрит слог современных немецких писателей, и особенно публицистов.
На каком бы языке она ни писала – по-французски ли, по-немецки или по-русски, – в ее стиле был всегда один недостаток: неправильность, отрывистость, шероховатость, – и одно достоинство: ясность. Впрочем, последнее относится лишь к тому, что Екатерина писала лично или под руководством Андрея Шувалова и Храповицкого. Но когда она составляла свои письма и бумаги сообща с сановниками, на совете, то получалась в большинстве случаев полная неразбериха.
«В ее стиле, – писал принц де-Линь, – больше ясности, нежели легкости; ее серьезные труды глубоки, но ей недостает оттенков, очарования мелких подробностей и колоритности». В данном вопросе принц де-Липь был, бесспорно, компетентным судьей; по он, вероятно очень бы изумился, когда имеешь дело с женщинами, даже менее одаренными, чем Екатерина, надо быть, впрочем, всегда готовым к подобным сюрпризам, – если бы прочел такой отрывок из письма Екатерины к Гримму (Екатерина находилась в то время в подмосковном селе Коломенском и сидела возле окна, собираясь писать своему «souffre douleur»):
«Но как тут писать? Том Андерсон требует, чтобы я его накрыла; он сидит против меня в кресле; моя правая рука и его левая лапа опираются на раскрытое окно, которое можно было бы принять за церковные двери, если бы оно не находилось в третьем этаже. Из этого окна сэр Андерсон любуется Москвой-рекой, извивающейся змеей и делающей на наших глазах до двадцати поворотов; он беспокоится, лает: он видит судно, которое поднимается по реке; нет, нет, кроме судна, он видит еще десятка два лошадей; они переходят реку вплавь, чтобы попастись на зеленых, усыпанных цветами лугах, которые составляют противоположный берег реки и тянутся до холма, покрытого свежевспаханными полями, принадлежащими трем деревням, тоже заметным вдали. Налево стоит маленький монастырь, выстроенный из кирпича и окруженный рощей, а дальше идут повороты реки и дачи, и тянутся до столицы, виднеющейся на горизонте. Справа взорам г. Тома Андерсена открываются холмы, поросшие густым лесом, между которым видны колокольни, каменные церкви и снег в расщелинах холмов. Г. Андерсон, по-видимому, устал любоваться таким прекрасным видом, потому что вот он закутывается в свое одеяло и собирается спать…»
В письмах Екатерины встречаются также нередко меткие выражения, образно и ярко передающие ее мысль. Отвечая в 1778 году отказом на предложение упавшего духом Потемкина эвакуировать Крым, она писала: «Когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с оного, чтобы держаться за хвост». Но зато в ее переписке, особенно с Гриммом, есть обороты речи, где откровенность и свобода ее мысли и языка доходят порою до распущенности и становятся почти грубыми. Екатерина не только пересыпала свой неправильный французский язык немецкими или итальянскими словами и фразами, но часто писала на чисто-бульварном жаргоне. Она ставила «sti-la» вместо «celui-la», «ma» вместо «mais». Возможно, что она и говорила так. Некоторая тривиальность была ей не чужда. Мы не рискнем воспроизвести здесь те пикантные замечания, – впрочем, «пикантны» ли они? – которые вырывались у нее в минуты шутливого настроения, и уверены, что прибаутки, оживлявшие ее эпистолярный стиль, показались бы читателю очень плоскими и, пожалуй, пошлыми.
Правда, Екатерина писала так только в своей интимной переписке, как частное лицо. Но посмотрим, как она писала, обращаясь не к друзьям, а к широкой публике.
II. Научные труды Екатерины. – «Антидот». – Аббат Шапп д'Отрош. – История римских императоров.
Мы говорили уже о научных трудах Екатерины. Из них был напечатан только один: «Антидот» или «Examen du mauvais livre intitule: „Voyage en Siberie“. Это опровержение на слишком откровенное сочинение о России Шапп-д'Отроша. Ученый аббат, член парижской академии наук, приехал в Россию в 1761 году по приглашению петербургской академии для наблюдения за прохождением Венеры перед солнцем, которое ожидалось в этом году. (Следующее должно было произойти через 8 лег, в 1769 г.). В то время царствовала еще Елизавета. Она встретила путешественника очень милостиво и подарила ему 1000 рублей на дорожные расходы; но не в ее власти было смягчить грустное впечатление, которое произвела на него Сибирь. К своим астрономическим наблюдениям он прибавил еще и другие: о природе, нравах и законах страны, по которой проезжал, и издал свой труд в Париже в 1768 году в трех томах in-quarto с рисунками и географическими картами. Эта книга вызвала в России такое же острое негодование, как „Russie“ маркиза Кюстина в 1839 году, и Екатерина решила ответить сейчас же на оскорбление, нанесенное русскому национальному чувству. Она начала с того, что поручила своей академии найти и указать астрономические ошибки, которые этот негодный человек, говоривший так дурно о России и об управлении ее, не мог не сделать в своем сочинении. Она поставила чтим петербургских ученых в жестокое затруднение. Видя, что от них нечего ждать, Екатерина обозвала академиков глупцами, не стесняясь высказывала это вслух, и сама взялась за перо, чтобы как следует отделать аббата. Но, раз начав писать, она уже не могла остановиться. Ею были исписаны целые горы больших золотообрезных листов. Астрономию Шаппа государыня, конечно, оставила в стороне: она нападала на то, что касалось ее ближе: на политическую, статистическую и историческую часть его труда. Как смел, например, написать Шапп, что Сибирь лишена растительности! Чтобы доказать противное, Екатерина сейчас же послала Вольтеру орехи сибирских кедров. Она была твердо убеждена, что сочинение Шаппа инспирировано герцогом Шуазелем, чтобы унизить лично ее и ее государство. Поэтому ей очень хотелось, чтобы какой-нибудь французский писатель отразил это нападение министра. Но, к ее печали, ни Фальконэ, ни Дидро не могли подыскать никого подходящего для этой роли. Одна княгиня Дашкова предложила Екатерине свои услуги. И их совместные размышления и были занесены на бумагу бойким пером императрицы. Но в таком виде опровержение грозило принять еще более объемистые размеры, нежели само сочинение, глупость и низость которого оно стремилось доказать. Две первые части его вышли в роскошном издании; было обещано продолжение, – конца же нельзя было еще так скоро предвидеть. Но, по обыкновению, эта работа вскоре наскучила Екатерине. Турецкая война и Пугачевский бунт обратили ее мысли в другую сторону. В 1773 году она известила свою приятельницу г-жу Бельке, что продолжение „Антидота“ не выйдет, потому что автор его убит турками. И вопрос о Шапп-д'Отроше и его книге никогда уже не поднимался больше. Екатерина, впрочем, никогда не признавалась в том, что этот „убитый“ автор – она сама. Ее сочинение долго приписывалось поэтому различным лицам и, между прочим, графу Пушкину, который, по свидетельству Сабатье-де-Кабра, не подозревал даже о самом существовании аббата Шаппа и еще меньше о его книгах. Оригинал „Антидота“ утрачен. Та рукопись, что хранится в Петербурге, в государственном архиве, написана рукою статс-секретаря Г. В. Козицкого. Но зато в бумагах Екатерины удалось найти несколько автографических отрывков „Антидота“, которые не оставляют сомнений насчет их августейшего автора. Что же касается ценности этого произведения, то по этому поводу никогда не возникало серьезных споров: это просто неудачный пасквиль. Репутация Шаппа не могла от него пострадать в глазах потомства. В его книге встречаются, правда, несколько смелые заключения и даже совершенно вымышленные факты, но в ней также много неоспоримой правды. А между тем Екатерина стремилась опровергнуть именно эту правду. Но во всяком случае она выказала при этом очень большую горячность.
Тьебо говорит в своих «Воспоминаниях» о другом научном труде императрицы. Его принес ему во время его пребывания в Берлине какой-то русский – имени его он не называет – и просил напечатать «en breloque» в числе пятидесяти экземпляров в самой глубокой тайне. Это была «История римских императоров». Вот подробности, которые дает Тьебо об этой книге. «Все содержание ее сводилось к тому, чтобы сказать нам, почти в одной фразе: что тот-то был убит тем-то, а этот убил, в свою очередь, того-то, и т.д. И этот перечень убийств, совершенных для того, чтобы занять императорский трон, превратился… в произведение самое удивительное, оригинальное и смелое, как и самое короткое, какое только можно себе представить». Больше он ничего не говорит об этом сочинении Екатерины, и мы о нем тоже ничего не знаем.
III. Драматические произведения. – Антрепренер наживает на комедиях Екатерины состояние. – Общий характер ее комедий. – Тенденциозные пьесы. – Борьба с духовидцами и масонами. – Юмор Екатерины. – Писала ли она свои комедии вполне самостоятельно? – Новиков. – Исторические драмы императрицы. – Подражательница Шекспира. – Екатерина, как автор комических опер. – Театр Эрмитажа. – Романы и басни. – Стихотворные опыты.
Екатерина пробовала свое перо во всех литературных жанрах. Но больше всего она писала для театра.
«Вы меня спрашиваете, почему я пишу столько комедий. Отвечу вам, как г. Пенсэ, по трем причинам: primo, это меня забавляет; secundo, я хотела бы поднять русский театр, который, за недостатком новых пьес, был несколько заброшен, и tertio, потому, что следовало щелкнуть по носу духовидцев, которые начинали его задирать. „Обманщик“ и „Обольщенный“ имели необыкновенный успех… Что забавнее всего, это то, что на первом представлении вызывали автора, который… сохранил полное инкогнито, несмотря на свой громадный успех. Каждая из этих пьес дала в Москве антрепренеру по 10.000 рублей за три представления».
Как видно, не только драматурги простые смертные рисуют себе прием, который им оказывает публика, в слишком привлекательном виде, – от этой маленькой слабости не спасает иногда и царский венец.
В «Обманщике» и «Обольщенном» Екатерина хотела выставить Калиостро и одураченных им русских. Вообще большая часть ее пьес представляла комические или сатирические произведения на философские, социальные и религиозные темы. Она в них смело нападала на идеи, вкусы, нравы и даже на отдельных людей, которые ей не нравились или мешали ей. Эти комедии – лучшее из всего, что было написано ею. Но понимания и чувства театра в Екатерине не было вовсе. Ее комедии, как и драмы, лишены драматического элемента в прямом значении этого слова: в них нет ни уменья вести интригу или производить нужный эффект, нет ни одного типа, – вообще никакого творчества; но зато в них попадаются иногда меткие замечания; видно глубокое знание местных обычаев и нравов, есть остроумие, юмор, большая наблюдательность. Идейное их направление – в духе философии Вольтера, несколько смягченной, впрочем, для русских в отношении к религиозному чувству, нападать на которое было бы совершенно немыслимо в той среде, где жила Екатерина. Предметом ее нападок служило, главным образом, мистическое направление, начинавшее проникать в верхние слои русского общества, – вследствие природных склонностей славянской души оно находило здесь очень благодарную почву. Особенно доставалось от Екатерины франкмасонам и мартинистам. В одной из пьес она сравнивала масонов с сибирскими шаманами, которых старалась изобразить в смешном и отталкивающем виде, обвиняя их в том, что они корыстно вымогают деньги от своих недалеких и слишком доверчивых приверженцев. Эта тема повторяется в трех ее комедиях: в «Шамане Сибирском», написанном на основании одной из статей Энциклопедии (Теософ), затем в «Обманщике» и в «Обольщенном». Но Екатерина нападала и на другие заблуждения и пороки: в ее комедии «О время!» (переведенной на французский язык под заглавием «О temps! o moeurs!») одно из действующих лиц, г-жа Ханжахина, собирается положить перед образом пятьдесят земных поклонов, когда в ее комнату входит крестьянин и, поклонившись ей в ноги, молча подает ей какую-то бумагу. Ханжахина в негодовании: как он смел нарушить ее молитвенное настроение! – «Поди ты, сатана, вон! – кричит она ему. – О несмысленная тварь! О демонское наваждение!..» Она смотрит на бумагу и видит, что это просьба о разрешении жениться: без согласия своей помещицы крепостной не смел вступить в брак. И с такою ничтожною просьбою он имел дерзость помешать ей молиться! Г-жа Ханжахина хочет возвратиться к своим поклонам, но в сердцах сбивается со счету. Она решает тогда класть их сызнова, но зато приказывает высечь мужика, посланного ей самим сатаною, и «положить женитьбу ту ему на спине». И, конечно, пока она жива, он у нее не получит позволения жениться.
Эта сцена делает честь уму и сердцу Екатерины; в ней много истинного комизма. Но существует предположение, что и этот юмор, и те благородные и возвышенные идеи, которыми были проникнуты ее комедии, принадлежат не ей. Сравнивая их с тем, что было написано ею до комедии «О время!» и после нее, например, с тяжеловесною сатирой «Всякая всячина», некоторые критики пришли к убеждению, что невероятно, чтоб Екатерина могла писать в одно время так хорошо, в смысле и формы и содержания, а в другое – так слабо. По-видимому, у нее был анонимный сотрудник для комедий, и именно Новиков. Период драматической деятельности императрицы, действительно, совпал со временем ее сближения с этим выдающимся человеком, когда она стала работать в его журналах. Идеи ее комедии безусловно принадлежали Новикову. Но принадлежала ли ему также и их талантливая разработка? Ответить на это трудно. Достоверно только то, что до своей дружбы с Новиковым (возникшей между ними как раз в то время, когда она закрыла его периодическое издание «Трутень») Екатерина не писала комедий. И она перестала их писать после своей ссоры со знаменитым публицистом. Правда, она еще продолжала работать для сцены, но уже в другом роде и со значительно меньшим успехом. Длинные исторические хроники, которые она писала в последние годы царствования, интересны только с точки зрения идей, выраженных в них; но это отнюдь не драматические произведения. Это скорее исторические или политические диссертации, написанные на тему о том, какое громадное значение имеют на земле цари, господствующие над людьми. Эти цари – так, как их понимала Екатерина, – пользуются всевозможным могуществом и всяческою властью, вплоть до права менять по своему желанию идеи, обычаи и даже нравы своих подданных. Они своего рода философы – даже когда их зовут Рюриком или Олегом – и парят на недосягаемой высоте над бессмысленной массой народа. Народ же, в представлении Екатерины, являлся сборищем детей, хотя и не злых, но наивных, глупых и непокорных и требующих поэтому, чтоб их вели за собою твердою рукой. Впрочем, Екатерина с искренним доброжелательством изображала в своих драмах эти низшие существа. Она интересовалась их манерой жить, говорить, их верованиями, поэзией; охотно рисовала их живописные деревенские сценки, пляски, песни. С другой стороны, избранники, призванные управлять толпою, выходили в описании императрицы какими-то идеальными лицами, кроткими, великодушными, доступными, любящими правду, снисходительными, хотя и строгими в пресечении зла. И если этот воображаемый параллелизм не совсем совпадал с действительностью, то, по обыкновению, это не тревожило Екатерину. В драмах ее, как и везде, торжествовал ее непоколебимый оптимизм, не останавливавшийся ни перед какой неправдоподобностью. Так, в первом акте герой драмы Олег закладывал Москву; во втором он женил и возводил на киевский престол своего воспитанника Игоря; в третьем – въезжал в Константинополь, где император Лев, принужденный заключить с ним мир, устраивал ему великолепную встречу; и, наконец, в последнем акте Олег присутствовал на олимпийских играх и прибивал свой щит к колонне в память своего пребывания в столице Восточной империи. Эта манера писать историю и драму напоминает несколько те балаганные представления, которые дают для народа на масленице. Но Екатерина под заглавием драмы «Начальное управление Олега» смело подписала: «Подражание „Шекспиру“. Винить ли ее за это? Ведь она делала это безусловно в простоте души, и ее Олеге чувствуется зато искренний патриотизм, который значительно искупает прочие недостатки этого „исторического представления“. Ее же „Горе-богатырь“, о котором мы уже говорили, – он был написан и дан на сцене в 1789 году по случаю шведской войны, – в полном смысле слова нелепость. Музыка Мартини не могла скрыть убожества и пошлости этого грубого произведения, содержание которого было взято Екатериной из народной сказки (Фуфлыга-Богатырь).
Мы должны быть, впрочем, тем снисходительнее к литературным опытам императрицы,что она сама никогда не придавала им значения. Она говорила о них просто, без всякого ложного самолюбия. Ее комедии и драмы казались ей превосходными, как и все, что она делала, – в то время, пока она работала над ними. Но как только они были окончены, и пыл творчества в ней остывал, к ней возвращались обычные для нее справедливость суждения и здравый смысл, и она оценивала свои произведения по заслугам, сознавая, что у нее нет литературного дарования. Она, не обижаясь, выслушивала критические замечания, которые позволял себе делать ей Гримм, и писала ему:
«Итак, вы думаете, что от моих драматических произведений ничего не осталось, не правда ли? Ничуть не бывало. Я утверждаю, что они достаточно хороши! раз, что нет лучших, и так как на них все сбегаются, смеются, и они охладили, по-видимому, сектантскую горячку, то эти пьесы, несмотря на свои недостатки, имели желательный для них успех. Пусть пишет, кто может, лучшие, и когда этот человек найдется, мы писать перестанем, а будем забавляться его комедиями».
По-видимому, – и это предположение имеет за собой довольно веские основания, – Екатерина писала большую часть своих комедий по-немецки. Относительно «Горе-богатыря» это можно сказать почти с полною достоверностью. Найти русского переводчика Екатерине было не трудно. Эту работу часто исполнял для нее даже Державин. Когда же она хотела, чтобы ее пьеса была представлена по-французски на сцене Эрмитажа, то тоже не полагалась обыкновенно на свои познания в этом языке: так, француз Леклерк, домашний доктор гетмана Разумовского, перевел ее комедию «О время!» Этот перевод был издан в 1826 году парижским Обществом библиофилов, в количестве лишь тридцати экземпляров. Затем известный сборник «Theatre de l'Ermitage» содержи! шесть драматических произведений императрицы и большое число других, принадлежащих перу графа Шувалова, графа Кобенцля, принца де-Линь, графа Строганова, фаворита Мамонова и д'Эста, француза, причисленного к кабинету ее величества. В Национальной библиотеке в Париже хранится еще театральный сборник 1772 года, где три пьесы приписываются Екатерине и напечатаны на русском языке.
Екатерина писала, кажется, и романы. В третьем томе своей «Истории немецкой литературы» Курц называет ее в числе немецких писателей восемнадцатого века, как автора восточного романа «Обидаг», написанного ею, по его догадкам, в 1786 году. Он приписывает ей еще другие повести, тоже на ее родном языке, но заглавия их не приводит.
Среди литературного наследства, оставленного Екатериной, есть также несколько побасенок и сказок. Но сказки эти – с первой из них Гримм познакомил в 1790 году читателей своей «Correspondance», – хоть и написаны ею для внуков, не годятся для детей. «Царевич Хлор» так же, как и «Царевич Февсй» – философские сказки вроде вольтеровских, с аллегориями, нравоучениями и научными терминами, совершенно недоступными детскому пониманию. А между тем Екатерина хорошо знала душу ребенка и умела становиться на уровень молодого, свежего и наивного детского ума; к тому же искренне любила детей. Но когда она брала в руки перо, ей случалось забывать даже то, что было ей близко и дорого. С другой стороны, в ее сказках нет ни воображения, ни оригинальности, ни даже самостоятельности замысла. Идея их, как почти всегда у Екатерины, заимствована ею у других, – а именно у Жан-Жака Руссо и Локка.