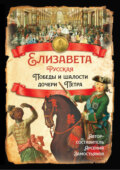Казимир Валишевский
Роман императрицы. Екатерина II
Обычное ее счастье и тут благоприятствовало Екатерине. Три месяца спустя только пятьдесят картин тех же мастеров были оценены в Париже в 440.000 ливров на распродаже галереи герцога Шуазеля. Сама Екатерина тоже купила тогда две картины Ван-Лоо через г-жу Жоффрен: «Испанский разговор» и «Испанское чтение» за 30.000 ливров. Правда, она сделала это, может быть, для того, чтобы угодить влиятельной француженке, выигравшей на этом торге в свою пользу две трети суммы. В 1771 году Екатерину постигло несчастье с купленной ею в Голландии коллекцией Браамкампа за 60.000 талеров: она погибла у берегов Финляндии вместе с судном, на котором ее везли. Но Екатерина жалела при этом, кажется, больше о деньгах, заплаченных за картины, нежели о них самих. Зато ей удалось купить все камеи герцога Орлеанского. Через Дидро и Гримма она делала французским художникам постоянные заказы: Шарден и Верне посылали ей свои пейзажи, Гудон – «Диану», которой отказали в чести быть помещенной в Лувре, так как нашли ее слишком раздетой; в Вене для нее писали плафон для большой лестницы Царскосельского дворца; живописец по эмали Майльи работал над художественным письменным прибором для Георгиевской залы; он требовал за него 36.000 ливров и долго не хотел выдавать работу. Чтобы принудить его к этому, пришлось прибегнуть к вмешательству дипломатии. В 1778 году Гунтербергер и Рейффенштейн делали для Екатерины в Риме копии с ватиканских фресок Рафаэля: она отвела в Эрмитаже галерею с ложами подходящей для них величины, и так как они были написаны на полотне, то не пропали при перестройке дворца. Они находятся там и сейчас. В 1790 году, посылая Гримму свой портрет «в меховой шапке», она писала ему: «Вот вам еще кое-что, чтоб поместить в ваш музей; а мой, в Эрмитаже, состоит теперь из картин и лож Рафаэля, из 38.000 книг, четырех комнат, наполненных книгами и эстампами, из 10.000 камей, около 10.000 гравюр и из кабинета естественной истории, расположенного в двух больших залах. Все это соединено с прелестным театром, в котором все видно и слышно чудесно, и где удобно сидеть и нет сквозняков. Мой маленький приют таков, что, чтобы обойти его кругом из моей комнаты, надо сделать три тысячи шагов. Там я гуляю, но среди вещей, которые люблю и которыми наслаждаюсь, и эти зимние прогулки и поддерживают мое здоровье и бодрость».
Этот музей был создан исключительно ею. Чтобы наполнить Эрмитаж, ей приходилось бороться с большими трудностями, потому что, как ни легко она творила деньги, все-таки могущество ее в этом отношении было бесконечно только в пределах ее собственного государства, а за границей русские ассигнации много теряли в цене. Поэтому в 1781 году ей пришлось приостановить свои покупки. Она писала тогда Гримму: «Повторяю вам вновь мое решение не покупать больше чего бы то ни было, ни картины, ничего; мне больше ничего не нужно, и поэтому я отказываюсь от Корреджио „божественного“. Но это была клятва „жадной“, равносильная зароку пьяницы! С этой минуты в душе Екатерины поднялась жестокая борьба между ее любовью к коллекционерству, превратившейся у нее в сильную страсть, и сознанием, что надо быть экономной. И в большинстве случаев первая побеждала второе. Письмо к Гримму, которое мы приводили выше, было помечено Екатериной 29 марта, а уже 14 апреля мы читаем в письме императрицы к ее другу и комиссионеру следующие строки: „Если господин „божественный“ (Рейффенштейн) пришлет нам сюда, прямо в Петербург, несколько прекрасных-распрекрасных античных камей в один, два или три цвета, вполне хорошо гравированных и сохранившихся, то мы были бы бесконечно обязаны тем, кто бы их нам доставил. Это не называется покупать, но как быть?“ 23 апреля Екатерина писала опять: „Постойте, что бы вы ни говорили, как бы ни бранились, мне нужны два экземпляра раскрашенных эстампов по списку, который я вам только что составила“.
«Господь мой, могу сказать, что добрые намерения Твоей помазанницы очень не тверды!» – заметил на это лукаво Гримм в своем ответе. Он, впрочем, прекрасно знал, что вызвало этот новый приступ «жадности» в Екатерине. Коллективное «мы» было употреблено ею и письме не только в виде шутливого оборота речи. «Жадных», о которых она говорила, было в то время действительно двое. Фаворита Корсакова, неотесанного и грубого, сменил в конце 1780 года красавец Ланской, человек утонченного воспитания и вкусов. Ланской страстно любил камеи и эстампы. Засыпая новыми поручениями Гримма в июле 1781 года, Екатерина объясняла ему, что все эти покупки делаются не для нее, «а для жадных людей, ставших жадными оттого, что они часто со мною бывают». Деньги платила, положим, она, или, вернее, Россия. В 1784 году она было опять пришла к решению ничего не покупать больше, потому что стала бедна, как церковная мышь. Но Ланской послал тогда от себя Гримму 50.000 ливров «на покупку картинной галереи» и обещал прислать вскоре еще большую сумму. Так дело шло довольно долго. Правда, в том же 1784 году всякие покупки вдруг резко прекратились на время: Екатерина не хотела видеть камей, ни всего напоминавшего их. Ланской умер, а вместе с ним умерла и любовь императрицы к вещам, в которых она, смело в том признавалась, не понимала толку. Но с апреля 1785 года все вернулось к прежнему порядку. Екатерина просила опять Гримма приобрести для нее, и как можно скорее, знаменитую в то время коллекцию камей барона Бретейля. Что же случилось? А то, что место Ланского занял Мамонов, унаследовавший вместе с новым положением и художественные вкусы покойного фаворита. И только в 1794 году этой перемежающейся лихорадке был положен решительный конец. «Я не куплю больше ничего, – писала Екатерина 13 января. – Я хочу расплатиться с долгами и копить деньги; поэтому отказывайтесь от всех предложений, которые вам будут делать». В это время в сердце Екатерины царил уже Платон Зубов, любивший из гравированных вещей только золотые червонцы с изображением своей августейшей подруги.
Но Екатерина не только собирала коллекции; она занималась также и строительством, и можно сказать, что занималась им по преимуществу. Притом она строила исключительно для своего удовольствия, как на это указывал в 1773 году и Дюран. Мы помним, как судил принц де-Линь о познаниях императрицы в области архитектуры. Но если у нее не было ни вкуса, ни чувства пропорции, то было много увлечения. Художественное чутье она заменяла пылкостью, и качество – количеством. «Знайте, – писала она в 1779 году, – что строительная страсть сильнее в нас, чем когда бы то ни было, и ни одно землетрясение не разрушало столько зданий, сколько мы их возводим». Она прибавляла при этом меланхолическое размышление на немецком языке: «Строительная горячка – дьявольская вещь; она поглощает деньги, и чем больше строишь, тем больше хочешь строить; это болезнь, как пьянство».
Около этого времени она выписала из Рима двух архитекторов. Джиакомо Тромбара и Джеронимо Кваренги. Она объясняла Гримму, почему ее выбор остановился именно на них: «Я хотела иметь двух итальянцев, так как у нас есть французы, которые знают слишком много и строят дома уродливые и внутри и снаружи, потому что слишком много знают». Опять ее высокомерное презрение к знанию и ее склонность к импровизации! Впрочем, это не мешало ей часто обращаться и К ученому Клериссо, который посылал ей планы дворцов в римском вкусе. Перронэ составил для нее проект моста через Неву; Буржуа – план маяка для Балтийского моря. В 1765 году она заказала Вассэ залу для аудиенции в 120 футов длины и 62 ширины.
Но при всем том покровительствовала ли она вообще художникам, все равно, были ли они архитекторами, живописцами или скульпторами? Фальконэ лучше было бы не спрашивать об этом, когда он вернулся из Петербурга: ответ его был бы слишком горек. Мы расскажем в другом месте, чем было его пребывание в столице России, в этом городе Петра Великого и Екатерины, обязанном ему своим лучшим украшением. Мы постараемся тогда выяснить, как сложились первоначально и во что превратились впоследствии его отношения к государыне, бывшие сперва со стороны Екатерины более чем любезными и кончившиеся хуже, чем равнодушием. Скажем здесь, что, лишенная совершенно чувства прекрасного, Екатерина не была способна понимать и душу артиста. Фальконэ понравился ей в первую минуту самобытным и немного парадоксальным складом ума и главным образом причудливостью своего нрава; но вскоре он надоел ей и кончилось тем, что он стал ее раздражать. Он был слишком художник, на ее взгляд. А она несколько своеобразно рисовала себе роль тех людей таланта, которых призывала для украшения своей столицы. Она наивно говорила в одном из своих писем к Гримму: «Si il signor marchese del Grimmo volio mi fare (вместо vuol farmi) удовольствие, он будет так добр написать божественному Рейффенштейну найти для меня двух хороших архитекторов, итальянцев по происхождению и искусных по профессии, которых наняли бы на службу к Ее Величеству русской императрице по контракту на столько-то лет и отправили бы из Рима в Петербург, как пакет инструментов». Они и были для нее именно инструментами, которые употребляют, пока они годны, и выбрасывают в окно, когда они иступятся, или когда найдутся лучшие или более удобные под рукою. Так она поступила и с Фальконэ. Но вернемся к ее письму к Гримму. Она продолжает: «Пусть он (Рейффенштейн) выберет людей честных и рассудительных, не таких сумасбродов, как Фальконэ, и которые ходили бы по земле, а не по воздуху». Она не хотела чтоб они парили в вышине. «Микель Анджело, – сказал справедливо один французский историк, – не остался бы и трех недель при дворе Екатерины».
И, чтобы остаться при этом дворе в течение двенадцати лет, надо было иметь незаурядную силу воли Фальконэ и его искреннюю страсть к начатому им делу, в которое он вложил всю душу. Но зато, когда он уехал из Петербурга, он был разбитым человеком… Если не считать Фальконэ, Екатерину окружали только посредственности из иностранных художников: Бромптон, английский живописец, ученик Менгса, Кениг, немецкий скульптор, пользовались ее милостями. Бромптон писал аллегории, восхищавшие императрицу, потому что это были аллегории политические. «Он сделал портреты двух моих внуков, и это прелестная картина: старший забавляется тем, что хочет разрубить Гордиев узел, а другой – дерзко надел себе на плечи знамя Константина». Кениг удачно вылепил бюст Потемкина. Г-жа Виже-Лебрен, приехавшая в Петербург в 1795 году, имея за собой уже европейское имя, была везде встречена с большим почетом; но Екатерина обошлась с ней холодно. Императрица находила ее общество неприятным, а картины настолько слабыми, что «только тупой человек мог бы писать таким образом», – говорила она.
А русские художники, – как она относилась к ним? Искала ли она среди них самородков, поощряла ли их таланты, ценила ли их? Произвести подсчет русским знаменитостям В этой области за время царствования Екатерины нетрудно. Это был, прежде всего, Скородумов, гравер, изучавший свое искусство во Франции; в 1782 году она выписала его к себе на службу из Парижа. Один путешественник-иностранец (Фортиа де-Пиль) нашел его несколько лет спустя в пустой мастерской за полировкой медной доски для жалкого рисунка, заказанного ему по случаю какого-то торжества. Скородумов объяснил итальянцу, что в Петербурге не было подмастерья, способного заменить его в этой черной работе, и очень удивлялся, что нашелся человек, который интересуется его делом: он уже примирился со своим приниженным положением. Затем скульптор Шубин, которого тот же путешественник застал в узкой студии, без моделей, без учеников и почти без заказов: он работал над бюстом кого-то адмирала, обещавшего заплатить ему за труды 100 руб., тогда как одного мрамора должно было пойти на бюст рублей на восемьдесят. Наконец, художник Лосенко. Вот что говорил о нем Фальконэ:
«Этот бедный, честный юноша, униженный, голодный, мечтавший поселиться где-нибудь вне Петербурга, приходил ко мне поговорить о своих несчастьях; потом он отдался пьянству с отчаяния и был далек от того, чтобы подозревать, что ждет его после смерти: на его надгробном памятнике написано, что он был великим человеком!»
Екатерине был нужен великий художник, чтобы дополнить ее славу, и она получила его дешевою ценой. Когда Лосенко умер, она охотно присоединила его апофеоз к своему величию. Но она не сделала ничего, чтобы дать ему возможность жить. Все ее заботы об искусстве сводились в сущности к чисто показной стороне. И с этой точки зрения «божественный» Рейффенштейн, имя которого было известно всей Европе, стоил в ее глазах, конечно, дороже, нежели безвестный Лосенко, хотя оба они были только хорошими копировальщиками, а не творцами. В общем национальное искусство обязано Екатерине только несколькими моделями Эрмитажа, послужившими для изучения и подражания русским художникам. Но, кроме этих моделей, она не дала ему ничего: даже куска хлеба.
III. Знаменитые ученые в царствование Екатерины были все иностранцы. – Отсутствие русских имен. – Чья в том вина? – Роль, отведенная Екатериной науке. – Маяк или глухой фонарь? – Официальная наука. – Две эпохи царствования. – Либерализм и реакция. – Покровительство историческим изысканиям. – Князь Щербатов. – Болтин. – Голиков. – Татищев. – Личные экскурсии Екатерины в области истории. – Удивительные открытия. – Салический закон – закон славянский. – Почему Хильперик был лишен престола? – Как искусства зародились в Сибири. – Переписка по этому поводу с Бюффоном. – Екатерина разочаровывается в науке и ученых. – Ее последние труды. – Доктор и магистр виттенбергского университета.
Екатерина любила выдавать себя за покровительницу наук и ученых. В 1785 г. она повторила с Палласом свой великодушный поступок по отношению к Дидро. Когда она предложила ему купить его коллекцию по естественной истории, он спросил за нее 15.000 рублей, чтоб дать их в приданое своей дочери. Но Екатерина ответила ему, что насколько он сведущ в естественной истории, настолько мало понимает в делах, и заплатила ему 21.000 рублей, предоставляя ему пользоваться своей коллекцией до конца жизни. Но была ли то вина императрицы, что среди ученых, с которыми ей приходилось иметь дело, мы встречаем только иностранные имена: Эйлера, Палласа, Бемера, Шторха, Крафта, Миллера, Бакмейстера, Георги, Клингера? Мы должны признать, что ни в обязанностях, ни во власти великой государыни было создать из ничего местную науку и ученых, русских по происхождению и воспитанию. Она выписала раз из Германии для кадетского корпуса четырех профессоров: математики, естествознания, философии и литературы. Но когда эти господа приехали в Россию, то искренне поразились, узнав, что их будущие ученики не умеют даже читать ни на одном языке! Но зато странно, что пребывание в. Петербурге всех этих ученых, германские имена которых мы только что перечислили, не принесло России решительно никакой пользы, хотя на родине они сумели заслужить себе известность своими трудами. За исключением знаменитых путешествий Палласа, исторических изысканий трудолюбивого Миллера и некоторых работ по естественным наукам, эта группа ученых, собранная за большие деньги, чтобы светить маяком в черной ночи русского невежества, не дала даже ни одной книги, которая украсила бы царствование Екатерины. Впрочем, может быть, Екатерина хотела, чтобы они играли роль не маяка, а другую? «Она любила науки, – было сказано про нее: – лишь поскольку они казались ей годными, чтобы распространять ее славу: она хотела держать их в руке, как глухой фонарь, и пользоваться их лучами, направляя их лишь туда, куда ей было угодно». Это верно: топографические и статистические труды изящного Шторха могли бы иметь большую ценность, если бы были напечатаны в той полноте, как он их писал. А в том виде, как его картина Петербурга была завещана потомству, она стоит портрета Екатерины, исправленного Лампи по указаниям императрицы. Изображения Георги богаты, главным образом, ненужными подробностями. Граф Ангальт составил в том же духе описание кадетского корпуса, директором которого состоял: в этой книге можно найти подробнейший перечень лестниц, окон, дверей и печей заведения на радость любому трубочисту. Клингер, чтобы избежать компромиссов, оскорбительных его совести ученого, должен был печатать в Германии то, что было написано им в России. Так же впоследствии поступал и Коцебу. Екатерина оказывала покровительство только официальной науке; другой она не допускала в пределах своего государства. Рядом с каждой проблемой философии, истории и даже географии она ставила вопрос государственного порядка и за спиной всякого ученого – полицейского агента. А от такой стерилизованной науки и нельзя было ждать ничего, кроме напыщенной лести и высокопарных нелепостей.
В этом отношении тоже видна резкая разница между первыми годами царствования Екатерины, по которым пробегал освежающий поток ее либеральных идей, и последовавшим за ним печальным временем реакции. 1767 год был выдающимся в умственной жизни «ученицы Вольтера» по тому острому любопытству, с которым она следила за всем, что страстно увлекало тогда Европу в области знания и мысли. Вместе со всеми Екатерина интересовалась прохождением Венеры перед солнцем: оно ожидалось астрономами в 1769 г., и везде для его наблюдения делались большие приготовления. Екатерина выразила желание, чтобы и ее академия приняла участие в изучении этого феномена и представила бы ей о том доклад. Около того же времени она хотела привлечь из Берлина в Петербург знаменитого Галлера, перекинув ему из Германии в Россию золотой мост. Но великий физик отнесся к этому приглашению с недоверием. Беккария, которого Екатерина тоже соблазняла приехать в Россию, предлагая ему, «что он пожелает, тысячу червонцев и больше» для путешествия и выгодные «условия» по приезде, последовал примеру немецкого ученого. Можно только представить себе, какую роль пришлось бы ему играть в Петербурге после неудачи, постигшей законодательные начинания Екатерины, в которых он, сам того не подозревая, принимал такое видное участие.
Но была одна отрасль науки, которая действительно процветала в царствование Екатерины и при этом благодаря личной инициативе государыни. В одном из Сборников Императорского Русского Исторического общества, которому мы обязаны опубликованием таких ценных документов, член его Бычков по праву сказал, что изучению русской истории было положено начало при великой императрице. Под ее покровительством была исполнена громадная работа по историческим исследованиям и экзегетике. Обнародованные в большом числе старинные летописи позволили Шлёцеру исполнить свой полный глубокой эрудиции труд. Были изданы рукописи, остававшиеся прежде неизвестными, например, единственный экземпляр «Слова о полку Игореве», открытый Мусиным-Пушкиным. По желанию императрицы, Штриттер изучал византийских писателей, и его изыскания послужили материалом для замечательных работ Болтина, которые можно назвать первым трудом по исторической критике, появившимся в России; впрочем, сама Екатерина положила им начало, написав свои «Записки касательно Российской истории» и «Антидот». На основании архива Петра I, впервые разработанного князем Щербатовым, этим последним была написана «История Российская», а Голиковым – двенадцать томов «Деяний Петра Великого». Замешанный в каком-то политическом процессе и помилованный в день открытия памятника работы Фальконэ, Голиков выразил этим свою благодарность.
Без сомнения, русская история, в том виде, как ее писали Щербатов и Голиков у подножия императорского трона, невольно бросавшего свою тень на их труды, – напоминала только очень отдаленно храм, воздвигнутый истине. Да и в истории Петра Великого, написанной самим Вольтером по материалам, «приготовленным» для него по приказанию Екатерины, старому Миллеру было нетрудно найти предлог к насмешкам. «Этому немцу, – ответил на них Фернейский старец, – я желаю побольше ума и поменьше согласных букв». Но этой выходкой он доказал только, как трудно французу, хотя бы и самому остроумному на свете, но имеющему за собой только ум, бороться с немцем, вооруженным знанием. Но какова бы ни была научная ценность этих исторических трудов, за ними было то неоспоримое достоинство, что они первые проложили путь, по которому современная Россия ушла теперь так далеко вперед. Журнал, издававшийся Новиковым под покровительством Екатерины и скромно озаглавленный «Повествователь Древностей Российских», превратился впоследствии в «Древнюю Российскую Вивлиофику», в которой были собраны самые драгоценные памятники русской старины. И еще при жизни Екатерины появился уже более самостоятельный историк России, Татищев.
Сама Екатерина всегда отрекалась, как мы это знаем, от всяких исторических знаний. «Что касается меня, – писала она Гримму: – то как только дело коснется какой-нибудь науки, я закутываюсь в мой плащ неведущей и молчу. Я нахожу это для нас, монархов, чрезвычайно удобным». Однако она иногда распахивала этот плащ, и даже чаще, нежели то было бы желательно для ее репутации. В.дериод 1783—1785 гг. она с особенною страстью отдавалась изысканиям за которые берутся обыкновенно ученые с громадною специальною подготовкой. А после смерти Ланского в 1784 году она ушла в них вся с головою: она искала в них утешения в своем горе. Дело шло о составлении словаря сравнительного языкознания. Этот труд привлекал ее еще в то время, когда она была великой княгиней, и когда под ее покровительством пастор английской фактории в Петербурге Дюмареск издал Comparative Vocabulary of the Eastern Languages. В 1785 году она вступила по этому поводу в переписку с Циммерманом, просила сотрудничества Палласа и Арндта. Она делала извлечения из филологического труда Кур-де-Жибелена, вышедшего с 1776 по 1781 год в восьми больших томах. Ухватившись за его идею, что все наречия должны были произойти от одного источника, она стремилась найти ей подтверждение, несмотря ни на какие препятствия, встречавшиеся на ее пути. Гримму, которому она обыкновенно первому сообщала об этих своих лингвистических подвигах, приходилось, вероятно, переживать минуты, когда его преклонение перед гением его государыни, как он называл Екатерину, подвергалось жестокому испытанию. Основным наречием, породившим все производные, был, по мнению Екатерины, разумеется, русский, или «славянский» язык. Другого бы она не согласилась признать. И, черпая материал из самых разнообразных источников, заставляя всех волей-неволей помогать себе в этой работе, и берлинского писателя и книгоиздателя Николаи, и Лафайета, и аббата Галиани, и графа Кирилла Разумовского, которому она поручала наводить справки у его крепостных, и своего посла в Константинополе, обращавшегося от ее имени к патриархам антиохийскому и иерусалимскому с просьбой перевести двести восемьдесят шесть русских слов на абиссинский и эфиопский языки, – она делала положительно необыкновенные открытия. Вот образчики их:
«Я собрала множество сведений о древних славянах и вскоре буду иметь возможность доказать, что они дали названия большинству рек, гор, долин, округов и областей во Франции, Испании, Шотландии и других местах».
А несколько недель спустя она писала:
«Говорю это вам одному, потому что это не достаточно исследовано: дело в том, что салинцы салического закона, Хильперик I, Хлодвиг и весь род Меровингов были славяне, как и вандальские короли Испании. Их выдают их имена а также их поступки».
Например, имя Людовик, по ее толкованию, состояло из двух славянских корней: люд от люди, и двиг от двигать. «Это имя как бы значит – управлять людьми, приводить их в движение».
«Не удивляйтесь же теперь, – прибавляла Екатерина: – что короли Франции приносят присягу на славянском евангелии при своем короновании в Реймсе. Хильперик I был свергнут с престола, потому что хотел, чтобы галлы, которые получили от римлян латинскую азбуку, прибавили к ней три греко-славянские буквы, а именно Th или ч, X, она произносится, как шер (cher-sic) иф, произносящаяся, как пси… Не показывайте этих заметок ни Байльи, ни Бюффону, это не для них, хотя они первые указали на существование народа, которого, может быть, и не собирались открывать».
Остальные изыскания Екатерины были достойны этих. И хотя она сомневалась в том, что Бюффон сумеет оценить ее научные находки, но еще в 1781 году послала ему золотые медали и роскошные меха в благодарность за его теорию, по которой он старался установить в своих «Эпохах природы», что искусства появились впервые в Сибири, на берегах Иртыша. Отметим, что, получив эти подарки от императрицы, знаменитый ученый не пытался доказать ей, что с ее точки зрения вовсе не заслуживает их. Екатерина писала ему при этом:
«Медали, выбитые из металла, добываемого в этих областях, могут когда-нибудь послужить доказательством того, упали ли искусства там, где они зародились».
Бюффон же, заметив на этих медалях изображение императрицы, ответил на это:
«Моим первым движением после того, как я пришел в себя от удивления и восхищения, было прикоснуться губами к прекрасному и благородному изображению самого великого лица в мире… Затем, обратив внимание на великолепие этого дара, я подумал, что это скорей подарок государя государю, но что если это подарок гения гению, то и тогда я стою гораздо ниже этой божественной головы, достойной управлять всем миром».
Удивляться ли после этого, что «божественная голова», перед которой так раболепно преклонялся один из величайших ученых Европы, невольно могла вскружиться в опьяняющей атмосфере этого фимиама. Оптимизм Екатерины по отношению к своему народу и всему, касающемуся его, тоже отрывал ее, в свою очередь, от холодной действительности, увлекая в мир галлюцинаций и мечтаний. Ее «Записки касательно Российской истории», печатавшиеся в «Собеседнике», почти безумны по смелости. Она изобретала в них «финляндских королей», никогда не существовавших на свете, женила их на не менее фантастических новгородских княжнах, все это покрывала именем Рюрика и приходила в восторг, что ей удалось так ясно установить происхождение древней Руси.
Но эта этнологическая и филологическая горячка оказалась быстротечной, как и все увлечения Екатерины. В Императорской Публичной библиотеке хранится целая коллекция рукописей Екатерины, в которых она завещала потомству плод своих работ в этой отрасли науки. Но в один прекрасный день она призвала Палласа и поручила ему продолжение своего словаря. Ей самой надоело заниматься все одним и тем же. К концу царствования ее научный пыл все остывал и наконец совсем потух. Она разочаровалась в философии и в философах. Они рисовались ей в виде академиков, спокойно и скромно рассуждающих об очень интересных предметах, делающих порою даже открытия и устанавливающих принципы, но никогда не выходящих из области теории: и вдруг она увидела, что они опасные революционеры, которые хотят применить к жизни то, что открыли, и перевернуть весь мир. Она сперва огорчилась, потом встревожилась и наконец искренне рассердилась. В 1795 году, обратив внимание на то, что Вольно-Экономическое общество в Петербурге получает от нее 4000 рублей в год на свои издания, – она находила их «одни глупее других», – Екатерина вышла из себя, назвала председателя и членов его «мошенниками» и прекратила субсидию. И в то же время на содержание стола одной из племянниц Потемкина она выдавала ежегодно что-то около 100.000 рублей!
Последние два года жизни Екатерина увлекалась работой, в которой, как и в ее запоздалой любви к немецкой литературе, сказалось ее германское происхождение. Она задалась широкой задачей установить «систематические классификации». Один день она в течение нескольких часов занималась разрядами обстоятельств, на следующий – категориями средств. Ей очень нравилась эта работа. Она постоянно обдумывала новые ее главы. Ей случалось, – как она говорила, – составлять их даже во сне. Правда, может быть, ей было это и не трудно делать, так как еще с 1765 года она числилась доктором и магистром свободных искусств виттенбергского университета, нашедшего, что ему недостает ее для его славы, как недоставало Мольера для славы французской академии. Но, к счастью для своей памяти, Екатерина имела за собой не только это ученое звание перед судом потомства.