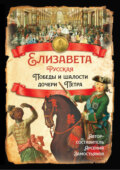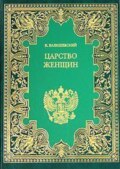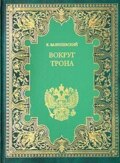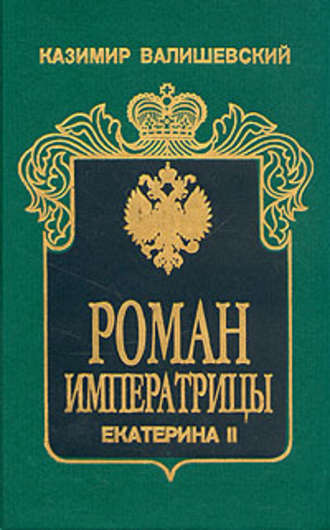
Казимир Валишевский
Роман императрицы. Екатерина II
«В этой стране учреждают слишком многое за раз, – писал граф Сегюр в 1787 году, – беспорядок, связанный с поспешностью выполнения, убивает большую часть гениальных начинаний. В одно и то же время хотят образовать третье сословие, развить иностранную торговлю, открыть всевозможные фабрики, расширить земледелие, выпустить новые ассигнации, поднять цену бумаге, основать города, заселить пустыни, покрыть Черное море новым флотом, завоевать соседнюю страну, поработить другую и распространить свое влияние по всей Европе. Без сомнения, это значит предпринимать слишком многое».
К тому же Екатерине приходилось бороться с непреодолимыми препятствиями. В первый год своего царствования она обратила внимание на то, что в сенате, где разбирались самые сложные вопросы внутренней жизни страны, не было даже географической карты, так что судьба далеких городов решалась заочно, и сенаторы не знали иногда, где эти города стоят: вблизи Черного или Белого моря? Екатерина сейчас же послала в академию наук купить карту за пять рублей, которые дала от себя. Она всеми силами старалась бороться с бесчисленными и почти невероятными злоупотреблениями, встречавшимися одинаково во всех отраслях управления. В этом отношении Россия многим обязана Екатерине, хотя искоренить все зло оказалось все-таки не по силам ей. Однажды она отправила в Москву гвардейского офицера Молчанова для расследования дела о взяточничестве, о котором ей доложили. Чтобы выехать из Петербурга, Молчанову потребовался паспорт. Россия и во времена Екатерины была классической страной паспортов. И пока офицер ходил из канцелярии в канцелярию, чтобы добиться необходимой бумаги, прошло целых три дня, и провинившиеся в Москве чиновники успели спрятать концы в воду. Цинический подкуп и взяточничество царили на всех ступенях административной лестницы. В 1770 году, когда в Москве свирепствовала чума, полиция вошла в особое соглашение с военными лекарями, чтобы обирать богатых купцов: намеченную жертву объявляли заболевшей чумою; для осмотра являлся врач и натирал купцу руки ляписом; вскоре на руках у купца появлялись, естественно, черные пятна, и мнимого чумного отправляли в карантин: если он не успевал откупиться, то отсутствием его пользовались, чтобы разграбить его дом. По достоверному свидетельству инспектора полиции Лонпре, присланного из Парижа в 1783 году по одному судебному делу, в Петербурге было то же вопиющее беззаконие: улицы или вовсе не охранялись, или охранялись плохо, пожары беспрестанно уничтожали в городе громадные кварталы и т.д. Около того же времени английский посланник Гаррис рассказывает про случай с одним из его соотечественников: вооруженные воры ограбили англичанина на большую сумму, и он тщетно старался заинтересовать своим несчастием низших полицейских чинов; тогда он решился отправиться к самому полицмейстеру, но в семь часов утра застал его раскладывающим пасьянс засаленной колодой карт.
Из учреждений, основанных Екатериной, одним из самых долговечных, благодетельных и хорошо задуманных был воспитательный дом для покинутых детей, открытый в 1763 году. Ему были дарованы исключительные привилегии и льготы: освобождение от податей и натуральных повинностей, право собственного суда и полицейского надзора, личная свобода всем его питомцам, а также всем служащим, посвятившим ему свои труды, монополия на лотереи, часть доходов с театров и т.д. На содержание воспитательного дома императрицей было пожаловано пятьдесят тысяч рублей, а громадные здания его были выстроены на счет филантропа Прокофия Демидова. Первым его директором был назначен Бецкий, отдавший ему все свое состояние (около 2 миллионов франков) и двадцать лет неусыпных забот. Изданное в 1775 году сочинение Бецкого под заглавием: «Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России обоего пола благородного и мещанского юношества» дает возвышенное представление об этом создании Екатерины. Дидро, наблюдавший в Гааге за переводом и печатанием книги Бецкого, предпослал ей следующие строки: «Когда время и твердость этой великой государыни доведут их (эти учреждения) до степени совершенства, им доступной и уже достигнутой некоторыми из них, то Россию будут посещать, чтобы изучать их, как посещали прежде Египет, Македонию и Крит, но любопытство путешественника, смею я думать, будет на этот раз более обосновано и лучше вознаграждено».
За последнее время многие иностранцы действительно приезжают в Россию. Правда, не совсем с той целью, о которой пророчествовал Дидро. Но, может быть, предсказание его еще исполнится в будущем.
V. Финансовая политика Екатерины. – Откуда брались деньги? Ассигнации и займы. – Невозможность банкротства или революции. – Кредит России безграничен. – Особенная экономическая теория. – Ее оправдание. – Ее результаты. – Опять Посошков.
В административной деятельности Екатерины была одна сторона, которая представляет загадку, не поддающуюся разрешению: это – ее финансовая политика. В каком состоянии были финансы России при восшествии Екатерины на престол, видно из ее дневника или записки, от которой уцелел, к несчастью, лишь отрывок:
«Я нашла сухопутную армию в Пруссии, за две трети жалования не получившею. В статс-конторе именные указы на выдачу семнадцати миллионов рублей не выполненные. Монетный двор со времени царя Алексея Михайловича считал денег в обращении сто миллионов, из которых сорок миллионов почитали вышедшими из империи вон. Почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополии. Таможни всей империи сенатом даны были на откуп за два миллиона… Блаженная памяти государыня Елизавета Петровна во время Семилетней войны искала занять два миллиона рублей в Голландии, но охотников на тот заем не явилось, следовательно кредита, или доверия к России не существовало. Внутри заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начинали присоединяться местами и помещичьи…»
Это был режим, который застал еще Петр I, вступив на престол, но которого он не пытался изменить; режим этот зависел от целого ряда идей и преданий, завещанных России со времен татарского ига азиатскими обычаями: он заключался не только в выколачивании из мужика последней копейки, но в открытом грабеже всех народных богатств страны. Мы характеризовали его следующими словами в статье, написанной несколько лет назад и посвященной финансовому положению великого государства:
«Податью было обложено все, что только можно обложить ею, даже длинные бороды мужиков, которые должны были платить за право въезда за городскую заставу! Собирали эти подати огнем и мечом, при помощи военных экзекуций и утонченных пыток, выработанных опытом многих веков. Но так как казна оставалась все-таки пустою, то доходы ее были отданы на откуп, продавались или разыгрывались в лотерею. Как последнее отчаянное средство, решили за часть принять целое, облагаемый податью предмет за самую подать и учредили в 1729 году канцелярию конфискованных имений».
Как же отнеслась Екатерина к этому порядку вещей? Вначале она пыталась помочь делу паллиативами. Она отдала в распоряжение государства «собственные комнатные деньги». Потом старалась исправить по возможности механизм государственного хозяйства. Главный недостаток его заключался в отсутствии единства: финансы империи находились в руках различных учреждений, независимых одно от другого, причем каждое считалось только со своими интересами, – они имели между собою лишь то общее, что все наперебой грабили казну. Екатерина по возможности объединила и централизовала эти ведомства. Отдельные реформы, уничтожение монополий и привилегий, принадлежащих некоторым купеческим обществам, отмена таможенного откупа, – все это немного увеличило доходы государства. Но в общем они стояли еще очень низко: они не превышали 17 миллионов рублей. А между тем этот доход должен был соответствовать политике Екатерины, которая стремилась к тому, чтобы Россия не уступала ни в чем великим европейским державам, ни Франции с ее бюджетом в полмиллиарда франков, ни Англии с бюджетом в 12 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, и это казалось Екатерине мало: она хотела не только сравняться со своими соперниками на Западе, но и превзойти их! Ей хотелось, чтобы ее многочисленные внешние предприятия, пышность ее двора, подарки, которые она щедрою рукой раздавала толпе своих поклонников в Европе, – а их было там так много, – золото, лившееся широким потоком на ее фаворитов, – чтобы все это затмило век великого короля, Короля-Солнца, блистательное царствование которого не давало ей спать.
И ей почти удалось это! Одна первая турецкая война стоила ей 47 с половиной миллионов. А после небольшого промежутка в несколько лет великие войны следовали уже непрерывно одна за другой до самой смерти Екатерины: завоевание Крыма, вторая турецкая война, война со Швецией, раздел Польши, Персидский поход и т.д. Внутренняя жизнь государства требовала со своей стороны не менее расходов. На двор, при беспорядке и грабеже, царивших повсюду, уходили громадные суммы. Содержание одного петергофского дворца за время от 1762 до 1768 года стоило, как стояло в росписи расходов, – 180.000 рублей, но когда Екатерина приехала в Петергоф в июне 1768 года, то нашла дворец в полном запустении. Деньги, очевидно, пошли на что-то другое. В 1796 году Екатерине приходилось иметь дело с бюджетом уже около 80 миллионов рублей. И она сумела найти для него деньги! Она платила за все и всем: и за обучение Алексея Орлова во флоте Архипелага, и за безумства Потемкина, и за энтузиазм Вольтера. Золото так и таяло у нее в руках, а между тем она никогда не имела в нем недостатка, или, по крайней мере, делала вид, что оно у нее есть. Но как она достигла этого? Каким колдовством? Объяснить это легко, но для того, чтобы понять это объяснение, надо знать одну тайну, проникнуть в которую сумела Екатерина своим ясным умом или своим гениальным инстинктом. Было бы странно, если б в борьбе с финансовыми затруднениями, о которых мы говорили выше, правительству России не пришло в голову средство, оказавшееся, правда, очень разорительным на практике Западной Европы, но которое должно было тем не менее сильно соблазнять умы. Действительно, вступив на престол, Петр III сейчас же издал указ об учреждении банка и о выпуске бумажных денег на 5 миллионов рублей. Эта идея императора вначале не понравилась Екатерине. Она не видела ничего хорошего в ассигнациях, в значении которых не отдавала себе вполне ясного отчета. Но в 1769 году турецкая война заставила ее подавить в себе эти сомнения. С тех пор и было найдено орудие финансового могущества Екатерины, та волшебная сила, которая с 1769 года создавала счастье и славу великой государыни, поддерживала колоссальную работу ее царствования и давала ей средства для расточительности. За двадцать семь лет Екатерина выпустила ассигнаций на 157.700.000 рублей. Если прибавить к ним еще круглые суммы в 47.739.130 и 82.457.426 рублей – внешние и внутренние займы, заключенные за это же время, – то получается общий итог в 287.896.556 рублей, т.е. около полутора миллиардов франков государственного долга. Вот откуда Екатерина доставала деньги.
Но у читателя, вероятно, уже мелькнула при этом мысль, что ведь система Екатерины – не исключительное явление в истории современной Европы. Бесспорно, не Петр III изобрел ассигнации, и не одна Екатерина пользовалась ими. Но только всем известно, к чему привела эта система в других странах: банкротство, уродливое банкротство, о котором говорил Мирабо, было приговором над народными иллюзиями, скрепленными печатью правительства, а вскоре и само это правительство должно было предстать перед судом общества и признать себя несостоятельным перед надвигающейся революцией. А в России – в этом и заключается особенность, колдовство и таинственный секрет Екатерины, о котором мы говорили выше, – о банкротстве не было и речи ни в царствование самой императрицы, ни при ее приемниках. Да его и не могло быть по очень простой причине: оно произошло во Франции оттого, что злоупотребление кредитом привело к более или менее скорому, по роковому истощению наличного капитала и недвижимостей, служивших залогом для выпуска бумажных денег и для займов. А в России этого не случилось, как не может случиться и теперь, потому что этот залог, т.е. та единственная гарантия, на которую опирается и внутренний, и внешний кредит страны, в ней неистощим. Гарантия эта не имеет в России границ, по крайней мере материальных. И до сих,пор казалось, что она не имеет их и в моральном отношении. Если России и приходилось переживать иногда трудные минуты, то это выражалось лишь в том, что источники, откуда черпает свои средства государство, временно сокращались, но они никогда не иссякали вовсе. Но что же служит в России этим волшебным залогом? Живший при Петре I полудикий философ Посошков, в необработанном, но очень глубоком уме которого уже вставали все эти проблемы, дает ему такое определение на своем образном языке. Он говорит, впрочем, не об ассигнациях, а о чеканке денег: «Мы не иноземцы, не меди цену исчисляем, но имя Царя своего величаем; нам не медь дорога, но дорого Его царское именование. Того ради мы не вес в них (монетах) числим, но исчисляем начертание на ней… И того ради мы не серебро почитаем, ниже медь ценим, но нам честно и сильно именование Его Императорского Величества; у нас столь сильно Его Пресветлого Величества слово, ащеб повелел на медной золотниковой цате положить рублевое начертание, то бы она за рубль и в торгах ходить стала во веки веков неизменно».
Вся теория общественного кредита, как она применялась в эпоху Екатерины, и как она применяется в России и в наши дни, заключается в этих словах. На ней была основана и финансовая политика Екатерины. И именно благодаря тому, что императрица усвоила себе эту теорию, сумела осуществить ее и пользовалась ею безгранично, рассчитывая на неизменную покорность своих подданных, – она и могла совершить великие деяния своего царствования. То слепое доверие, которым она пользовалась внутри своего государства, невольно передалось дальше, и кредит, не имевший за собой в сущности реального основания, перешел за пределы России; деньги привлекли новые деньги, и к поборам, собственным внутри страны, прибавились займы, взятые за границей. В то же время эти искусственно созданные средства дали толчок производительности России и увеличили таким образом самые источники народного богатства.
«Было бы ошибочно, – писали мы в 1885 году, – смотреть на эту политику, как на результат случайной аберрации. Вернее считать ее присущей духу того народа, в котором она зародилась; во всяком случае она, несомненно, опиралась на нечто прочное и непреходящее, потому что до сих пор еще руководит финансовыми судьбами великой империи. Петр III одним почерком пера создал банк, не имевший ни основного капитала, ни металлического фонда, ни какого-либо другого обеспечения. Но банк обошелся без этого, как обходился без этого и впоследствии…» Но нужно признать, что в основании этой политики лежит не только идея безграничной власти монарха. Ведь государь, изображение которого выбито на обороте серебряного рубля или золотого империала, является представителем, державным воплощением народного богатства. И это богатство, которого никогда не измеряли и которое и измерить нельзя, тоже рисуется воображению народа, как что-то неисчислимое. Это оно, в сущности говоря, служит залогом под бумажные деньги и государственную ренту. Масса народа верует в него, как и во власть царя. И, благодаря этой вере, Россия и могла стать вне тех законов и условий развития, которым подчиняется везде экономическая жизнь как отдельных людей, так и целых народов. Финансовая политика России могла при этом не только существовать и развиваться в указанном выше направлении, но и держаться на высоте, совершенно не соответствовавшей действительным силам государства. Опасность чрезмерного выпуска ассигнаций, вызвавшая во Франции банкротство Ло и заставлявшая парижан, любивших покушать, платить в III году первой республики по 3.000 франков за обед, – заключается в том, что общественное доверие к правительству может поколебаться. А в России это доверие не колебалось никогда. Оно не поколеблено и до сих пор, потому что его крепко сплели с верою в самую судьбу великого государства. Русское правительство обращалось, собственно говоря, не к доверию, а к легковерию общества, и потому-то оно и могло уклониться от законов, которые управляют операциями, основанными на кредите. Но чудовищные злоупотребления, вызвавшие небывалое накопление бумажных денег, заставили его все-таки считаться с другими законами, – которых, правда, было труднее избежать, – с законами, регулирующими отношение между спросом и предложением; ему пришлось иметь также дело – что было опаснее – и с вмешательством иностранных элементов, как с неизбежным последствием сношений с финансовыми системами соседних стран. Но. народное доверие и тут не пострадало. Впрочем, правительство России сумело выйти из затруднения, изъяв из обращения часть накопившихся ассигнаций, но сейчас же выпустив новые. Народное доверие выдержало и это испытание. В 1843 году, когда ассигнации были заменены кредитными билетами, стоило обратиться к обществу с воззванием и пустить в ход довольно искусно составленную рекламу, чтобы полиции пришлось сдерживать силою толпы народа, валившие в банки: все спешили выменять звонкую, Полновесную монету на пачки зеленых бумажек. В народе ходил слух, что золото и серебро потеряют теперь свою ценность, и что только бумажки сохранят ее. И такой слух встречал всюду полную веру!
«Приехав сюда, – писал граф Сегюр из Петербурга в 1786 году, – надо забыть представление, сложившееся о финансовых операциях в других странах. В государствах Европы монарх управляет только делами, но не общественным мнением; здесь же и общественное мнение подчинено императрице; масса банковых билетов, явная невозможность обеспечить их капиталом, подделка денег, вследствие чего золотые и серебряные монеты потеряли половину своей стоимости, одним словом все, что в другом государстве неминуемо вызвало бы банкротство и самую гибельную революцию, не возбуждает здесь даже тревоги и не подрывает доверия, и я убежден, что императрица могла бы заставить принимать, в виде монет, кусочки кожи, если бы она это приказала». Того же убеждения держался, как мы видели, и Посошков. В царствование Екатерины русским финансам пришлось пережить несколько очень тяжелых лет. В 1783 году, по случаю рождения внука, императрица подарила великой княгине Марии Федоровне 50.000 и великому князю Павлу 30.000 рублей, но когда их высочества послали получать деньги, то оказалось, что казна пуста. Гарновский, доверенный Потемкина, рассказывает в своих Записках, что когда в 1788 году его патрону потребовалась относительно небольшая сумма золотом для расходов в Крыму, то он выбился из сил и должен был обегать весь город, чтоб собрать 80.000 червонцев. Были минуты, когда курс бумажного рубля падал на 50%. В 1773 году, беседуя как-то с Екатериной, Фальконэ рассказал ей о предложении одного финансиста продать ей способ, как заработать 30 миллионов в четыре месяца без великого труда. Екатерина остроумно ответила на это: «Я имею обыкновение говорить изобретателям золота и проектов для добывания денег: господа, делайте деньги для самих себя, чтобы не быть вынужденными просить милостыню». Но она все-таки заинтересовалась, в чем состоит секрет финансиста. 30 миллионов были бы ей очень кстати! Впрочем, на Крым она спокойно истратила в то же время вдвое, а на вторую турецкую войну втрое больше, и эта война вдобавок еще почти ничего не принесла России.
VI. Армия. – Военный дух и фаворитизм. – Дезорганизация. – Екатерина портит дело, завещанное Петром I. – Полки, доставляющие доход своим командирам. – Русский солдат. – Победа дешевой ценой. – Заключение.
О положении армии в царствование Екатерины сказать почти нечего. Царствование это было очень воинственным, но оно не благоприятствовало развитию милитаризма и воинского духа. Воинский дух живет дисциплиной, чинопочитанием и честолюбием. А назначая Алексея Орлова адмиралом флота и Потемкина главнокомандующим, Екатерина мало поощряла эти чувства. В 1772 году на Фокшанском конгрессе Григорий Орлов, никогда не видавший поля сражения, вздумал было обращаться, как с подчиненным, с победителем при Кагуле, Румянцовым, и командование армией действительно чуть было не перешло к всесильному фавориту. Вскоре Румянцову пришлось столкнуться с новым соперником и на этот раз уступить свое место заменившему Орлова временщику. И за то время, когда Румянцов уже ушел, а Суворов еще не явился, русская армия находилась в очень неумелых руках. Но все знают, как сражается доблестный и терпеливый русский солдат, в царствование Екатерины ему к тому же приходилось драться или с турками, которые, еще не вступая в бой, были, так сказать, выведены из строя европейской тактикой, или с поляками, которые, как и турки, с точки зрения военного искусства тоже отстали на два столетия. С дисциплинированными же войсками Западной Европы Екатерина старательно избегала столкновения. Когда она попробовала было помериться силами со Швецией – жалким противником в сравнении с громадной Россией, – то ей пришлось сильно пожалеть об этом. В остальных же войнах победа доставалась ей дешевою ценою, по выражению принца Генриха Прусского. Но несомненно, что ее личная энергия и отвага немало помогли победам ее знамен.
Люди опытные и осведомленные обвиняли Екатерину в том, что в отношении своем к войсковой администрации она испортила дело, завещанное Петром Великим. Екатерина издала в 1763 году указ, по которому полковое хозяйство отдавалось всецело в руки командиров. Петр же назначал для заведывания довольствием армии особых инспекторов, бывших чиновниками или главного комиссариата, или центрального интендантского управления. Отменив этот порядок, Екатерина вызвала страшные злоупотребления. По расчету графа Сегюра, наличный состав русской армии равнялся в 1785 году приблизительно пятистам тысячам человек, из которых двести тридцать тысяч составляли правильное войско. Сегюр оговаривается однако, что беспорядок, царивший во всех военных канцеляриях, мешал ему навести более точные справки; русским же официальным цифрам доверять было невозможно. При этом он прибавлял: «Несколько полковников признались мне, что они каждый год получают от трех до четырех тысяч рублей доходу со своих пехотных полков, а кавалерийские полки дают командирам до 18.000». Граф Верженн около того же времени писал со своей стороны: «Русские эскадры не завоевывают себе славы, удаляясь от Балтийского моря. Та, что плавала последней в Средиземном море, оставила по себе добрую память. Ливорно жалуется особенно на офицеров, которые много тратили и мало платили».
Заканчивая главу о внутренней политике Екатерины, можно сказать, что она предприняла и начала здесь многое и ничего или почти ничего не довела до конца. По складу своего характера она смело шла вперед, никогда не оглядываясь на то, что оставляла за собой. А оставила она за собой много развалин.
«Еще до смерти Екатерины, – замечает один писатель, – большая часть памятников ее царствования представляла уже обломки».
В Екатерине сидел какой-то демон, который толкал ее вперед, все вперед, не давая ей ни жить настоящей минутой, ни даже наслаждаться достигнутым результатом, когда дело было ею случайно доведено до конца. Может быть, это был просто демон честолюбия, и честолюбия, бывавшего порой мелочным и ничтожным. Одобрив, например, план какого-нибудь строения и заложив здание, Екатерина обыкновенно сейчас же выбивала в ознаменование этого события медаль, но как только медаль эта была готова и положена у нее в кабинете, она переставала интересоваться постройкой. Так было и со знаменитым мраморным собором, начатым ею в 1780 году, да так и не законченным и через двадцать лет.