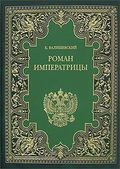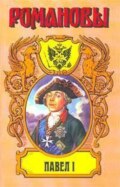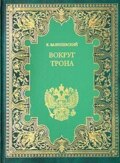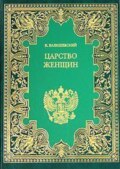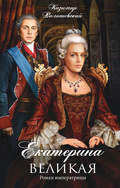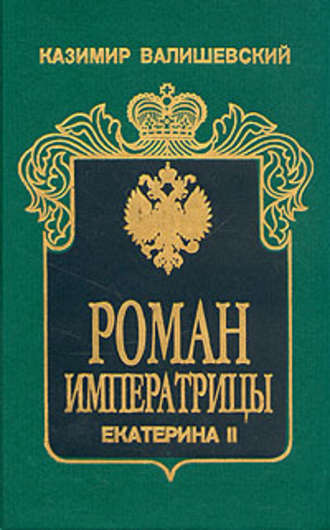
Казимир Валишевский
Роман императрицы. Екатерина II
В июне 1790 г. Гримм, еще не успевший заметить перемену в образе мыслей императрицы, просил у нее портрет ля Бальи, предлагая ей взамен изображение модного революционного героя.
Екатерина отвечала на это:
«Послушайте, я не могу согласиться на ваш договор, и мэру Парижа, лишившему Францию монархии, так же мало приличествует иметь портрет самой аристократической императрицы в Европе, как и ей посылать портрет мэру, свергающему монархов; это значило бы поставить и мэра, свергающего монархов, и аристократичнейшую императрицу в противоречие с ними самими и с их поступками, и в прошедшем, и в настоящем, и в будущем».
Через два дня писала опять:
«Повторяю вам, не давайте мэру, свергающему монархов, самого аристократического портрета в Европе; я не хочу иметь ничего общего с каким-нибудь Жаном Марселем, которого не сегодня завтра вздернут на фонарь».
Так отреклась Екатерина от своего республиканства. Но отказаться от философии ей было труднее. Она некоторое время еще оставалась ей верна. Ей хотелось доказать и себе, и другим, что философия ни при чем в разыгравшихся событиях. Она писала Гримму:
25 июня 1790 года.
«Национальному собранию следовало бы бросить в огонь всех лучших французских авторов и все, что распространило их язык в Европе, потому что все это служит обвинением против отвратительных бесчинств, которые они совершают… Что до толпы и ее мнения, то с ними не стоит считаться».
В этой последней фразе ярко сказалась непримиримая и с каждым годом все обострявшаяся вражда между воззрениями Екатерины и духом революции.
Власть черни, получавшая все большее значение в парижских событиях, и было то, что больше всего претило Екатерине и оскорбляло ее. Правда, было время, когда она судила о народе иначе. Созвав в начале царствования законодательную комиссию, она призвала тогда себе на помощь именно представителей от всей массы своих подданных. Но, войдя тогда впервые в соприкосновение с народным элементом, она мало-помалу изменила свои чувства к нему. Может быть, она была неправа, обобщая так свои впечатления, но у нее не было другого материала, чтобы производить сравнения. Свое мнение о народной массе ей пришлось составлять но примерам, которые она имела перед глазами, и мнение это выражалось в глубочайшем презрении. В 1787 году секретарь Екатерины Храповицкий обратил ее внимание на толпы крестьян, сбегавшихся в уездные города во время ее путешествия, чтоб взглянуть на нее и ей поклониться; она ответила ему, пожимая плечами: «И медведя смотреть кучами собираются». Она осталась верна этому своему взгляду и два года спустя, когда говоря о составе французских политических клубов, заметила: «И как можно сапожникам править делами? Сапожник умеет только шить сапоги».
Вскоре она изменила и философии. Она продолжала еще говорить с уважением о «хороших французских авторах», но делала теперь между ними уже строгий выбор и, за исключением Вольтера, поносила всех писателей восемнадцатого века. Она не щадила при этом ни Дидро, ни Даламбера, ни даже Монтескье.
«К Гримму:
12 сентября 1790 года.
«Надо сказать по правде, господствующий тон у вас – это тон грязной черни; однако, не этот тон доставил Франции славу… Что сделают французы со своими лучшими авторами, которые почти все жили при Людовике XIV? Даже Вольтер, – все они роялисты; они все проповедуют порядок и спокойствие и все, что противоположно системе тысячадвухсотголовой гидры».
О национальном собрании она отзывалась все в более жестких выражениях. Храповицкий отмечает в своем дневнике 7 августа 1790 года:
«При разговоре о Франции я сказал: „Это метафизическая страна; каждый член собрания – король, а каждый гражданин – животное“. – Принято хорошо».
В то же время Екатерина писала Гримму:
27 сентября 1790 года.
«В постели я размышляла и, между прочим, подумала, что одна из Причин, почему Матьё де Монморанси, Ноайли и другие так дурно воспитаны и так неблагородны, что были первыми глашатаями декрета об упразднении дворянства… лежит, по правде, в том, что у вас закрыли школы иезуитов: что бы там ни говорили, эти плуты умели следить за нравами и вкусами молодых людей, и все, что во Франции было лучшего, вышло из этих школ».
13 января 1790 года.
«Не знаем даже, живы ли вы посреди убийств, резни и распрей этого притона разбойников, которые завладели правительством Франции и хотят превратить ее в Галлию времен Цезаря. Но Цезарь покорил их тогда! Когда же придет этот Цезарь? О, он придет, не сомневайтесь в том».
13 мая 1791 года.
«Лучшая из возможных конституций не годится ни к чорту, потому что она делает более несчастных, нежели счастливых; добрые и честные страдают от нее, и только негодяи чувствуют себя при ней хорошо, потому что им набивают карманы, и никто их не наказывает».
Но все-таки Екатерина могла еще с большою сдержанностью рассуждать в то время об одном революционном принципе, наиболее оскорбительном для нее. Она писала 30 июня 1791 года принцу де Линь:
«Я нахожу, что академии должны были назначить премию primo за решение вопроса: во что превращаются честь и доблесть, эти драгоценные синонимы в устах героя, в представлении гражданина, который действует при правительстве, настолько подозрительном и завистливом, что оно преследует всякое превосходство, хотя сама природа дала человеку умному преимущество над глупцом, а храбрость и состоит в сознании телесной и умственной силы? Вторая премия – за решение вопроса: нужны ли честь и доблесть? И, если они нужны, то разве можно воспрещать соревнование и ставить ему преграду в виде его несносного врага: равенства».
Но вскоре Екатерина перестает уже сдерживаться и дает волю самому страстному негодованию:
1 сентября 1791 года.
«Если французская революция распространится в Европе, то придет новый Чингис или Тамерлан, чтобы образумить ее: вот ее участь; будьте в этом уверены, но этого еще не будет при мне, ни, надеюсь, при великом князе Александре».
В это время пришло известие о смерти Людовика XVI. Как мы уже говорили, это был страшный удар для Екатерины. Она слегла в постель и серьезно занемогла. В письме к своему поверенному Гримму она не смогла сдержать крика негодования и боли.
1 февраля 1793 года.
«Надо искоренить навсегда самое имя французов! Равенство – чудовище. Это оно хочет быть королем!»
На этот раз она всех французов предает проклятию, не делая исключения даже для Вольтера. Потом из уст ее или из-под пера льется воззвание к почти дикой мести и какие-то странные планы борьбы с революцией.
15 февраля 1794 года.
«Предлагаю всем протестантским державам принять православную веру, чтоб спастись от безбожной, безнравственной, анархической, убийственной и дьявольской чумы, врага Бога и престолов; греческая вера – единственная апостольская и истинно христианская. Это дуб с глубокими корнями».
Итак, после Цезаря она призывала Тамерлана с его всесокрушающим мечом, и после иезуитов – длиннобородых русских попов, которые должны были ввести заблудшие пароды в спасительное лоно православной церкви.
Но тот Цезарь, которого она имела в виду, был ли он действительно тем человеком, что покорил себе вскоре и Францию и Европу? И да и нет. О французском Цезаре она не думала вначале. В 1791 году она взывала – это ясно по тону ее слов – к какому-то высшему судье, который явился бы со стороны: к какому-нибудь принцу Брауншвейгскому – не больше. И лишь впоследствии это видение Цезаря приняло у нее другую, более осязательную форму; оно определилось и, надо отдать Екатерине справедливость, удивительно приблизилось к действительности: Екатерина увидела Наполеона еще прежде, чем он появился; она не только видела его сама: она указывала на него другим; она подробно описывала его:
«Если Франция выйдет из теперешнего испытания, – эти строки написаны 11 февраля 1794 года, – она будет сильнее, чем когда-либо; она станет послушной и кроткой, как ягненок; по ей необходим человек недюжинный, ловкий, смелый, стоящий выше своих современников, а может быть, и своего века. Родился ли он? Или нет? Придет ли он? Все зависит от этою. Если он появится, то остановит дальнейшее падение, и оно прекратится там, где он появится, во Франции или в другом месте».
К деятелям же революции, предшествовавшим Наполеону, Екатерина относилась с нескрываемым негодованием и сурово осуждала их. Она называла теперь Лафайета не иначе, как «Dadais Ie Grand» (Болван Великий). К Мирабо она была сперва более милостива. Похвалы, расточаемые «С.-Петербургскими Ведомостями» его запоздалой лояльности, указывают на то, что при дворе Екатерины знали о сношениях знаменитого трибуна с русским посольством в Париже и о тех услугах, которые от него там ожидали. Но после его смерти Екатерина высказала о нем свое личное мнение в совершенно противоположном смысле.
«Мирабо – писала она Гримму, – был колоссальной или чудовищной фигурой только в наше время, потому что во всякое другое от него все бы бежали, его бы ненавидели, засадили в тюрьму, повесили, колесовали и т.д.».
Через три дня она писала опять:
«Мне не нравятся почести, которые воздают Мирабо, и я не понимаю, за что они; разве только для того, чтобы поощрить злодейство и всякие пороки. Мирабо заслуживает уважения Содома и Гоморры.»
Она разочаровалась также и в Неккере: «Я разделяю чувства М.Ф. (?) к Малэ-Дюпану и этому очень скверному и глупому Неккеру: я их нахожу не только отвратительными, но также и болтливыми и скучными до крайности».
К герцогу Орлеанскому она была тоже беспощадна:
«Надеюсь, что никогда уже ни один Бурбон не захочет носить имени герцога Орлеанского вследствие ужаса, внушаемого тем, кто последний носил это имя».
Что касается аббата Сиэса, то она разделалась с ним коротко и ясно.
«Подписываюсь за повешение аббата Сиэса».
Но надо признаться, что и революционеры платили ей той же монетой. Вольней вернул золотую медаль, пожалованную ему когда-то императрицей. Сльвэн Марешаль в своем «Jugement derier des rois» изобразил самодержицу всероссийскую в грубой драке с папой, который бросает ей тиару прямо в лицо, после чего императрицу со всеми ее сподвижниками поглощает вулкан, открывшийся у ее ног. «Moniteur» тоже не всегда отзывался о ней любезно.
Однако, – и это характерно, – довольно долгое время Екатерина, хотя и осуждала строго революционное движение, но ничего не предпринимала непосредственно против него ни у себя в России, ни за границей. Она оставалась пассивной и словно не заинтересованной зрительницей событий, быстро сменявшихся одно за другим. Своим поведением она как будто хотела сказать, что эти события не касаются ее лично, и что, что бы там ни произошло, ей нечего бояться ни за себя, ни за свое государство. В сущности она искренно оставалась при этом убеждении до самой своей смерти. Но только ее политические комбинации или, вернее, импровизации стали впоследствии вразрез с этим внутренним убеждением и заставили ее выйти из бездействия. Время, когда это произошло, ясно показывает, какими соображениями при этом руководилась Екатерина: она только что окончила войну с Турцией и Швецией и хотела приступить теперь к захвату Польши, чтобы довершить это главное дело своего царствования. Французская революция могла послужить ей при этом одной из тех удобных «случайностей», которая вместе с «обстоятельствами» и «предположениями» составляли, по мнению Екатерины, всю сущность политики. В разговоре со своим секретарем Храповицким, происходившем 14 декабря 1791 г., она прозрачно указывает ему свои планы на будущее.
«– Я себе ломаю голову, чтобы подвинуть Венский и Берлинский дворы в дела французские, – сказала она.
– Они не очень деятельны.
– Нет, Прусский бы пошел, но останавливается Венский. Они меня не понимают. Разве я не права? Есть причины, которые назвать не можно. Я хочу подвинуть их в эти дела, чтобы себе развязать руки. У меня много предприятий не конченных, и надобно, чтобы они (Пруссия и Австрия) были заняты и мне не мешали».
И Екатерина неожиданно забила в Европе тревогу. До этого времени она удовольствовалась тем, что обнародовала в Париже через своего посла Симолина (в августе 1790 г.) указ, предписывавший всем ее подданным выехать из Франции, чтобы они не осмелились поступить, как молодой граф Александр Строганов, вошедший вместе со своим наставником в состав революционного клуба. Но ей не приходило в голову запрещать в России зажигательные брошюры, печатавшиеся на берегах Сены. Россия оставалась единственной страной в Европе, со свободным доступом для всех парижских газет. Один из номеров «Moniteur» был, впрочем, конфискован, так как в нем были помещены непристойные отзывы о великом князе Павле и других лицах, близких ко двору, и с этого дня Екатерина выразила желание сама просматривать каждый номер газеты, прежде, чем разрешать его к чтению. Вскоре ей пришлось прочесть оскорбления и по собственному адресу: ее называли «северной Мессалиной». «Это касается только меня одной», – заметила она гордо и пропустила этот номер. Она терпела в Петербурге присутствие родного брата Марата, который хотя и осуждал кровожадность этого последнего, но не скрывал собственных республиканских убеждений. Он служил воспитателем в доме графа Салтыкова и, вместе со своим учеником, часто являлся ко двору. Но в 1792 г. ему уже пришлось отказаться от имени Марата и назваться Будри. Все внезапно изменилось при дворе Екатерины. Началась кампания императрицы против революции; вначале Екатерина вела ее исключительно из политических видов, без всякого энтузиазма, но мало-помалу вошла в новую роль и стала играть ее искренно и страстно, вложив в нее все свои мысли и чувства и инстинкты. Она вступила в борьбу с революционным духом не только во Франции, у французов, но и у себя дома, у русских, чем проявляла, искренно говоря, пожалуй, слишком много усердия. Для Франции – она составила в 1792 году записку о способе восстановить французскую монархию. Екатерина не выказала в ней большой глубины суждений. Ей казалось, что было бы достаточно армии в десять тысяч человек, которая прошла бы страну из конца в конец и утвердила бы короля на престоле. Расход на эту армию не превышал бы 500.000 ливров, которые можно было бы занять у Генуи. А Франция, которой возвратили бы ее короля, возместила бы впоследствии эти деньги. Затем для французов, проникнутых революционным духом и находившихся в пределах ее государства, Екатерина изобрела знаменитый указ 3 февраля 1793 года, который, под угрозой немедленного изгнания, принуждал их принести особую присягу: текст этой присяги не сумел бы составить более коварно и инквизиторский суд. Екатерина приняла такие же крутые меры и против собственных подданных. Чтобы предостеречь их от заразы якобинства, она решилась прибегнуть к средству, которое так искренно презирала в первые годы царствования. Узнав, что на пост московского губернатора назначен Прозоровский, Потемкин написал своей августейшей подруге:
«Ваше величество выдвинули из вашего арсенала самую старую пушку, которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому что своей собственной не имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя вашего величества».
Согласно меткому выражению одного русского писателя, Прозоровский и его сподвижники по Москве и Петербургу как бы явились на свет Божий из заброшенных застенков Преображенского приказа, уже отошедших во тьму преданий. Процесс публициста Новикова, присужденного к пятнадцати годам крепости за распространение издания, в котором сама Екатерина сотрудничала когда-то, положил начало новому режиму, горько оправдавшему опасения Потемкина. Екатерина дошла до того, что стала преследовать даже французские моды; например, высокие, прикрывающие подбородок галстуки, хотя петербургские дэнди, с князем Борисом Голицыным во главе, упорно продолжали их носить.
Нам придется еще вернуться к этой эпохе царствования Екатерины. В настоящую минуту мы хотим только выяснить, какие новые идеи дал ей великий политический и общественный переворот конца восемнадцатого столетия. Эти идеи, надо признаться, были ничтожны. Сквозь Печальные ошибки и преступные увлечения Екатерина не сумела разглядеть то, что было благородного, высокого и великодушного в движении, которое она стремилась подавить изо всех сил. Но, может быть, всего этого и нельзя было понять одним умом: надо было иметь для этого известную возвышенность чувства, которой никогда не было у Екатерины. Стараясь победить вдали французскую революцию, она успела в то же время и у себя на границе задушить на берегах Вислы все, что оставалось от свобод соседнего народа: но, положим, она делала это из политических соображений, и потому воздержимся произносить над нею в этом случае свой приговор. Но зато, когда война с Польшей была уже закончена, она – женщина – не нашла в себе сердечного порыва, или – как великая государыня – достаточной проницательности ума, чтобы оценить доблесть умирающей республики, реабилитировавшую Польшу в глазах потомства, эту отчаянную борьбу побежденных и их героя, воплощавшего в своем образе всю бесполезность последнего сопротивления и трагизм человеческой судьбы. Когда, по приказанию Екатерины, его, как злоумышленника, привезли в Петербург, она не пожелала даже его видеть. А это был тот человек, которого Мишлэ назвал «последним рыцарем Запада и первым гражданином Восточной Европы», помощи которого искал сам Наполеон, бывший на вершине своей славы, но который, хотя и жил в то время в скромной швейцарской хижине, не поддался блеску Наполеонова имени и не изменил своим идеалам. Екатерина же ограничилась только тем, что выбранила его. «Костюшко (Kostiouchko называла она его по-французски, не научившись даже правильно писать его имя), привезенный сюда, был признан дураком в полном значении этого слова и стоящим несравненно ниже своей деятельности». «Мой бедный дурачок Костюшка» (sic), читаем мы в другом ее письме. Такими словами она выражала свое сочувствие герою, павшему в битве при Мацеиовицах, с разбитым сердцем и тяжелой раной, когда вместе с ним погибал, казалось, весь его свободный и благородный народ.
Говорят, что, достигнув власти, Павел I посетил бывшего диктатора в тюрьме и, склонившись над ним, просил у него прощения за мать. Если это только легенда, – то напрасно сын Екатерины не поступил так. Но во всяком случае он возвратил пленнику свободу. Екатерина же не подумала об этом.
Один немец, занимавший высокий пост в Вене, говорил однажды при нас, что, будучи космополитом, он любил равно все национальности, за исключением лишь одной – своей собственной; и делает это потому, что, при всех своих достоинствах, у немцев есть недостаток, навсегда отталкивающий от них: они не умеют быть великодушны.
В этом смысле и с этой точки зрения, – правоту которой мы не станем здесь оспаривать или защищать, – Екатерина оставалась немкой.
Книга вторая
«Государыня»
Глава первая
Искусство царствовать
I. Предприимчивая государыня и невозделанная страна. – Подведение баланса царствованию Екатерины. – «492 славных деяния!» – Доля счастья. – Другие условия успеха. – Выдержка и самообладание. – Власть Екатерины над людьми. – Отчаяние французского дипломата.
«Я люблю невозделанные страны, – писала Екатерина. – Я говорила это тысячу раз: я гожусь только для России». В этих словах сказалась ее удивительная проницательность, позволившая ей – хотя, может быть, и случайно – произвести над собой редкий фокус: оценить себя самое по заслугам. Принц Генрих Прусский, присланный братом на разведки в Петербург, имел возможность близко узнать здесь императрицу, и изучил ее с рвением немца, желающего проникнуть в самую глубь вещей; в разговоре с графом Сегюром он высказал раз об Екатерине такое суждение:
«Она окружена большим блеском; ее восхваляют; имя ее обессмертили еще при жизни; но в другом месте она, несомненно, блистала бы не так ярко; а в своей стране она умнее всех своих приближенных. На таком престоле величие достается дешевой ценой».
Екатерина отдавала себе ясный отчет и в другой – и, пожалуй, главной – причине своих успехов: в удивительном своем счастье. «Мне всегда все удается», – говаривала она не раз. Да и трудно было бы не заметить влияния на се жизнь этой таинственной и всемогущей силы, так неизменно приходившей ей на помощь. Сохранился, например, переписанный ею собственноручно доклад ее импровизированного адмирала Алексея Орлова, только что вступившего в командование русским флотом в Леванте. Орлов, не видевший прежде ни кораблей, ни моряков, достаточно научился все-таки за неделю морскому делу, чтобы понять, что суда, назначенные для победы над турками, «не годятся ни к черту». Матросы не умели или не хотели производить необходимых маневров, офицеры не умели или забывали командовать; корабли один за другим садились на мель или теряли снасти, «Увидя столь много дурных обстоятельств в оной службе… волосы дыбом поднялись, – писал Орлов. – Таковы-то наши суда; если б мы не с турками имели дело. всех бы легко передавили». И тем не менее эта эскадра одержала вместе со своим адмиралом Чесменскую победу, уничтожив один из лучших флотов, которые когда-либо имела Турция. А уже в 1781 году Екатерина могла послать Гримму такой итог своего царствования, составленный в очень странной форме ее новым секретарем и «правой рукой», Безбородко:
Губерний, учрежденных по новому положению – 29
Выстроенных городов – 44
Заключенных договоров и трактатов – 30
Одержанных побед – 78
Достопамятных указов о законах или новых учреждениях – 88
Указов об облегчении участи народа – 123
Итого: 492
Четыреста девяноста два славных деяния! Этот ошеломляющий подсчет, в котором так наивно сказалось то, что было романического, сумасбродного, немного ребячливого и очень женственного в своеобразном гении, тридцать четыре года управлявшем судьбами России и отчасти всей Европы, вероятно, заставит читателя улыбнуться. А между тем он действительно соответствовал тем великим делам, которые были совершены под непосредственным руководством императрицы.
Но неужели же всем этим она была обязана исключительно счастью? Конечно, нет! В своем суждении принц Генрих Прусский был, очевидно, слишком строг, и сама Екатерина слишком скромна, на что мы уже указывали, говоря о характере великой императрицы. Да разве при своем характере она взялась бы распоряжаться человеческими жизнями, вверенными ее попечению, рассчитывая только на случай или удачу? Она, кроме того, имела за собой, несомненно, большие достоинства, как государыня, и прежде всего – удивительную выдержку. 3 июля 1764 года посол Фридриха, граф Сольмс, писал своему королю:
«В народе я замечаю большое недовольство и брожение, императрица обнаруживает большую смелость и твердость, по крайней мере судя по внешности. Она выехала отсюда (из Лифляндии) вполне спокойной и самоуверенной, хотя за два дня до того в гвардии был мятеж».
При других обстоятельствах принц де-Линь отмечает также самообладание Екатерины:
«Только я один видел, что последнее объявление турецкой войны заставило ее в течение какой-нибудь четверти часа смиренно призадуматься над тем, что не все долговечно на свете, и что слава и успех бывают переменчивы. Но вслед за тем она вышла из своих покоев с таким же ясным лицом, как и до отправления курьера».
Импонируя этим самообладанием и друзьям и врагам, Екатерина зато и сама никогда не терялась ни перед кем и ни перед чем, и всегда владела собой в совершенстве. В 1788 году, когда со дня на день ожидалась война со Швецией, в русской армии, как и в администрации, но особенно в армии, замечался большой недостаток людей. Граф Ангальт, имевший за собой европейскую репутацию полководца, предложил Екатерине свои услуги. Она встретила его с распростертыми объятиями. Но когда граф потребовал чина генерал-аншефа и звание главнокомандующего, Екатерина наотрез отказала ему в этом. Удивленный немецкий кондотьери в негодовании заявил, что в таком случае он уезжает к себе домой сажать капусту. «Растите ее хорошенько», – спокойно ответила ему императрица.
Желая придать больше силы своему обаянию, Екатерина нередко прибегала и к чисто сценическим эффектам, в которых ясно чувствовались неестественность и поза. Представляя Екатерине верительные грамоты, граф Сегюр заметил «что-то театральное» в манерах императрицы; но нужно сказать, что это «что-то» привело его в такое смущение, что он совершенно позабыл приготовленную им заранее речь, которую должен был произнести по установленному этикету. Ему пришлось импровизировать другую.
Его же предшественник, по рассказу Екатерины, взволновался до того, что не был в силах сказать ничего, кроме начальных слов приветствия: «Король, государь мой…», которые повторил три раза кряду. После третьего раза Екатерина положила конец его пытке, сказав ему, что знает издавна добрые чувства его государя. Но с тех пор она смотрела на него, как на глупца, хотя он и пользовался в Париже репутацией умного человека. Екатерина была снисходительна только к слугам. Но она была отчасти вправе предъявлять такие большие требования к тем, кто обращался к ней с речью, потому что владела зато в совершенстве, по словам принца де-Линя, «искусством слушать». «Она так привыкла владеть собою, – рассказывает он: – что имела вид, что слушает внимательно собеседника даже тогда, когда думала о постороннем». Принц де-Линь оговаривается, впрочем, что у его императрицы, Марии-Терезии Австрийской, было еще больше «очарования и прелести». Зато у Екатерины было больше величия. Она сама сознавала это и ревниво оберегала свой престиж императрицы. Однажды, на официальном обеде, желая выразить неудовольствие послу иностранной державы, она сделала ему одну из тех резких сцен, которые так часто позволял себе впоследствии Наполеон по отношению к дипломатам. Но в то время, как она осыпала посла упреками и колкими насмешками, она услышала, что секретарь ее, Храповицкий, говорит вполголоса соседу: «Жаль, что матушка так расходилась». Екатерина сейчас же остановилась, переменила разговор и до конца обеда была весела и любезна; но, выйдя из-за стола, она прямо подошла к Храповицкому: «Ваше превосходительство, вы слишком дерзки, что осмеливаетесь давать мне советы, которых у вас не просят!…» Голос ее дрожал от гнева, и чашка кофе, которую она держала в руках, едва не упала на землю. Она поставила ее скорей на стол и отпустила несчастного секретаря. Храповицкий считал себя погибшим. Он вернулся домой, ожидая, по крайней мере, ссылки в Сибирь. Но его позвали опять к императрице. Она была еще в большем возбуждении и стала осыпать его упреками. Он упал перед ней на колени. «Вот, возьмите на память, – сказала тогда Екатерина, протягивая ему табакерку, усыпанную брильянтами. – Я женщина и притом пылкая: часто увлекаюсь; прошу вас, если заметите мою неосторожность, не выражайте явно своего неудовольствия и не высказывайте замечаний, но раскройте табакерку и понюхайте: я сейчас пойму и удержусь от того, что вам не нравится».
Такое самообладание соединяется обыкновенно с умением управлять не только своей волей, но и другими людьми. И действительно, власть Екатерины над окружающими была громадна: все черты ее характера, темперамента и ума были точно нарочно созданы для того, чтобы подчинять ей людей. Ее величественность, полная очарования, ее энергия, пылкость, юношески беззаветная веселость, доверчивость, смелость, красноречие, ее умение представлять другим вещи так, как они рисовались ей самой, то есть с самой привлекательной стороны; ее презрение к опасностям и препятствиям, зависевшее на добрую половину от того, что она никогда не сознавала их ясно, а отчасти и от действительной отваги, ее привычка грезить с открытыми глазами и жить, точно в галлюцинации, в грандиозном мире иллюзий, через который она взирала на реальный мир, – все это помогло ей управлять людьми, и добрыми, и злыми, и хитрыми, и простодушными, и вести их к намеченной ею цели, как всадник ведет коня: то лаская его, то пришпоривая, то ударяя кнутом, а усилием своей воли придавая ему и быстроту бега, и неутомимость. Как характерна в этом отношении переписка Екатерины с боевыми генералами первой турецкой войны, Голицыным и Румянцовым! Голицын был ничтожеством, а Румянцов знаменитым полководцем; но она как будто не замечала этой разницы между ними. Они оба должны были смело идти вперед; оба должны были – бить турок. Невозможно, чтобы это не удалось им. Турки, ведь, что это такое? Стадо, а не правильное войско. «На вас Европа смотрит», писала им Екатерина, точно Наполеон у подножия пирамид. Она благодарила Румянцова за присланный турецкий кинжал, но если бы он сумел захватить не кинжал, а двух «господарей», то было бы еще лучше, находила она: «Прошу, при случае, прислать самого визиря или, если Бог даст, и самого султанского величества». Но зато и со своей стороны она старалась, как могла, облегчить им победу. «Я турецкую империю подпаливаю с четырех углов», – писала она своему военному министру. Она предупреждала его при этом, чтобы он заготовил скорее все необходимое для кампании: «Барин, барин! мною мне пушек надобно…» Екатерина просила, чтобы он прислал ей также опытного мастера для литья пушек. «А хотя бы он и несколько дорог был, что же делать?» – прибавляла она, точно красавица, которая выписывает себе модные наряды от дорогого портного. «У меня армия на Кубани, – писала она дальше, – армия действующая против турок, армия против безмозглых поляков, со Швецией готова драться, да еще три суматохи in petto, коих показывать не смею. Пришли, если достать можешь, без огласки, морскую карту Средиземного моря и Архипелага, а впрочем молись Богу, все Бог исправит».
В сентябре 1771 года один из помощников Румянцова, генерал Эссен, неожиданно потерпел поражение при Журже. Но Екатерина и тут не упала духом! «Где вода была, опять вода будет», – писала она. И была права. «Бог много милует нас, – продолжала она в своем письме: – но иногда и наказует, дабы мы не возгордились». Надо только идти вперед, и дело будет поправлено. Румянцов, действительно, пошел вперед и переправился на правый берег Дуная. «Победа!» – сейчас же кричит Екатерина. Она скорей хватается за перо, чтобы послать эту добрую весть Вольтеру и распространить ее по всей Европе. Но увы! Желая угодить государыне, Румянцов взял на себя слишком много. Ему пришлось отступить и обратно перейти Дунай. Он просил у Екатерины прощения, ссылаясь на бедственное положение своих войск и на то, что среди приближенных императрицы у него есть враги, которые нарочно не высылают ему ни провианта, ни оружия. «…Сих ваших неприятелей, на коих вы жалуетесь, не знаю, и об них окромя от вас не слышала, – ответила ему Екатерина: – да и слышать мне об них было нельзя, ибо я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, ушенадувателей не имею, переносчиков не люблю и сплетней складчиков, кои людей вестьми, ими же часто выдуманными, приводят в несогласие, терпеть не могу… Людей же… я не привыкла инако судить, как по делам и усердию… Признать я должна с вами, что армия ваша не в великом числе… Сожалею весьма, что чрез сей ваш бывший многотрудный весьма за Дунай и обратный поход утомлены сие храбрые люди. (Злой намек Румянцову мимоходом.)… Но никогда из памяти моей исчезать не может надпись моего обелиска, по случаю победы при Кагуле на нем исчеканенная, что вы, имев не более 17.000 человек в строю, однако славно победили многочисленную толпу… Знав ваше искусство и испытав усердную ревность вашу, не сумневаюсь, что в каких бы вы ни нашлись затруднениях, с честию из оных выходить уметь будете…» Итак, вперед, вперед!