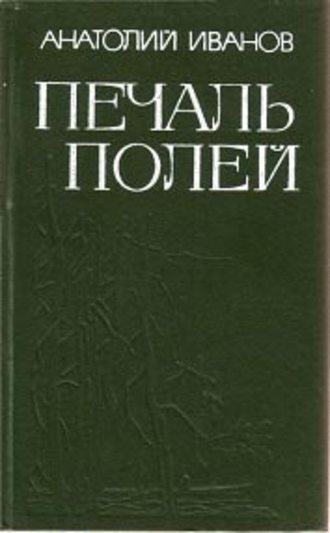
Анатолий Иванов
Печаль полей (Повести)
– Ну-к, дай сюда, – встрепенулась на этом месте Катя, вырвала письмо и стала дальше читать про себя: «…ну, я ему, Кать, все рассказал без утайки про Пилюгина, ты уж прости… Про то, значит, как Донька наша помирала. Он, конечно, начальник-то, не похвалил меня за Пилюгина, да и сдалося мне, не шибко и осерчал, только головой покачал, белая у него голова-то, как у дедушки Андрона, да сказал, что начальник мастерской меня хвалит, что если я так же хорошо и дальше буду работать, то осенью он меня в школу учиться определит, а то, говорит, что ж это такое, молодой парень, а окончил всего четыре группы…»
В конце письма Михаил просил об нем не изводиться, «в колонии, Кать, конечно, и шпаны всякой имеется, да я с ними не якшаюсь». И в заключение спрашивал, пришли ли письма от бати да от Степана Тихомилова, как они там воюют, просил передать им тоже его поклоны и объяснить, что он «не извергом вырос, а Пилюгина Артемия еще бы дважды без жалости убил, как фашиста…».
Катя читала, слезы капали на жесткий, грубый листок, промачивали его насквозь. Потом это промокшее письмо она спрятала на груди, будто хотела высушить теплом своего тела, и снова лежала на кровати, отвернувшись к стене, без движения до утра.
А утром, едва разбелилось, в доме опять появился дед Андрон, не опасаясь разбудить детей, сон их на рассвете каменный, громко затопал по полу мокрыми сапогами – с полночи, оказывается, ударил дождь, громыхал до самой зари гром, а Катя, лежа в тяжком полусне, ничего этого и не слышала. Но от топота Андроновых сапог, от его злой воркотни она очнулась, села на кровати, спустив ноги на пол, стала молча глядеть, как он щепал на растопку лучины от мокрого же полена.
Похудевшая и растрепанная, она повернула голову к светлому оконцу – там брызгал уже не сильный теперь дождик, теплый, парной, видневшаяся в окно седловина меж двух холмов была заполнена белым туманом. По этой седловине стекала к деревне каменистая дорога, по ней сейчас медленно текло вверх колхозное стадо. Коровы, телята, овечки и ягнята, удаляясь, таяли в этом белом молоке, растворялись бесследно.
– Ну, поднялась, слава те господи, – проворчал старик. – А то уж один пожар не сгаснет, а другой, гляди, займется.
– Что такое? Стряслось чего, что ли? – спросила Катя, не узнавая своего голоса.
– Вчерася Федотья Лидку костылем избила и в доме заперла. Сожгу, орет, тебя прямо в дому, что пастушить им взялась… Вчерась табун кузнец Петрован выгонял, седни Маруньку-счетоводиху я уж до обеда своим распоряжением нарядил, а после обеда, с конишками как управлюсь, сменю ее. В район ей за почтой надо. Ать, зараза, не горит…
Говоря это, старик крючком вертелся у печки, залез туда с бородой, в самый дым, валивший через закопченное чело в трубу, задохнулся, выдернул голову, стал откашливаться.
– Ребятишки-то чего, лоботрясы, хоть бы с вечера полешко на растопку припасли. Так ты слышь, что я тебе говорю-то? Дела-то в колхозе какие?
– Да слышу. Счас вот я… Разберусь там с Лидией.
– Ну-к, побежал я тогда на конюшню. А дождичек-то, Катерина! В самый угод, на тепленькое зерно! Нагляделся господь на людские страдания…
Ребятишки еще не проснулись, когда она пила чай с белым пшеничным хлебом – видно, кто-то, Марунька, а может, старуха деда Андрона или грузная тетка Василиха, которая вроде тоже появлялась за это время в дому, испек из той муки, что принес кузнец Макеев. Пила и думала спокойно, что вот теперь и все, совершилось в жизни то страшное и обыкновенное, что в ней всегда и происходит, очертился и замкнулся еще один круг из бесчисленного количества таких же, из которых жизнь и состоит, осталась она одна в этом круге с четырьмя малолетками, и никому они, кроме нее, не нужны теперь и не выживут без нее.
Думала так Катя, а какой-то краешек сознания тревожил ее – что это быстро так она пришла в спокойствие, ведь убили на войне отца ее и Степана… Навсегда они легли где-то в чужую землю. Будут над Романовкой и дожди идти, как сегодня вот, и туманы плавать, и вьюги мести, будут люди делать свою извечную работу, и все это теперь без них… Да как же это ей еще кусок в горло лезет?!
При этой мысли где-то под черепом возникла горячая волна, голова закружилась, но тотчас же все и прошло. «От голода, сколь дней ничего не ела», – равнодушно отметила Катя. И еще подумала, что ведь, в сущности, она давно обманывала себя надеждой, что придут вот-вот письма от отца и Степана, где-то внутри накапливалось и укреплялось совсем противоположное, вон тогда, как Михаила осудили, она ж ясно видела, что дед Андрон с кузнецом скрывают от нее чего-то страшное, да упрямо не хотела со всем этим считаться. И за это свое упрямство расплатилась таким вот потрясением, надежда ее разлетелась в прах, едва Дорофеев протянул ей два конверта. Но боль от сознания гибели отца и Степана была теперь будто давней, она незаметно для себя притерпелась к ней, хотя сейчас вот пришло не спокойствие даже, а просто какая-то пустота…
И еще Катя, дохлебывая морковный чай, ощущала себя в чем-то виноватой. Она отставила пустую чашку, прихмурила брови: в чем и перед кем?
Перед глазами, когда она лежала пластом, часто возникало болезненное лицо Дорофеева, она видела его руку, которой он протягивал ей зловещие конверты, слышала его ужасный голос: «Они пришли давно, да вот никто не знал, как тебе… сообщить». – «Проклятый, проклятый! – стонала она сквозь стиснутые зубы, отворачивалась к стене, старалась избавиться от ненавистного лица секретаря райкома, от его дергающихся век. – Вечно бы и держал эти конверты у себя…»
Сейчас она встала, прошла в угол, где стоял столик с выдвижным ящичком. Она припомнила вдруг: когда ее, бесчувственную от рыданий, привезли домой и уложили на кровать, сквозь рев ребятишек и тоскливые всхлипывания бабки Андронихи пробился голос Дорофеева: «Извещения эти возьмите кто нибудь, потом ей отдайте. Для назначения пенсии ребятишкам это важный документ», а голос кузнеца Макеева откликнулся: «А вон в ящичке стола и положь».
Конверты действительно лежали в ящичке. Катя прикоснулась к ним, как к горящим углям, взяла, глянула на штемпели и обомлела; похоронные пришли как раз в те дни, когда судили Мишуху. Да ведь если бы тогда и это еще горе на нее свалилось, вовсе бы ей не выжить! Значит, все правильно он, Дорофеев, сделал и рассчитал, и колхоз ей навязал с умыслом, горе горем, мол, у кого его мало сейчас, а вот тебе еще одна забота, людям-то жить надо как-то, вот и заботься давай об людях, а свое горе уж как нибудь на вторую очередь отодвинь…
Такие мысли, одна за другой, крутились в ее голове, и каждая приоткрывала ей что-то новое, какие то неизвестные ранее стороны жизни, заставляя видеть дальше и глубже. И вдруг, потрясенная, она, сжимая в кулаке злосчастные конверты, присела у окна: да ведь не она покуда заботится о людях – какие уж там особые ее дела за полтора-то месяца, лишь поколотилась маленько, чтоб хоть как-то пашню засеять, – а люди о ней! И Дорофеев этот, дед Андрон, тетка Василиха, кузнец, Марунька-счетоводиха, даже Лидия Пилюгина… Да как бы она без этих людей, никак же невозможно бы тогда перенести все свалившиеся на нее лиха!
Она сидела у окошка недвижимо. Ночной дождь совсем иссяк, с крыши скапывали крупные капли, теплый туман стал подниматься вверх, подошвы холмов, недавно затянутые белой мутью, очистились, пронзительно горели обмытой зеленью. И был туман пореже теперь, солнце хоть и не пробивалось еще на землю, но падавшие с крыши капли солнечные лучи уже улавливали, янтарно вспыхивали перед окном, и Катя знала, что, разбиваясь о землю, они обсыпали нижние венцы дома и пробившуюся из-под них травку белой, как мука, пылью. И то ли она уж до того исстрадалась, что внутри все выболело и онемело, то ли от этого славного ночного дождика, оплодотворившего пашни и луга, вечная тяжесть, давившая на плечи, куда-то исчезла, точно и ее смыл дождик. Не думала она уже ни об отце, ни о Степане, известия о гибели которых заключались в тех конвертах, что она по-прежнему держала в руке. В голове ее, тоже, впрочем, особенно не тревожа, возникло: Федотья, старая карга, чего вытворяет! Ишь ты, сожгу… Выкуси вот, Лидку теперь не дадим в обиду, самой облезлый хвост-то и прищемим. И хоть Катя не представляла, каким образом она утихомирит злобствующую старуху, оградит безответную Лидию от ее измывательств, она не сомневалась, что так все и будет, что жизнь теперь пойдет как-то по другому, легче, ибо самое тяжкое и страшное, что могло случиться, уже произошло…
Катя вздохнула, поднялась и шагнула к столу, чтобы прибрать чашку и хлеб, но не увидела перед собой ни стола, ни обшарпанного стула, на котором недавно сидела, ни печки. Все предметы качнулись, искривились, словно и печь, и стол со стульями были нарисованы на каком-то полотне и это полотно кто-то потянул в сторону и утянул совсем. Под черепом возникла такая же, как недавно, горячая волна, но теперь не исчезла, а тяжко и больно начала бить и бить в виски, в затылок. Она оперлась рукой о стену, но стена будто тоже качалась. «Сейчас упаду… И дом на меня рухнет!» – мелькнуло в сознании. Мелькнуло и исчезло, потому что она задохнулась от навалившейся резкой тошноты. Боясь, что ее вырвет и это увидят проснувшиеся, кажется, дети, она через силу шагнула в ту сторону, где была печь. Ощутив ладонями ее теплый бок, стала двигаться к дверям, где стоял под рукомойником тазик.
– Мам Кать? – будто издалека достиг ее ушей голос Захара. – Ты чего? Опять захворала?
Испуганно заверещала вроде Зойка или Николай, Катя уже не разобрала – ее рвало…
Какона оказались снова на кровати, Катя не помнила.
В себя она пришла оттого, что кто-то клал ей на лоб мокрую тряпку. Очнулась, и в больном мозгу сразу застучало: «Потому и месячных не было. Проклятущий Пилюгин… Задавиться теперь! Уйдут дети на улицу – и задавиться! Где-то веревка была…»
В мозгу все это больно стучало, и эти мысли вызывали новый прилив тошноты. И может, ее снова начало бы рвать, если бы не шестилетний Игнатий, который стоял у кровати, совал ей кружку с водой и упрашивал:
– Мам Катя, ну попей… Глотни водички-то, глотни.
Она взяла кружку, отпила. Вода была холодная, ей сразу стало легче. Она увидела, что тряпку ей на лоб клала Зойка. Николай и Захар тоже стояли рядом и похныкивали. Странно, отметила Катя, младшие, Зойка и Игнатий, как-то ей помогают, а старшие стоят беспомощно и плачут. А потом с тоскливым чувством подумала: «Старшие… На сколько они старше-то?!»
Она прикрыла глаза и полежала так, успокаиваясь. Тошнота стала проходить, а голова долго еще кружилась. Возле кровати все топтались детишки, время от времени всхлипывали. «Сердешные… сердешные вы мои», – думала Катя. Сквозь ее прикрытые ресницы выдавливались слезы, она, не открывая глаз, обтирала их пальцами.
* * *
Когда все прошло, Катя поднялась с кровати и сказала детям:
– Спасибо, мои хорошие. Это так меня вырвало… от похоронок этих. Поешьте там чего да ступайте на двор! А я счас вот приберусь маленько да на работу,
Когда дети убежали из дома, Катя опять долго смотрела в окно на улицу. Тумана и в помине не было, вершины холмов сияли под щедрым солнцем. Ночной дождь обновил и без того весеннюю землю, холмы стали еще праздничнее, старые, чисто вымытые крыши домов тоже будто помолодели.
Лишь в душе у Кати была разлита чернота, все там было перековеркано, переломано, раздавлено. «Как же теперь быть-то? Что делать? Скоро ведь и живот появится, заметно будет…» – думала она, и от этих мыслей дышать стало трудно. Она ударила ладонью в створки окна, распахнула их, жадно глотнула чистого и прохладного еще воздуха.
Где-то поблизости, за углом, слышались ребячьи голоса, и Катя, перегнувшись через подоконник, крикнула:
– Эй, кто там? Игнатий, Зойка?
Но из-за угла выбежали Николай с Захаром, тревожно засверкали глазенками:
– Че, Кать? Надо чего?
– Сбегайте… бабку Андрониху позовите.
Из-за угла, пока она это произносила, появились и остальные двое, все вчетвером кинулись через дорогу к дому Андрона. Катя подумала, что всем-то бы им не надо бежать, чего привлекать лишнее внимание, хотела даже крикнуть, чтоб трое вернулись, но не стала, потянула к себе створки окна, плотно закрыла их на ржавый шпингалет.
Когда старая и немощная Андрониха пришла, Катя, скрючившись, лежала на кровати, смотрела в сторону двери пустыми глазами.
Поздоровавшись, старуха окинула взглядом комнату, увидела валяющиеся на полу конверты с похоронками, подняла их, положила на столик в углу, потом пододвинула к кровати табуретку и, скрипя костями, опустилась на нее.
– Себя-то, Катерина, тож пожалела бы, – вздохнула слабой грудью старуха, – Что ж теперь… убивайся не убивайся.
Катя мотнула головой в одну, потом в другую сторону, перевернулась на живот, зарылась лицом в подушку и, прокусив до пера худенькую наволочку, глухо завыла.
– От, ты… господи ты боже! Ты слышь, Катерина… – Андрониха поднялась с табуретки, растерянно потопталась, опять села. – Ты, говорю, остудись, Катюшка. Ну, сложила их война проклятущая в землю-матушку, царство им небесное…
– В землю! – Катя оторвала от подушки мокрое, распухшее лицо. – И я хочу лечь туда же! Туда же…
– Чего мелешь-то?! – сердито вскрикнула Андрониха.
– Бабушка! Да у меня же скоро… пузо попрет!
И, уронив голову в подушку, опять зарыдала.
Последние Катины слова оглушили старуху. Некоторое время она сидела молча, только пошевеливала высохшими губами, а слов никаких не произносила.
Затем подняла вздрагивающую руку, перекрестила уткнувшуюся в подушку Катю.
– Бабушка, бабушка, – простонала та глухо. – Помоги мне!
– Да ить, сердешная… Как помочь-то?
– Как, как! – вздернулась Катя, села на кровати. – Откуда я знаю, как вы это делаете? Ну, дай выпить чего, чтоб кровью из меня все вышло. А то – выдави, выскреби…
– Окстись ты! Дура… – опять сердито выкрикнула старуха. – За это теперь тюрьмой жгут. Мне то все едино где помирать, да ведь и тебя посадят. А мало тебе всего?
Весенний день на улице набирал силу, солнце щедро лило в комнату через два небольших оконца тепло и свет, горячие желтые полосы согревали Катины ноги, спущенные с кровати.
Она еще раз негромко всхлипнула, углом одеяла обтерла остатки слез.
– Тайком же, бабушка, – попросила она жалко и униженно. – Никто ж и не узнает.
– Ага, иголка в сене, что ль, это? Федотья вон первая и донесет.
Еще помолчав, Катя тоскливо произнесла:
– Хоть бы еще Доньку за все это спасла… Что же теперь делать мне? Как быть-то?
– Единственно, ежелив добиться, чтобы в больнице все изделали.
– Как?
– Кому нельзя рожать-то… По здоровью редко разве бывает? Тем разрешают аборты по закону.
– По здоровью мне не выйдет.
– Ну, мало ли… ежлив тебе этого начальника попросить. Дорофеева-то.
– Не-ет, – качнула головой Катя. – С этим стыдом еще к нему… Нет.
– Ну тогда и гнись, покуль не упадешь, – жестоко вдруг сказала Андрониха.
– Бабушка, – с обидой и укором проговорила Катя. – Я думала… хоть ты меня поймешь. И пожалеешь.
– Так что понимать-то? Девка ты пакостливая, все в деревне про то знают. От жиру сбесилась, блудить с того и принялась, пузо и нагуляла с Артемкой. Поганей-то тебя в Романовке и нету. Ну, так за все это и казнись теперь…
Бабка Андрониха говорила это, блестевшие зрачки Кати сперва все расширялись и расширялись. А когда до нее дошло, что старая женщина в эти жестокие слова вкладывает совсем противоположный смысл, из глаз обильно брызнули благодарные, облегчающие душу и все тело слезы, она качнулась, упала с кровати на колени.
– Да за что, за что все это на меня свалилось?! Напасти такие! – воскликнула она, уткнулась лицом в сухие ноги бабки Андронихи, и та легкой, высохшей рукой стала гладить ее по голове, по худой шее, по выгнутой горбом спине…
… Потом Катя, обессиленная и притихшая, опять сидела на кровати, а старая Андрониха тихонько говорила:
– За что напасти эдакие на тебя? А вот я стану говорить, а ты выведи… Ты жизню-то покуда видишь, как в зеркале. Что вокруг случается, то в нем тебе и отражается. А что за другой-то стороной стеколки да что по бокам? Ты вот Федотью этакой злыдней знаешь, а каковая ж тогда в молодости она была? О-хо-хо, не приведи господь! Попила людской кровушки, до сего от нее и хмельная… И батьку ее, Ловыгина, не знаешь ты, и муженька ее Сасония Пилюгина… Имя ему в аккурат – тоже пососал с народу соков. От них, из ихней плоти, и Артемий был… Ну-к, к чему я это? Это, значит, у нас тут, в Романовке, одна такая линия была. А другая – это Тихомиловы да вы, Афанасьевы. Бабку да деда своего тоже ты не помнишь, до тебя их сгубили Пилюгины. А там, в гражданскую, Сасоний Пилюгин из оружия убил матерь Степана Тихомилова – Татьяну. А отец твой потом Сасония шашкой порубил… Всего-то и не расскажешь.
– Чего-то и я слыхала, – произнесла Катя. – Мало только, не любил отец рассказывать.
– Словом, да-авняя вражда меж вашей да ихней линией тут, на крови все замешано. Ну а жизня, что ж… это, сказать, как жернова. Растерла она, значит, многое. Были, да не стало ни Ловыгина, ни Сасония, ни Кузьмы Тихомилова с женой… Из рода тихомиловского Степка один оставался. Из афанасьевского – отец твой, стало быть, Данила. А из ихней-то линии – Артемий с Федотьей. У каждых детишки, понятно, пошли, как от корней отростки – время-то, как речка, бежало и бежало. Про Артемия Пилюгина с Федотьей долго не слыхано у нас было, где-то в северных снегах они жили. А перед войной, за год, что ли, али за полтора, они тут и объявились. Да это помнишь, однако, и ты?
– Да… Зимой они приехали. Я в десятом училась, – сказала Катя.
– Ага… Прямо как лисицы пугливенькие да бедненькие приехали, землю перед твоим отцом да перед Степкой Тихомиловым так хвостом и мели. А внутри-то прежнюю злобу и привезли. Таили ее, как горячий уголек под пеплом. И через год… Помнишь аль нет, как бабенка-то Степанова, Ксения, померла? Ну?
– Угорела она.
– Угорела, угорела, – дважды кивнула старуха с горькой усмешкой.
– А разве нет? Все так говорили. И видели…
– Так и я видела. Ксенька тем утром на кровати посинетая лежала, как кочерыжка, в избе угару, ровно воды в корыте, до верхов, печная труба наглухо закрытая… А кто закрыл?
– Да помнится ж, говорили – сама Ксения.
– Сама… – буркнула старуха несогласно.
Смерть жены Степана Тихомилова случилась в самом начале сорок первого. Сам Степан с бригадой колхозников находился в алтайской тайге на заготовке для артели древесины. Ксения вдруг занемогла – в морозный январский день она с тремя бабами возила к фермам сено, где-то ее прохватило, она слегла, а через сутки заметалась в беспамятстве. Дети ее ударились в плач. Захарку увела ночевать к себе в тот вечер Катя, а двух младших, Игнатия и Доньку, взялась понянчить Андрониха. А бойкая в те годы и проворная на руку Василиха принялась убираться у Тихомиловых по домашности, подоила корову, процедила молоко, истопила на ночь печь…
Утром, когда Ксению нашли мертвой, и пошел разговор – поторопилась-де Василиха трубу закрыть, тем и уморила жену Тихомилова. Василиха в рев – не закрывала трубу, загребла лишь прогоревшие кизяки к загнетке да побежала по своему дому управляться на ночь. Причин не верить ей не было, и люди порешили, что сама Ксения как-то очнулась и по извечной привычке деревенских баб сохранить на ночь как можно больше тепла добралась к печке и до конца прижала задвижку.
– Сама… – еще раз повторила Андрониха с горечью. – А я вот тем вечером глазищи Федотьины видела.
На измученном Катином лице проступило удивление. Андрониха шевельнула как-то враз всеми морщинами на дряблых щеках и продолжала:
– А так было… Понесла я Доньку-то домой с Игнашкой, да и бросила случаем на пилюгинский дом глаза. Он же рядом с тихомиловским. Темнялось уж, Пилюгины лампу вздули. Стеколки в окне-то наполовину замерзшие, а поверху, гляжу, Федотьино лицо пялится… Ну, ты можешь мне верить али нет, а только доселя у меня в глазах зрачки ее волчачьи так и стоят, взгляд тот.., Ну а теперь вот и выведи опять же, чего тут хитрого? Сидела она, как зверица в засаде, да и глядела, как мы детей разбирали Ксенькиных на ночь, как Василиха в дровяник бегала, кизяки носила в дом, как дым с трубы шел. Все в окошко видно. И дождалася, когда Василиха закончила убираться у Ксеньки да к себе побежала… Уже ночь была, чего стоило Федотье тенью скользнуть через дорогу, юркнуть в дом тихомиловский, задвижку печную прижать да обратно. На миг всего и делов… А не могло так быть?
– Могло, – согласилась Катя.
– И батька твой тогда сказал, что могло. И Степан. Да кабы, грят, кто хоть видел бы, что Федотья тем вечером в дом ихний бегала… А так, может, и сделала она дело, да правду собака съела.
Катя встала с кровати, прошла по кухне, села за пустой стол. В окна все так же щедро лился солнечный свет, под облезлыми наличниками окон кричали ошалело воробьи. Каждый год воробьи выводили за наличниками свое потомство. Сперва с утра до вечера звонили сами, затем круглый световой день пищали их ненасытные птенцы. Но уже в июне птичий гомон становился все тише и реже, потом прекращался вовсе – это значит, птенцы были выкормлены, выращены и покинули навсегда родные гнезда. Перед домом и в самом деле тогда становилось как-то пустынно и грустно, а через день-другой Кате обычно казалось, будто никогда за окнами и не гремел воробьиный перезвон, никогда не происходило там одно из бесконечных таинств зарождения и торжества живого. Так вот все произойдет и нынче, с тоской думала она.
– Убей меня али язык за то вырви – Федотья-злодейка Ксеньку сгубила. Так оно все было, на ней на первой злобу свою выместила… Ну а после все так обернулось, что ты тут из Афанасьевых-то самая большая осталась, – вернул Катю в жестокую и беспощадную реальность голос бабки Андронихи. – Большая, да беспомощная, что цыпушка. Он, Артемий Пилюгин, и начал терзать тебя, как коршун… Кровь-то их ничего не прощает. А ты говоришь – откудова напасти.
Катя сидела, опустив голову, на ее тонкой шее дергалась синенькая жилка, причиняла неимоверную боль, которая пронизывала всю ее фигуру.
– Ну и дотерзался, – вздохнула Андрониха, будто пожалела Пилюгина, бывшего председателя, и тоже тяжело поднялась.
– Он дотерзался, – быстро повернулась к ней Катя. – А мне-то теперь каково!
– Да уж чего говорить, – кивнула старуха. – Пока живет человек – к богу-то за тучу ему не заскочить и в землю с головой не зарыться.
– А я ж тебе и говорю – задавлюсь от позора…
И Катя умолкла, как задохнулась.
Бабка Андрониха усмехнулась старым своим провалившимся ртом.
– Вот Артемий-то на том свете обрадуется. А Федотья на этом. – Старуха шагнула к Кате, больно вцепилась ей в худенькие плечи, сердито зашипела в самое ухо: – Рехнулась совсем, девка?! Ишь какая скорая! А на тебе вон дети, вся деревня… Это ты в расчет-то взяла? И подумала бы дурной-то башкой – молоденькая еще какая! Да и красивая, коли на то пошло. Жизнь-то еще тебе не открывалась.
– И не откроется теперь.
– Ну-у! – не согласилась старуха. – А позор – какой тебе позор? Люди, они что, без ума, что ли?
Катя сидела недвижимо, положив оголенные до локтей руки на стол.
– В жизни оно, конечно, не просто, Катюшка. Тут, говорится, с ног только свались, так уж тычков не оберешься. А ты не сваливайся!
Конверты с похоронками, как их Андрониха, подняв с пола, положила на стол, так там и лежали. Катя осторожно дотронулась до них пальцами, но брать в руки не стала.
– Господи, да как хорошо, что Степана-то убили! – глухо и мучительно выдавила она сквозь зубы.
Андрониха качнула седой и легонькой головой в платочке не то протестующе, не то согласно. И вдруг полюбопытствовала:
– Живет слух в деревне, будто там чего-то промеж вас было со Степаном… как он овдовел-то?
Катя медленно повернула к ней голову, глаза ее строго и холодно блестели от сдерживаемых слез. И она, почти не шевеля губами, отчетливо проговорила:
– Что было? Ничего промеж нас не было.
* * *
А было или не было что-то меж ней и Степаном Тихомиловым, Катя теперь и сама не знала. Все прошлое было словно не с ней и не здесь, а с кем-то другим и где-то далеко за холмами, за дальними далями, задернутыми сплошной пеленой дымного тумана.
Но были в этой пелене будто реденькие участки, сквозь которые иногда открывались-виделись Кате отдельные кусочки далекой прошлой жизни, в которой, оказывается, принимала участие и она.
Помнила Катя, как женился Степан.
Будущую жену он привез в Романовку по осени, когда отмолотились уже и когда стояло то самое бабье лето, которого ждут не только бабы, но и мужики, чтобы доделать к зиме оставшиеся дела – подправить вокруг домов оградки, зачинить прохудившиеся повети, вывезти с лугов сено для скотины, наколоть, сложить в поленницы березовые дрова, укрыть от близкого снега все, что следовало укрывать.
– Эта ж тая танцорка! – ахнули в деревне бабы-ягодницы. – Которая в холмах тогда перед Степкой плясала.
– Она самая, – подтвердил Степан. – Ксенией звать. Прошу любить да жаловать.
Ксения, рослая, стройная, нисколько не смущалась всеобщего внимания, впервые прошла по улице Романовки, как проплыла, одаривая всех счастьем, лившимся из ее темно-синих, доверчиво распахнутых глаз.
– Не идет, а метет! – восхищенно сказал ей вслед дед Андрон, когда Степан подводил Ксению к крыльцу своего дома, и улыбающиеся бабы согласно закивали головами.
И во время свадьбы Ксения подтвердила, что умеет плясать, переплясала она и председателя колхоза Данилу Афанасьева, и не хромого тогда шестнадцатилетнего Макеева Петруху, и шуструю молодую бабенку Марию с ее мужем – всех.
– Эт – поворо-от! – вытирая взмокшее лицо, воскликнул Макеев и, будто не зная, откуда родом Ксения, спросил у Степана: – Где взял такую?! Где взял?
– А под кустом, – посмеивался Степан. – Иду мимо – она лежит. Ну я и поднял.
Было это в тридцать четвертом. Катя по малолетству – тринадцать только исполнилось, с марта пошел четырнадцатый – за столом не сидела, но с радостью помогала во всех свадебных хлопотах, гусей щипала для варки, лапшу раскатывала, на стол подавала. На другой день после свадьбы Ксения обняла ее и сказала:
– Славная ты, Катенька. Возьми вот… на память О моем счастье.
И дала ей простенькие стеклянные бусы.
Она звала ее тетей Ксенией до конца, до самой ее такой нелепой и непонятной кончины.
И Степана звала – дядя Степан, потому что он был старше ее на целых десять лет.
Ну дядя Степан и дядя Степан, а сама между тем подрастала, и, когда было ей уже без месяца или двух девятнадцать, случилось Степану Тихомилову подвезти ее из райцентра в Романовку. Катя училась в десятом, и в первый же день зимних каникул объявился перед ней Степан, поблескивая веселыми глазами, спросил:
– Ну что, Катерина, домой-то хочешь?
– Ой! – воскликнула она. – Да неужели ж…
– Я в потребкооперацию приезжал. Заодно батька твой и тебя велел привезти. Собирайся.
В тот день хоть и низко, но весело стояло над землей солнце, ночью был хороший морозец, до рассвета сыпалась с неба легкая кухта, а теперь белые снега щедро переливались синими, розовыми, желтыми искрами.
Лошадь бежала резво, сани оставляли на присыпанной той же кухтой дороге две гладкие полоски, которые казались мокрыми и уже не вспыхивали, а беспрерывно переливались разноцветными лентами. И еще казалось, если безотрывно глядеть на эти полоски, будто розвальни вовсе и не двигаются, а две эти огненные струйки вытекают из-под саней и стремительно убегают прочь, извиваясь вдоль дороги.
На эти две полоски от саней да на заснеженные, искрящиеся под солнцем холмы Катя и глядела всю дорогу, а на Степана боялась, чувствовала она себя неведомо отчего скованно и всю дорогу молчала. Только раз спросила:
– Как там отец-то с ребятишками?
– Справляется, – ответил Степан, – За Зойкой бабка Андрониха ходит. А другие-то что ж, большие уж.
Отвечая так, Степан тоже чувствовал вроде неловкость какую-то, Катя это улавливала и еще больше смущалась,
Так и ехали молчком.
Лишь у самой Романовки, как спускаться с холмов, Катя, привстав в розвальнях, воскликнула, показывая рукой в сторону:
– Дядя Степан!
Метрах в сорока от дороги мышковала лисица. Она то крутилась на одном месте, то делала скачки в сторону, то яростно разгребала лапами снег, распушив трубой хвост. Увлеченная охотой, людей она не замечала.
Степан равнодушно глянул на лисицу и усмехнулся:
– Дядя…
Это окончательно смутило Катю.
– А как же… мне тебя называть?
– Не знаю, – улыбнулся Степан.
… Помнила Катя, как приехали в Романовку и Пилюгины. То есть не само их прибытие, а первую встречу с Федотьей и Артемием, случившуюся на второй или третий день после ее приезда на последние школьные каникулы. Еще когда они со Степаном Тихомиловым спускались с холмов в Романовку, тот сказал ей: «А у нас новые жители объявились». – «Кто ж такие?» – спросила Катя, все еще раздумывая, как ей теперь называть Степана. «А этот последний кулацкий выродок Пилюгин Артемий. Со своей матерью, со всем своим семейством прибыл. Я отговаривал твоего отца пускать их сюда, а он – не за утенка, дескать, мы дрались с ними…»
Кто такие Пилюгины, Катя знала, но при чем тут утенок, не поняла, а переспросить не решилась. А через день или два и повстречалась с приезжими. Она пошла поутру за водой на речку, по переулку, ведущему к проруби, навстречу ковыляла ей незнакомая сгорбленная старуха с костылем, потом остановилась и стала ждать ее.
– Чего вам? – спросила Катя, догадываясь, кто перед ней. Переулок был заснеженный, едва-едва двоим разойтись, но, чтобы это сделать, кто-то должен был посторониться.
– Это ты, что ли, Катюха-то Афанасьева? – спросила старуха ласково и дружелюбно.
– Ну я. – Катя сняла с плеч коромысло, в другую руку взяла оба ведра – так удобнее было обойти старуху. Но в это время из калитки ближней усадьбы вышел человек в полушубке и мохнатой, из какого-то нездешнего меха, шапке и еще издали спросил:
– С кем это ты, мать?
Старуха не ответила, все стояла и разглядывала Катю маленькими, усохшими глазами, голос ее был ласковый, а вот в глазах горели холодные, колючие искорки, неприятно покалывали. А когда человек в мохнатой шапке подошел, Катя увидела, что это молодой, примерно ровесник Степана, мужик, глаза у него, как у матери, маленькие и острые, но в отличие от старухи угодливые, плечи узкие и покатые, а нос крупный, скулы угловатые, тяжелые.
– Видел, Артемушка, каковая старшая дочь-то Данилки? – проговорила старуха тем же голосом. – Эка вымахала, в красавицу. Погляди, погляди…







