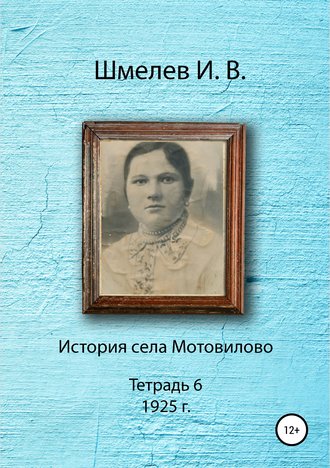
Иван Васильевич Шмелев
История села Мотовилово. Тетрадь 6 (1925 г.)
Митька. Женитьба. Дурачество
Надоело Митьке Кочеврягину в холостяках шататься, надоело и его матери выслушивать жалобы на него, а Митька славится в себе как ехидный озорник и вредный проказник. Не даром в селе говорят про него: он такой ненавистник, не приведи бог! Видимо, он родился таким, что зависть гложет его душу, а злонамеренное озорство сверлит его мозги и не дает ему спокою! И он, как кот Васька, всем поднасолил. Поехал как-то раз Митька на станцию. Выехав из села, видит он, в огороде у Николая Ершова стоит лошадь, запряжённая в плуг. Сам хозяин утречком, попахав огород, вздумал позавтракать, а лошадь оставил в огороде. Митька, не стерпев, чтоб не созоровать, живо спрыгнув с телеги, коршуном перескочил через забор огорода. Митька одним мгновением выпряг николаеву лошадь из постромок, продел постромки через отверстия забора, вывел лошадь позадь забора и снова впряг в постромки. Он сел на свою телегу и умчался. Получилось невероятное: лошадь за забором, а плуг в борозде в огороде. Позавтракав, Николай снова вышел на огород. Остолбенев от изумления и прошептав про себя «Свят-свят…», он медленно подошёл к лошади. Размышляя головой, он недоумевал, как это могла лошадь пролезть сквозь плетня и стоит себе, как ни в чем не было. Видимо, Николаю подумалось, что лошадь, чуя запах зелёной травы, росшей за плетнём, перескочила через него, да так тут и застряла. Озлобившись, он принялся ругать ни в чем не повинную лошадь.
– Да как это тебя угораздило сквозь плетня-то пролезть! – ворчал он на молча стоявшую лошадь. – Не успел отойти и съесть всего-навсего пару пирогов, а она уж не могла устоять смирно на одном месте и дождаться хозяина! Вот в другой раз и понадейся на свою скотинушку! – гневно упрекал он своего мерина Голиафа. Николай, раскипятившись и не на шутку разгневавшись, яростно обругал лошадь непристойными словами, а в завершение ругани он с силой поддал носком лаптя ей под брюхо. Голиаф не стерпел такого издевательства. Он с испугу бросился в сторону, сорвал с места плетень, трусцой помчался на улицу. Люди, увидели такую спектаклю: бежит по улице лошадь, за ней везется плетень, поднимая облако придорожной пыли, а плуг чертит неглубокую бороздку. Некоторые мужики сочувственно старались остановить лошадь, а некоторые, смеясь, хохотали, от надрывного смеха поддерживая руками животы. Растерявшийся от стыда Николай бежал за лошадью следом. Он до хрипоты накричался:
– Стой! Стой! Тпру-у-у!
На повороте улицы лошадь поймали, передали в руки хозяина. Он, краснея весь от пяток до волос от стыда, прогромыхал с плетнём до своего дома.
– Николай! Это ты зачем дорогу-то боронишь?! – шутейно, но с явной подковыркой спросил его случайно повстречавшийся Никита. От кипевшей во всем теле злобы и красный от стыда, как рак, Николай не ответил. Он только яростно ударил по боку лошадь вожжей и впритруску побежал сбочь пылившего плетня. Высвобождая постромки из плетня, Николаю пришлось лошадь перепрягать. Во время перепряжки Николай всячески чертыхался, наделяя лошадь руганью и укорами, а Голиаф, повинуясь, молча стерпливал нервные дёрганья за постромки и вожжи хозяином, впустую жевал губами, незаслуженно-обиженно, тяжело вздыхал.
Позапрошлый год косили мужики траву у колодезя, и Митька был там, тоже свой пай травы косил. Нагляделся Митка, как Терентий захватисто и податливо косит, и коса у него, словно сама, без всякого усилия траву, как бритвой, подрезает, позавидовалось Митьке, задумал навредить. В обед расселись мужики на лугу, увлеклись разговорами, а Терентий невдогад приставил косу к стене колодезя. Пошёл Митька к колодезю, чтоб напиться, озираясь по сторонам, метнул глазами, как бы кто не заметил, вынув из кармана медный пятак, злонамеренно провёл им по лезвию терентьевой косы, и косу как подменили. Коса перестала чисто косить. За Терентием появились непрокосы, но причину этому он узнал только после.
А в прошлом году во время косьбы овса ехал Митька в поле по дороге, увидал Ивана Трынкова, косившего со своей Прасковьей на загоне овес около Рыбакова. Иван предусмотрительно телегу свою поставил в кустах под крутым бережком и лошадь привязал к телеге, дав ей свежей зеленой травы. Не стерпелось Митьке, раскрыл Трынков кошель с провиантом, посадил туда специально для озорства с поганеньким намерением захваченного из дома котёнка, а сам как ни в чем не бывало прямо по нескошенному овсу трынкова загона погнал на лошади, запряжённой в телегу, чтоб из почтения старшего поприветствовать добродушного незлобливого Ивана.
– Бог-помочь, дядя Иван! – с ехидной ухмылкой и с усмешкой крикнул Митька Ивану и, хлыстнув лошадь, Митька снова поехал по загону, подминая телегой обсаривавшийся спелый овес.
– Бог спасет! – добродушно ответил Иван удаляющемуся Митьке. А когда Иван с Прасковьей уселись под кустом ясеня обедать и открыли кошель, оттуда испуганно выскочил котёнок и с мяуканьем скрылся в кустах. Иван не вспыхнул негодованием, а только наивно проговорил: «Это не иначе дело рук Митьки. Вот голова, охальник какой!»
То ли не сварливая баба Устинья Демьянова, Митька и ей досадил. Будучи еще парнишкой в одно лето подпаском, Митька в стаде перешиб кнутом устиньиному козлёнку ногу. Вместе с пастухом они этого козлёнка прикололи, зажарили на костре и съели, а потом разыскивающей козлёнка Устинье сказали, что они его из стада в тот день пригоняли. Но дотошная Устинья какими-то способами все же все разузнала. «Засужу! В остроге сгною!» – крича во всю улицу, угрожала она. И с тех пор между ними завязалась непримиримая вражда. В неполадках Митька и со своим соседом Семионом. Во-первых, он с дьявольской пронырливостью подглядел сквозь забор, отделяющий его двор от Семионова двора, как шабренка Марфа подкладывала яйца под наседку. Марфа для этого случая вырядилась в Семионовы худые штаны, напялила на себя его заплатанную рубаху, а на голову нахлобучила его рваный малахай с распущенными ушами. Такой обрядой своей она символизировала, чтобы цыплята-молодки клушкой вывелись, которая мохноногая, которая разноперая, которая с хохолком, а петушки бы вывелись с высоким гребешком и чтоб в драках, когда вырастут, не робели шабровым петухам и, не поддаваясь им, забивали бы их. Марфа с заклятием и ворожбой так вот и подкладывала под наседку яйца, причём это было в четверг, потому что из яиц, подложенных в среду или в пятницу, получаются болтуны. Вот тут-то и подглядел супостат Митька и вечером же того дня разнёс по селу о Марфиных заворожках. Он вехнул об этом парням и девкам, сидевшим на бревнах. Смеху было не есть конца-краю!
В прошлом году с вредительским озорством продырявил Митька Семионову лодку, с которой он рыбку полавливал, заставляя на озере «морды». Позатонула лодка. Хватился ее Семион, но обнаружить долго не мог. Через неделю всплыла его лодка позадь тростников. Заделал Семион дыры, законопатил куделей щели, и снова лодка в ходу, а кто напрокудил, Семион безошибочно узнал.
Проходила весной сельская добровольная пожарная дружина по селу, проверяла противопожарные средства сельчан, одновременно проверяла состояние дымоходных печных труб. Посмотрели на Семионову трубу, поахали, обеспокоенно определили: труба ветхая, полуразвалившаяся, кругом вся в щелях, а вокруг ее солома крыши, к топке печи непригодна, ведь недолго до греха. Примется от искры солома, возникнет пожар, изба Семионова сгорит, и шабрам не устоять, а там с горя охай, вздыхай. Ни слова не говоря, Митька приволок длинную жердь, ее концом упер в трубу, подскочили парни и мигом трубу столкнули. Посыпались с крыши кирпичи, полетела встревоженная гнилая солома. Марфа, увидев это, взревела коровой, запричитала, сморкаясь в свой грязный запон.
В пришлом году тоже дело было: убил Митька на своем огороде зашедшего туда чьего-то гуся, и чтоб свалить это на Семиона, перебросил гуся через забор на семионов огород. Вышел Семион в огород, чтоб огурцов на обед нарвать, обнаружив убитого гуся, он, недолго думая, перебросил его в огород Митьки, зная, что убил гуся именно он. Митька, выйдя в огород, заметил, чтогусь-то оказался снова на его огороде. Он схватил его и снова махить его через забор к Семиону в огород. Долго бы перебрасывался невинно убитый гусь с огорода в огород, но подглядывающий через щель со своего двора Семион, не выдержав, вышел из засады и, обличая, стал пристыжать Митьку.
– Ты что же, охальник, делаешь! Сам убил гуся, а ко мне в огород его бросаешь?
Митьку это взорвало, он наклонился, сорвал с грядки переспелый огурец и запустил им в Семиона. Огурец угодил Семиону в голову, от удара разлетелся вдребезги, скользкие семечки застряли в косматой голове, а жидкость протекла в бороду.
С досады Семион рванулся к забору, ухватившись за него и яростно тряся его, он готов был ринуться на Митьку, а тот, не проробев, тоже схватился за этот же забор. В обоюдной ругани они обличали друг друга непристойными словами, готовые сцепиться в драке. И подрались бы, но их разделял и не допускал до обоюдной драки забор, яростно потрясаемый с той и с другой стороны. Спугнутая с гнезда горихвостка, выпорхнув из крапивы, с тревожным тювиканьем улетела на соседний огород.
Во время Митькиной женитьбы, Семиона как шабра позвали на свадьбу, и он, не попомнив обиды, от приглашения не отказался:
– Ведь у меня, кроме шабров, родни – лапти одни! – отшутился он.
А на свадьбе, изрядно подвыпив, Семион развеселился, от вина он расшевелился, словно оборотень в овине. Он пел свои любимые песни «Семь лет Чумак по Крыму ходил…» и «Самогоном, гоном, гоном, опиваются, под забором, бором, бором все валяются». Пел про бедняка: «Ни тебя ль в пиру обносят чашкою с вином…» и заплакал. На это ему кто-то заметив, сказал:
– Что ты смотришь какой-то Фефёлой, знать, немало ты горя видал, коли плачешь от песни весёлой!
Он пел со всей прилежностью и азартом, а под конец свадьбы спевался: его голос стал хриплым, само пение не вязалось, все заканчивалось каким-то присвистом в носу. Стараясь в пении помогать голосу, он в воздухе неуклюже размахивал клешнястыми руками, но это ничего не давало, а только усиливало пренеприятнейшее журчание у него в животе, словно в брюхе у него взад-вперед разъезжала лихая тройка по мосту. В завершение всего этого вокруг него время от времени появлялся обличающий его в невежестве скверный запах, словно вблизи его проехал обоз дермочистов.
Этот же Митька со своей ватагой, товарищами, отволтузил за волосы будущего тестя, Осипа. Любил Осип по вечерам смотреть на улицу, высунув свою лохматую голову из окошка. Бытует у парней озорников издевательская привычка, вечерком тайно подкравшись к смотревшему из окна, оттаскать за волосы. Так они поступили однажды и с Забродиной Фектиньей. С любопытством выглянула она из окошка, чтобы поинтересоваться, чей парень с чьей девкой в обнимку идет, как тут внезапно чьи-то руки схватили ее за косы и дали трепака.
– Я уж получила! – с жалобой в голосе обратилась она к мужу, лежавшему на печи. Не понялось Якову. Не больше как через неделю высунулся он по обычаю во время курения из окошка по самые плечи, как из-под земли выросшие, подскочили два парня, вцепились в черные, как смоль, Яковы волосы, и давай трепать его изо всей силы.
– Так, так его! – самонаказующе приговаривал Яков, – чтобы зря-то не высовывался, и о злосчастном уроке бабы помнил.
– Только, робяты, раму пожалейте, стекло не разбейте! – чуя, что рама в окне вот-вот с треньканьем вывалится.
А все равно этот случай не пошёл Якову впрок. Вскоре забыл он об этой трёпке, по все летам, как ни погляди, торчит косматая, черная, как деготь, голова Якова из окна. Любит он из окошка наблюдать природу, посматривать на людей и попыхивать сизым дымком, куря табаком-самосадом. Окурки он обычно бросал на тропинку около завалин, так что их накапливалось большая куча – в лукошко не покласть.
Много озорных проделок творил Митька над людьми, но за то и ему попадало. Возмезжая, не раз ему кулаками выделывали кожу на его боках и на спине, и зубы у него не успевали вырастать. Митька также способен и на разную пакость. Раз привалился Митька у всех на глазах к забору, приняв неестественную позу, опорожнил свою верзильскую утробу.
– Вишь, как гоже, у всех на виду Митька портит! – заметил Иван Федоров, переговариваясь с соседом Василием.
– Уж гаже этого нет! – отозвался Василий, – и не стыдно ему!
А Митька, видимо, услышав замечания мужиков, сконфуженно отвернулся, совестливо краснея от стыда, с полувысунутым языком судорожно, торопливо, пальцами начал перебирать, застёгивая пуговицы штанов, словно играя по ладам гармони.
В разговоре с людьми Митька никогда не смотрит в глаза собеседника, его взор блуждающе бегает при этом с предмета на предмет, делая вид, что он занят этими предметами больше, чем собеседником, или упрет свой блуждающий взор в землю.
Вышел Митька на улицу, засмотрелся, как воробьи, купаясь в луже, встряхивались, трепыхая крылышками, создавали душ, блаженно чирикали. Залюбовался Митька и тем, как воодушевлённые весной, петухи то и дело гоняются за курами. Он особенно увлёкся тем, как один петух заботливо и возбуждённо обхаживал курицу. Шебурша ногой о распущенное крыло, он, восторженно гогоча, любовно крутился вокруг курицы. В сознании Митьки весна тоже пробудила любовные чувства, склонявшие его к любезности к девкам. Еще в прошлом году летом, везя воз навоза в поле, Митька из любезных побуждений бросил в Батманову Маньку шматком навоза. В ответ она незлобливо обругала его «рыжим чертом», дружелюбно приговаривая:
– Митька вылупил глаза, как у нашего кота!
Вечером в этот весенний день, прогуливаясь по улицам села и посещая артели сидящих на бревнах девок, вместе с товарищами Мишкой Ковшовым и Панькой Зиновым, Митька предложил:
– Робя! Давайте сегодня у девок титьки пощупаем!
– Давайте! – с предчувственным наслаждением, взахлеб, согласились те. И они все трое с диким азартом вприпрыжку подскочили к девичьей артели, голосисто и мирно поющим песни. Изловив, схватив и облапив первую попавшую в руки девку, Батманову Маньку, подобно волку, схватившему первую попавшую под лапу овцу, они тут же распластали ее на бревнах. Девки-подруги с визгом шарахнулись в стороны, испуганно сгуртовались овечьим табунком поодаль, с стыдливостью и любопытством стали наблюдать за происходившим. А парни, дико гмыкая и гогоча от удовольствия, с нахальным и животным наслаждением принялись «за дело».
– Девоньки! Спасите! – призывно упрашивала Манька подруг.
– А ты вертыхайся, не давайся! – поучая, выкрикивали подруги, не делая даже попыток, чтоб оказать подруге помощь.
Мишка Ковшов своими клещеватыми руками цепко ухватился за нежные девичьи руки, Митька усмиряющее придавил к бревнам брыкающееся манькины ноги, а Мишка под общее слюнявое хихиканье, полез своими клещатыми руками к девичьей груди, стараясь расстегнуть кнопки кофты. Она буйно сопротивлялась, ее трепещущее тело извивалось, словно уж под вилами, но от троих верзил не вырваться, а кричать о помощи на всю улицу бесполезно: никто не придёт на помощь, таковы не писаные традиции деревенской действительности. Наконец, кнопки кофты с тупым звуком расстегнулись, из прорехи нательной рубашки наружу выскользнули белые, словно из пшеничного теста, сделанные с розовыми сосками-пуговичками, упругие девичьи груди. Торжества, дикого, с захлебыванием хихиканья и гоготания парней как «победителей» не было предела. Стоявшие поодаль девки стыдливо отвернулись от этой неприличной сцены, они только вполголоса, негодующе осуждая, обругивали истязателей. Парни же, наглядевшись досыта, с кошачьей ухмылкой и по-лошадиному гогоча, Маньку выпустили из рук. Она, вырвавшись, торопко поспешила к подругам, на ходу застёгивая кнопки кофты, отряхиваясь и ощипываясь, словно птичка, вырвавшаяся из цапких когтей кошки. Стоявших в стороне парней, у которых еще не погас азарт удовольствия и еще прыскающих от наслаждения, Манька начала укоризненно ругать и всячески обзывать:
– Дураки! Коблы! Коновалы! Вы ведь кого хошь повалите! Вам бы давно жениться надо, а вы тут нахальничаете! Жеребцы некладеные! – едва не плача от обиды, выкрикивала она им.
У парней тут же явился ответ:
– А мы скоро и женимся, вот и подбираем себе невест с большими титьками. Ты, Маньк, в невесты к нам годишься, у тебя хорошие и большие они, – с явным удовольствием проговорил Митька.
– Эт мы проверяем, не поддельные ли, как некоторые безтитишные девки делают, вместо грудей ватки туда набивают, – высказался Мишка.
– А то в случае, кто с маленькими грудями замуж выйдет, чем кормить ребенка-то будет? – от себя добавил и Мишка. Парни снова с довольством задорно рассмеялись.
– Нам бы вот еще двух надо! – выкрикнул девкам Панька. Девки от этих слов испуганно взвизгнув, с опасением разбежались.
– Не бегайте! Не бегайте! Остальных двух мы подберём в других артелях! Не бойтесь! – миротворительно добавил Мишка, выкрикнув вслед девкам. Парни после всего этого весело зашагали по улице, направляясь на Слободу. Мишка Ковшов во все горло загорланил на всю улицу похабщину:
– Мы по улице пройдём, не судите, тетушки, дочерей мы ваших щупали, спите без заботушки!
– Ходят тут, горланят, детей пугают и старикам спать не дают, – высказал свое отвращение к молодежи Иван Федотов.
Мишка Ковшов и Панька З–в, будучи еще подростками, нанимались пасти общественных свиней. Пася в поле, они у некоторых свиней отрезали хвосты, жарили их на костре и ели. Хозяевам же обесхвощенных свиней говорили, что свиньи свои хвосты потеряли в лесу, их, задевая за кусты, пооборвали. Из-за этих проказ пастухов – ругань, вражда и мщение.
– И позволяют же они себе творить такую гадость, – отозвался ему Василий Савельев, – нынче молодежь-то такая шеборстная, что встречь шерсти гладить нельзя, а то окрысятся.
– Гуляют ночью вплоть до пастушьей трубы, а утром их не добудешься.
– Я вон своих утром бужу, бужу, а они только глубже под одеяло зарываются и бурчат языками какую-то дребедень, сразу-то и не поймешь, чего бормочут, – охаял своих ребят Василий.
– У них на уме-то только гулянье да девки, хиханьки да хаханьки, а про работу и не упоминай лучше, никак бывало – отец только крикнет, а ты уж на ногах. А нынче что! Вот молодежь пошла, самовольники, да и только! – с недовольством о своих ребятах высказался и Иван.
– До чего только они дойдут, до чего допятятся? Хорошего ожидать нечего!
– Видимый конец! – согласился Иван и пошёл спать.
Между прочим, в деревенском быту щупанье титек не считается зазорным, а наоборот, потворствуется, если у которой девки часто щупают женихи, значит, есть чего щупать, значит, у нее много женихов, и груди от частого щупанья не уменьшаются, а увеличиваются, и это признак того, когда впоследствии девка, выйдя замуж, сделается матерью, то ребенок не окажется без молока. Таков уклад традиций деревенской действительности. Отнимание женихом у невесты платочка или ленты считается первостепенной любезностью со стороны жениха, этим определяется кто с кем заигрывает и кто у кого жених или невеста. Непристойным, однако, считается то, если увидят девку, стоящую где-нибудь вдвоем с парнем. На этот счет у парней появилась обличительная баб песенка: «Бабы дуры, бабы дуры, бабы бешеный народ, как увидят девку с парнем, так глядят, разинув рот!» Так или иначе, а в селе прошёл слушок, что у Маньки Батмановой парни все выщупали, но она, услыхав об этом, не унывала и не стыдилась, потому что она была не из робкого десятка. В семье мать ее называла тараторкой, отец вертопрахом и егозой, а брат Гришка, хилый здоровьем, не связывался с ней.
– Я ему не поробею, даром, что он парень, всего исколошмачу, будет знать!
И Манька не робела. Как-то однажды во время веяния ржи на своей знаменитой веялке-уфимке Манька заспорила с хилым Гришкой. Спор перерос в драку. Гришка, не выдержав напора агрессивной сестры, капитулировал и бросился наутек. Манька ловким броском кинула вслед убегающему брату его рогастую мешалку (коей переворачивают солому в скотной колоде). Мешалка полётом догнала бежавшего Гришку и торчмя долбанула ему в спину. Гришка упал, болезненно заохал. Манька, довольная тем, что бросок мешалкой был удачный, с довольством усмехнулась, но видя поверженного и стонавшего брата, ее улыбка уже не выражала победу, она потухла. Потасовка на улице переросла в выражающую боль и сожаления скорбную мину.
– И не стыдно тебе, ведь девушке так вести себя не пристойно! – урезонивал ее отец.
Манька сама по себе выгулилась, телом выровнялась, стала совсем на невесту похожа. Как-никак, ей уже соблазнительно стало выйти замуж. Мать уж ей и жениха подобрала, но она наотрез отказалась от него, унижающе раскритиковав его, она отчеканила матери:
– Уж я за такого маленького карандаша не пойду!
Она приглядывалась больше всего к Митьке, да и он был не против поближе познакомиться с ней. Однажды Митька, уследив Маньку одну, без подруг, подскочил к ней с целью завязать с ней любезности и любовный разговор. Первый разговор начал Митька:
– Давай поменяемся, я тебе колечко, а ты мне платочек, только с придачей, дай мне в придачу поцелуй, – и он, не спрося согласия, чмок Маньку в губы.
– Ты вон какой дылда вырос, с косую сажень! – только и могла сказать в упрек Митьке она. Разгорячённый Митька вцепился в Маньку своими грубыми лапищами, но она, стыдясь людей, сопротивлялась, и едва выскользнула из его цепких рук, как мышка из лап котёнка.
– Ты погляди-ка, у тебя пятки-то назад, – вдогонку ей шутливо крикнул Митька. Она, остановившись, наивно оглянулась на свои пятки и, поняв, что это всего-навсего любезная шутка, весело рассмеялась. Улыбнулся и он. Не хотелось отцу, чтобы Манька важдалась с Митькой, он всячески старался расхаивать его ей.
– Он не парень, а головорез чистый и озорник и охальник, – обличал Осип Митька, – и рыжий, как теленок, того гляди от него солома загорится.
На что Манька упорно молчала, а про себя решила…
Митькина мать судачила на озере на мостках бабам о Митьке, он у нас стал больно гулливый, никак дома не усидит, то и знай, на улицу бежит к девкам. Я уж его женить надумала.
В ближайшее воскресенье, вечером, в дом Батмановых нагрянули сваты. Митькины близкие родные пришли сватать Маньку. Сюда же пришёл и сам Митька. Гостей у порога встретил рыжий кот, он, потёршись о сапоги первого вошедшего свата, высоко задрав хвост, важно и неторопко прошагал к столу, как бы приглашая гостей вперед. Пришедшие, как и полагается по традиции, помолились Богу, раскланиваясь, поприветствовали хозяев, сказали обычное «Здорово ли живете!» – «Проходите, добро пожаловать! Проходите вперед!»
За нахмурившегося Осипа отвечала хозяйка дома Стефанида. Гости расселись, степенно и не торопясь, начали разговор о том, за чем пожаловали. Манька, застеснявшись прихода малознакомых людей, шмыгнула в чулан. Кот, видя, что люди, рассевшиеся по лавкам, ведут мирный разговор, от нечего делать уселся под столом и, задрав вверх ногу в виде поднятой у телеги оглобли, занялся своим делом, языком наводя чистоту в задней части своего брюха. Осип, видя такой непорядок при гостях, подошёл к столу и ногой поддал коту, так что тот, испугавшись, судорожно вскочив, бросился бежать и скрылся под печью. Оттуда фосфорически светились его зеленые глаза. Виновато облизываясь, кот настороженно стал наблюдать из-под печи за поведением хозяина: как бы не получить добавку.
Случай с котом помешал разговору. Сватья сразу как-то утеряли ту нить, на которую нанизывался разговор о деле. Все как-то неловко приумолкли, молчал и жених Митька. Он, следуя примеру кота, так же от нечего делать, не находя слов, что сказать, и не найдя себе места, где бы можно было присесть, он присел у порога на корточки, полез в карман и, вытащив из него пузатый кисет, стал закуривать. Митька напустил в избе столько зеленого ядовитого дыма, что будущий его тесть Осип, не переносящий табачного дыма, недовольно поморщился и удушливо закашлялся.
Одна из пришедших свах видя, что наступил момент неловкого и тягостного молчания, решила разговор возобновить.
– Одним словом, давайте-ка, дорогие сваточки, дело доводить до конца, и уговоримся о том, когда будем делать свадьбу! Жених с невестой, наверное, уж давно меж собой договорились, наше дело только условиться о «цене» и о свадьбе! – за всех высказалась сваха, видимо, дерзкая на язык и бывалая в делах сватовства.
Отец невесты, Осип, ответствовал нечаянно нахлынувшим сватьям:
– Мы и не думали ее выдавать-то, сначала решили Гришку женить, ведь он у нее старший.
– А мы возьмём, да и поженим их за одним столом, свадьбу-то в один день и справим. Все меньше расходу и хлопот будет! – полушутя-полусерьёзно, смеясь, высказалась мать невесты Стефанида.
Не нравился Осипу будущий зять, но ничего не поделаешь, сына надо женить, а дочь все время при себе не удержишь, не «на засол» же ее держать в семье. Осип согласился, все дело уладилось мирно, «цену» с жениха вырядили посильную, лампадку зажгли, Богу помолились. О свадьбе договорились. Решили ее сделать после картофельной садки, в праздник Вознесения. Через два дня Батмановы усватали за сына Гришку. В доме началось деятельное и хлопотливое приготовление к свадьбе, а она у них, как и было договорено, должна быть двойной: сына женить и дочь выдавать. Свадьбу им делать «за одним столом».
Готовясь к свадьбе, самогонку гнать Осип предусмотрительно решил не дома, а в лесу, около водяной мельницы. «Там вода привольная, дрова не ужурёны, поодаль же от людских глаз, и милиция не помешает», – так, размышляя, рассуждал скуповатый на все Осип. Расположился Осип со своим самогонным аппаратом в стороне от мельницы, в межевой канаве, которую он сам когда-то выкопал по найму у лесовладельца Вязовова. Дело шло хорошо, никто не мешает Осипу, никто не «наводит анализ» на качество самогона, а самогонка сама по себе шла хороша, «первачу» он нагнал с ведро и, воодушевлённый удачей, Осип нерасчетливо подложил в топку аппарата многовато сухих дров. Огонь сильно разгорелся, самогонка пошла бардой. Со своего «завода» Осип возвращался ночью, чтоб никто не просверлил своим любопытным взором, что у него покрыто в тележке-двуколке и что он везёт из лесу. Похвалился Осип перед своей Стефанидой, что гнать самогонку в лесу одна любота, а Стефанида не стерпела, не удержала свой язык за зубами в разговоре с Анной Гуляевой, она, хвалясь, болтнула лишнее:
– Мы восей самогонку в лесу гнали. Вот где благодать-то! На просторе, дрова и вода под руками, и милиция вдалеке, и мы еще туда собираемся, – выболтнула Стефанида.
Не вытерпела и Анна, раструнила по всему селу, что Осип уж больно много самогонки нагнал в лесу, да и опять собирается туда же с этим намереньем, ведь у него собирается две свадьбы, самогонки-то спонадобится целая уйма. Вехнул чей-то зловредный язык в чернухинскую милицию, нагрянула милиция в леса, «накрыла» Осипа в тот момент, когда он, уж почти все закончив, готовился двинуться домой. Весь нагнанный Осипом самогон и барду непредусмотрительно вылили в мельничий пруд. Опьяневшая рыба всплыла на поверхность воды, очумелые язи и щурята по пруду плавали вверх брюшками, блестя при лунном свете своей серебристой чешуей. Остолбеневший от неожиданности Осип, горестно наблюдал за тем, что происходило вокруг него. От перепуга и жалости к пропавшему добру он даже лишился дара речи. Мельник Федор в пруду опьяневшей рыбы наловил себе на уху. Очумелую рыбу там ловили ребятишки еще с неделю.
Накануне свадьбы Митька со своей невестой Манькой пошли в сельский совет, чтоб зарегистрировать и узаконить свой брак. Для смелости Митька изрядно подвыпил, в совете позволил себе выбросить из себя ряд непристойных и каверзных номеров. Во-первых, пьяно куражась, он к удивлению всех присутствующих, бесцеремонно вырвал из книги лист, на котором только что был зарегистрирован их брак. К немалому изумлению председателя Кузьмы Оглоблина, разорвал его на мелкие части, в буйном приступе раскаяния, он яростно размахивал руками, сшиб со стола графин с водой, который со звоном разбился, потом локтем сшвырнул со стола чернильницу, забрызгав пол чернильными пятнами. Невеста, притупив взор, опустила голову. Она до глубины души была оскорблена поведением жениха, которому вдруг втемяшилось в голову расторгнуть брак, который он только что скрепил своей росписью. Безучастно смотревший на проделки Митьки Кузьма решил сказать свое слово. Он начал честно уговаривать разбушевавшегося жениха:
– Послушай-ка, Дмитрий Касьяныч, ведь так-то не полагается вести себя, а особенно в помещении сельского совета. Только здесь позволительно спросить у тебя: чем ты кичишься, или силой, или умом, или просто наглостью и коварством? – спросил его Кузьма.
– А я еще и не знаю, что за «коварство», – недоуменно усмехнувшись, проговорил несколько опешивший Митька.
– А коварство – это такое действие со стороны невежественного человека, которое граничит с варварством! – обличительно изрёк Кузьма. – И говорю я это тебе не ради твоей глупой ухмылки, а от негодования от твоих хулиганских выходков. Ты успокойся, я как председатель тебе все прощаю, и давайте-ка зарегистрируем ваш брак на другом, новом листе, а тот будем считать испорченным. Кажется, я так говорю, – заключил свою назидательную и укрощающую Митьку речь Кузьма.
– Так, – понуро опустивший голову и несколько присмиревший, сказал одумавшийся Митька. Дело с регистрацией было мирно улажено. К вечеру Кузьма попутно зашёл на дом к Митьке, поговорил с его матерью и вышел от них, несколько подвыпивши.
– Ну и зятька бог дал! – горестно высказался Осип, узнав о Митькиных проделках в совете.
– Не было печали, черти накачали! – про себя подумывал он. Но дело затеяно, на попятную идти не гоже. Тем более, у Осипа к свадьбе было все уже приготовлено, самогона нагнато в достаточном количестве. В город за покупками невесте съезжено, кстати сказать, из города домой Осипу приехать поездом привелось бесплатно: в Арзамасе он нарочно не взял билет, а в дороге с него не спросили. По этому случаю он даже позволил себе радостно улыбнуться, что редко с ним случалось.
Вечером, накануне свадьбы, в домах Кочеврягиных и Батмановых были девичники. Как и обычно, «свахоньки показывали женишков». Под конец девичников пели традиционную песню «На почтовом-то дворе…», а после девичников в доме невесты по не писаному обычаю молодежь собралась на ночлег. На полу на разостланном соломенном войлоке в повалку парни вперемешку с девками расположились ночевать. Огонь погасили. Послышались приглушённые любезные шепоты, потаённые поцелуи, игривый смех, вздохи и возня. Вплоть до самого утра почти никто не спал, надоедливое шушуканье не давало спокою и Осипу. Не спалось и невесте, всю ночь она продумала о том, как ей будет житься в чужой семье с наречённым мужем, а под самое утро она, будя своих подруженек, начала традиционный «плачь невесты», в котором она, по наущению старых баб, с причетами упоминала все то, что ей придётся пережить в новой, неведомой обстановке женской, тяжёлой деревенской жизни.







