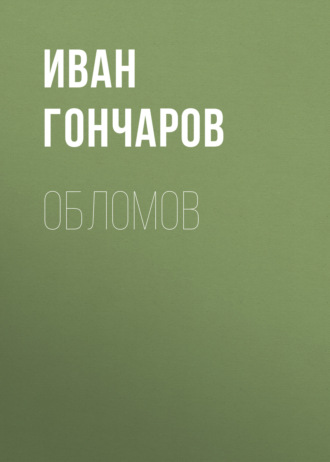
Иван Гончаров
Обломов
V
Боже мой! Как все мрачно, скучно смотрело в квартире Обломова года полтора спустя после именин, когда нечаянно приехал к нему обедать Штольц. И сам Илья Ильич обрюзг, скука въелась в его глаза и выглядывала оттуда, как немочь какая-нибудь.
Он походит, походит по комнате, потом ляжет и смотрит в потолок; возьмет книгу с этажерки, пробежит несколько строк глазами, зевнет и начнет барабанить пальцами по столу.
Захар стал еще неуклюжее, неопрятнее; у него появились заплаты на локтях; он смотрит так бедно, голодно, как будто плохо ест, мало спит и за троих работает.
Халат на Обломове истаскался, и как ни заботливо зашивались дыры на нем, но он расползается везде и не по швам: давно бы надо новый. Одеяло на постели тоже истасканное, кое-где с заплатами; занавески на окнах полиняли давно, и хотя они вымыты, но похожи на тряпки.
Захар принес старую скатерть, постлал на половине стола, подле Обломова, потом осторожно, прикусив язык, принес прибор с графином водки, положил хлеб и ушел.
Дверь с хозяйской половины отворилась, и вошла Агафья Матвеевна, неся проворно шипящую сковороду с яичницей.
И она ужасно изменилась, не в свою пользу. Она похудела. Нет круглых, белых, некраснеющих и небледнеющих щек; не лоснятся редкие брови; глаза у ней впали.
Одета она в старое ситцевое платье; руки у ней не то загорели, не то загрубели от работы, от огня или от воды, или от того и от другого.
Акулины уже не было в доме. Анисья – и на кухне, и на огороде, и за птицами ходит, и полы моет, и стирает; она не управится одна, и Агафья Матвеевна, волей-неволей, сама работает на кухне: она толчет, сеет и трет мало, потому что мало выходит кофе, корицы и миндалю, а о кружевах она забыла и думать. Теперь ей чаще приходится крошить лук, тереть хрен и тому подобные пряности. В лице у ней лежит глубокое уныние.
Но не о себе, не о своем кофе вздыхает она, тужит не оттого, что ей нет случая посуетиться, похозяйничать широко, потолочь корицу, положить ваниль в соус или варить густые сливки, а оттого, что другой год не кушает этого ничего Илья Ильич, оттого, что кофе ему не берется пудами из лучшего магазина, а покупается на гривенники в лавочке; сливки приносит не чухонка, а снабжает ими та же лавочка, оттого, что вместо сочной котлетки она несет ему на завтрак яичницу, заправленную жесткой, залежавшейся в лавочке же ветчиной.
Что же это значит? А то, что другой год доходы с Обломовки, исправно присылаемые Штольцем, поступают на удовлетворение претензии по заемному письму, данному Обломовым хозяйке.
«Законное дело» братца удалось сверх ожидания. При первом намеке Тарантьева на скандалезное дело Илья Ильич вспыхнул и сконфузился; потом пошли на мировую, потом выпили все трое, и Обломов подписал заемное письмо, сроком на четыре года; а через месяц Агафья Матвеевна подписала такое же письмо на имя братца, не подозревая, что такое и зачем она подписывает. Братец сказали, что это нужная бумага по дому, и велели написать: «К сему заемному письму такая-то (чин, имя и фамилия) руку приложила».
Она только затруднилась тем, что много понадобилось написать, и попросила братца заставить лучше Ванюшу, что «он-де бойко стал писать», а она, пожалуй, что-нибудь напутает. Но братец настоятельно потребовали, и она подписала криво, косо и крупно. Больше об этом уж никогда и речи не было.
Обломов, подписывая, утешался отчасти тем, что деньги эти пойдут на сирот, а потом, на другой день, когда голова у него была свежа, он со стыдом вспомнил об этом деле, и старался забыть, избегал встречи с братцем, и если Тарантьев заговаривал о том, он грозил немедленно съехать с квартиры и уехать в деревню.
Потом, когда он получил деньги из деревни, братец пришли к нему и объявили, что ему, Илье Ильичу, легче будет начать уплату немедленно из дохода; что года в три претензия будет покрыта, между тем как с наступлением срока, когда документ будет подан ко взысканию, деревня должна будет поступить в публичную продажу, так как суммы в наличности у Обломова не имеется и не предвидится.
Обломов понял, в какие тиски попал он, когда все, что присылал Штольц, стало поступать на уплату долга, а ему оставалось только небольшое количество денег на прожиток.
Братец спешил окончить эту добровольную сделку с своим должником года в два, чтоб как-нибудь и что-нибудь не помешало делу, и оттого Обломов вдруг попал в затруднительное положение.
Сначала это было не очень заметно благодаря его привычке не знать, сколько у него в кармане денег; но Иван Матвеевич вздумал присвататься к дочери какого-то лабазника, нанял особую квартиру и переехал.
Хозяйственные размахи Агафьи Матвеевны вдруг приостановились: осетрина, белоснежная телятина, индейки стали появляться на другой кухне, в новой квартире Мухоярова.
Там по вечерам горели огни, собирались будущие родные братца, сослуживцы и Тарантьев; все очутилось там. Агафья Матвеевна и Анисья вдруг остались с разинутыми ртами и с праздно повисшими руками, над пустыми кастрюлями и горшками.
Агафья Матвеевна в первый раз узнала, что у ней есть только дом, огород и цыплята и что ни корица, ни ваниль не растут в ее огороде; увидала, что на рынках лавочники мало-помалу перестали ей низко кланяться с улыбкой и что эти поклоны и улыбки стали доставаться новой, толстой, нарядной кухарке ее братца.
Обломов отдал хозяйке все деньги, оставленные ему братцем на прожиток, и она, месяца три-четыре, без памяти по-прежнему молола пудами кофе, толкла корицу, жарила телятину и индеек, и делала это до последнего дня, в который истратила последние семь гривен и пришла к нему сказать, что у ней денег нет.
Он три раза перевернулся на диване от этого известия, потом посмотрел в ящик к себе: и у него ничего не было. Стал припоминать, куда их дел, и ничего не припомнил; пошарил на столе рукой, нет ли медных денег, спросил Захара, тот и во сне не видал. Она пошла к братцу и наивно сказала, что в доме денег нет.
– А куда вы с вельможей ухлопали тысячу рублей, что я дал ему на прожитье? – спросил он. – Где же я денег возьму? Ты знаешь, я в законный брак вступаю: две семьи содержать не могу, а вы с барином-то по одежке протягивайте ножки.
– Что вы, братец, меня барином попрекаете? – сказала она. – Что он вам делает? Никого не трогает, живет себе. Не я приманивала его на квартиру: вы с Михеем Андреичем.
Он дал ей десять рублей и сказал, что больше нет. Но потом, обдумав дело с кумом в заведении, решил, что так покидать сестру и Обломова нельзя, что, пожалуй, дойдет дело до Штольца, тот нагрянет, разберет и, чего доброго, как-нибудь переделает, не успеешь и взыскать долг, даром что «законное дело»: немец, следовательно, продувной!
Он стал давать по пятидесяти рублей в месяц еще, предположив взыскать эти деньги из доходов Обломова третьего года, но при этом растолковал и даже побожился сестре, что больше ни гроша не положит, и рассчитал, какой стол должны они держать, как уменьшить издержки, даже назначил, какие блюда когда готовить, высчитал, сколько она может получить за цыплят, за капусту, и решил, что со всем этим можно жить припеваючи.
В первый раз в жизни Агафья Матвеевна задумалась не о хозяйстве, а о чем-то другом, в первый раз заплакала, не от досады на Акулину за разбитую посуду, не от брани братца за недоваренную рыбу; в первый раз ей предстала грозная нужда, но грозная не для нее, для Ильи Ильича.
«Как вдруг этот барин, – разбирала она, – станет кушать вместо спаржи репу с маслом, вместо рябчиков баранину, вместо гатчинских форелей, янтарной осетрины – соленого судака, может быть, студень из лавочки…»
Ужас! Она не додумалась до конца, а торопливо оделась, наняла извозчика и поехала к мужниной родне, не в Пасху и Рождество, на семейный обед, а утром рано, с заботой, с необычайной речью и вопросом, что делать, и взять у них денег.
У них много: они сейчас дадут, как узнают, что это для Ильи Ильича. Если б это было ей на кофе, на чай, детям на платье, на башмаки или на другие подобные прихоти, она бы и не заикнулась, а то на крайнюю нужду, до зарезу: спаржи Илье Ильичу купить, рябчиков на жаркое, он любит французский горошек…
Но там удивились, денег ей не дали, а сказали, что если у Ильи Ильича есть вещи какие-нибудь, золотые или, пожалуй, серебряные, даже мех, так можно заложить и что есть такие благодетели, что третью часть просимой суммы дадут до тех пор, пока он опять получит из деревни.
Этот практический урок в другое время пролетел бы над гениальной хозяйкой, не коснувшись ее головы, и не втолковать бы ей его никакими путями, а тут она умом сердца поняла, сообразила все и взвесила… свой жемчуг, полученный в приданое.
Илья Ильич, не подозревая ничего, пил на другой день смородинную водку, закусывал отличной семгой, кушал любимые потроха и белого свежего рябчика. Агафья Матвеевна с детьми поела людских щей и каши и только за компанию с Ильей Ильичом выпила две чашки кофе.
Вскоре за жемчугом достала она из заветного сундука фермуар, потом пошло серебро, потом салоп.
Пришел срок присылки денег из деревни: Обломов отдал ей все. Она выкупила жемчуг и заплатила проценты за фермуар, серебро и мех, и опять готовила ему спаржу, рябчики, и только для виду пила с ним кофе. Жемчуг опять поступил на свое место.
Из недели в неделю, изо дня в день тянулась она из сил, мучилась, перебивалась, продала шаль, послала продать парадное платье и осталась в ситцевом ежедневном наряде: с голыми локтями, и по воскресеньям прикрывала шею старой затасканной косынкой.
Вот отчего она похудела, отчего у ней впали глаза и отчего она сама принесла завтрак Илье Ильичу.
У ней даже доставало духа сделать веселое лицо, когда Обломов объявлял ей, что завтра к нему придут обедать Тарантьев, Алексеев или Иван Герасимович. Обед являлся вкусный и чисто поданный. Она не срамила хозяина. Но скольких волнений, беготни, упрашиванья по лавочкам, потом бессонницы, даже слез стоили ей эти заботы!
Как вдруг глубоко окунулась она в треволнения жизни и как познала ее счастливые и несчастные дни! Но она любила эту жизнь: несмотря на всю горечь своих слез и забот, она не променяла бы ее на прежнее, тихое теченье, когда она не знала Обломова, когда с достоинством господствовала среди наполненных, трещавших и шипевших кастрюль, сковород и горшков, повелевала Акулиной, дворником.
Она от ужаса даже вздрогнет, когда вдруг ей предстанет мысль о смерти, хотя смерть разом положила бы конец ее невысыхаемым слезам, ежедневной беготне и еженочной несмыкаемости глаз.
Илья Ильич позавтракал, прослушал, как Маша читает по-французски, посидел в комнате у Агафьи Матвеевны, смотрел, как она починивала Ванечкину курточку, переворачивая ее раз десять то на ту, то на другую сторону, и в то же время беспрестанно бегала в кухню посмотреть, как жарится баранина к обеду, не пора ли заваривать уху.
– Что вы все хлопочете, право? – говорил Обломов, – оставьте!
– Кто ж будет хлопотать, если не я? – сказала она. – Вот только положу две заплатки здесь, и уху станем варить. Какой дрянной мальчишка этот Ваня! На той неделе заново вычинила куртку – опять разорвал! Что смеешься? – обратилась она к сидевшему у стола Ване, в панталонах и в рубашке об одной помочи. – Вот не починю до утра, и нельзя будет за ворота бежать. Мальчишки, должно быть, разорвали: дрался – признавайся?
– Нет, маменька, это само разорвалось, – сказал Ваня.
– То-то само! Сидел бы дома да твердил уроки, чем бегать по улицам! Вот когда Илья Ильич опять скажет, что ты по-французски плохо учишься, – я и сапоги сниму: поневоле будешь сидеть за книжкой!
– Я не люблю учиться по-французски.
– Отчего? – спросил Обломов.
– Да по-французски есть много нехороших слов…
Агафья Матвеевна вспыхнула, Обломов расхохотался. Верно, и прежде уже был у них разговор о «нехороших словах».
– Молчи, дрянной мальчишка, – сказала она. – Утри лучше нос, не видишь?
Ванюша фыркнул, но носа не утер.
– Вот погодите, получу из деревни деньги, я ему две пары сошью, – вмешался Обломов, – синюю курточку, а на будущий год мундир: в гимназию поступит.
– Ну, еще и в старом походит, – сказала Агафья Матвеевна, – а деньги понадобятся на хозяйство. Солонины запасем, варенья вам наварю… Пойти посмотреть, принесла ли Анисья сметаны… – Она встала.
– А что нынче? – спросил Обломов.
– Уха из ершей, жареная баранина да вареники.
Обломов молчал.
Вдруг подъехал экипаж, застучали в калитку, началось скаканье на цепи и лай собаки.
Обломов ушел к себе, думая, что кто-нибудь пришел к хозяйке: мясник, зеленщик или другое подобное лицо. Такой визит сопровождался обыкновенно просьбами денег, отказом со стороны хозяйки, потом угрозой со стороны продавца, потом просьбами подождать со стороны хозяйки, потом бранью, хлопаньем дверей, калитки и неистовым скаканьем и лаем собаки – вообще неприятной сценой. Но подъехал экипаж – что бы это значило? Мясники и зеленщики в экипажах не ездят. Вдруг хозяйка, в испуге, вбежала к нему.
– К вам гость! – сказала она.
– Кто же: Тарантьев или Алексеев?
– Нет, нет, тот, что обедал в Ильин день.
– Штольц? – в тревоге говорил Обломов, озираясь кругом, куда бы уйти. – Боже! что он скажет, как увидит… Скажите, что я уехал! – торопливо прибавил он и ушел к хозяйке в комнату.
Анисья кстати подоспела навстречу гостю. Агафья Матвеевна успела передать ей приказание. Штольц поверил, только удивился, как это Обломова не было дома.
– Ну, скажи, что я через два часа приду, обедать буду! – сказал он и пошел поблизости, в публичный сад.
– Обедать будет! – с испугом передавала Анисья.
– Обедать будет! – повторила в страхе Агафья Матвеевна Обломову.
– Надо другой обед изготовить, – решил он, помолчав.
Она обратила на него взгляд, полный ужаса. У ней оставался всего полтинник, а до первого числа, когда братец выдает деньги, осталось еще десять дней. В долг никто не дает.
– Не успеем, Илья Ильич, – робко заметила она, – пусть покушает, что есть…
– Не ест он этого, Агафья Матвеевна: ухи терпеть не может, даже стерляжьей не ест; баранины тоже в рот не берет.
– Языка можно в колбасной взять! – вдруг, как будто по вдохновению, сказала она, – тут близко.
– Это хорошо, это можно; да велите зелени какой-нибудь, бобов свежих…
«Бобы восемь гривен фунт!» – пошевелилось у ней в горле, но на язык не сошло.
– Хорошо, я сделаю… – сказала она, решившись заменить бобы капустой.
– Сыру швейцарского велите фунт взять! – командовал он, не зная о средствах Агафьи Матвеевны, – и больше ничего! Я извинюсь, скажу, что не ждали… Да если б можно бульон какой-нибудь.
Она было ушла.
– А вина? – вдруг вспомнил он.
Она отвечала новым взглядом ужаса.
– Надо послать за лафитом, – хладнокровно заключил он.
VI
Через два часа пришел Штольц.
– Что с тобой? Как ты переменился, обрюзг, бледен! Ты здоров? – спросил Штольц.
– Плохо здоровье, Андрей, – говорил Обломов, обнимая его, – левая нога что-то все немеет.
– Как у тебя здесь гадко! – сказал, оглядываясь, Штольц, – что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах!
– Привычка, Андрей; жаль расстаться.
– А одеяло, а занавески… – начал Штольц, – тоже привычка? Жаль переменить эти тряпки? Помилуй, неужели ты можешь спать на этой постели? Да что с тобой?
Штольц пристально посмотрел на Обломова, потом опять на занавески, на постель.
– Ничего, – говорил смущенный Обломов, – ты знаешь, я всегда был не очень рачителен о своей комнате… Давай лучше обедать. Эй, Захар! Накрывай скорей на стол. Ну, что ты, надолго ли? Откуда?
– Узнай, что я и откуда? – спросил Штольц, – до тебя ведь здесь не доходят вести из живого мира?
Обломов с любопытством смотрел на него и дожидался, что он скажет.
– Что Ольга? – спросил он.
– А, не забыл! Я думал, что ты забудешь, – сказал Штольц.
– Нет, Андрей, разве ее можно забыть? Это значит забыть, что я когда-то жил, был в раю… А теперь вот!.. – Он вздохнул. – Но где же она?
– В своей деревне, хозяйничает.
– С теткой? – спросил Обломов.
– И с мужем.
– Она замужем? – вдруг, вытаращив глаза, произнес Обломов.
– Чего ж ты испугался? Не воспоминания ли?.. – тихо, почти нежно прибавил Штольц.
– Ах, нет, Бог с тобой! – оправдывался Обломов, приходя в себя. – Я не испугался, но удивился; не знаю, почему это поразило меня. Давно ли? Счастлива ли? скажи, ради Бога. Я чувствую, что ты снял с меня большую тяжесть! Хотя ты уверял меня, что она простила, но знаешь… я не был покоен! Все грызло меня что-то… Милый Андрей, как я благодарен тебе!
Он радовался так от души, так подпрыгивал на своем диване, так шевелился, что Штольц любовался им и был даже тронут.
– Какой ты добрый, Илья! – сказал он. – Сердце твое стоило ее! Я ей все перескажу.
– Нет, нет, не говори! – перебил Обломов. – Она сочтет меня бесчувственным, что я с радостью услыхал о ее замужестве.
– А радость разве не чувство, и притом еще без эгоизма? Ты радуешься только ее счастью.
– Правда, правда! – перебил Обломов. – Бог знает, что я мелю… Кто ж, кто этот счастливец? Я и не спрошу.
– Кто? – повторил Штольц. – Какой ты недогадливый, Илья!
Обломов вдруг остановил на своем друге неподвижный взгляд: черты его окоченели на минуту, и румянец сбежал с лица.
– Не… ты ли? – вдруг спросил он.
– Опять испугался! Чего же? – засмеявшись, сказал Штольц.
– Не шути, Андрей, скажи правду! – с волнением говорил Обломов.
– Ей-богу, не шучу. Другой год я женат на Ольге.
Мало-помалу испуг пропадал в лице Обломова, уступая место мирной задумчивости, он еще не поднимал глаз, но задумчивость его через минуту была уж полна тихой и глубокой радости, и когда он медленно взглянул на Штольца, во взгляде его уж было умиление и слезы.
– Милый Андрей! – произнес Обломов, обнимая его. – Милая Ольга… Сергеевна! – прибавил потом, сдержав восторг. – Вас благословил сам Бог! Боже мой! как я счастлив! Скажи же ей…
– Скажу, что другого Обломова не знаю! – перебил его глубоко тронутый Штольц.
– Нет, скажи, напомни, что я встретился ей затем, чтоб вывести ее на путь, и что я благословляю эту встречу, благословляю ее и на новом пути! Что, если б другой… – с ужасом прибавил он, – а теперь, – весело заключил он, – я не краснею своей роли, не каюсь; с души тяжесть спала; там ясно, и я счастлив. Боже! благодарю тебя!
Он опять чуть не прыгал на диване от волнения: то прослезится, то засмеется.
– Захар, шампанского к обеду! – закричал он, забыв, что у него не было ни гроша.
– Все скажу Ольге, все! – говорил Штольц. – Недаром она забыть не может тебя. Нет, ты стоил ее: у тебя сердце как колодезь глубоко!
Голова Захара выставилась из передней.
– Пожалуйте сюда! – говорил он, мигая барину.
– Что там? – с нетерпением спросил он. – Поди вон!
– Денег пожалуйте! – шептал Захар.
Обломов вдруг замолчал.
– Ну, не нужно! – шепнул он в дверь. – Скажи, что забыл, не успел! Поди!.. Нет, поди сюда! – громко сказал он. – Знаешь ли новость, Захар? Поздравь: Андрей Иваныч женился!
– Ах, батюшка! Привел Бог дожить до этакой радости! Поздравляем, батюшка, Андрей Иваныч; дай Бог вам несчетные годы жить, деток наживать. Ах, Господи, вот радости!
Захар кланялся, улыбался, сипел, хрипел. Штольц вынул ассигнацию и подал ему.
– На, вот тебе, да купи себе сюртук, – сказал он, – посмотри, ты точно нищий.
– На ком, батюшка? – спросил Захар, ловя руки Штольца.
– На Ольге Сергевне – помнишь? – сказал Обломов.
– На Ильинской барышне! Господи! Какая славная барышня! Поделом бранили меня тогда Илья Ильич, старого пса! Грешен, виноват: все на вас сворачивал. Я тогда и людям Ильинским рассказал, а не Никита! Точно, что клевета вышла. Ах ты, Господи, ах Боже мой!.. – твердил он, уходя в переднюю.
– Ольга зовет тебя в деревню к себе гостить; любовь твоя простыла, неопасно: ревновать не станешь. Поедем.
Обломов вздохнул.
– Нет, Андрей, – сказал он, – не любви и не ревности я боюсь, а все-таки к вам не поеду.
– Чего ж ты боишься?
– Боюсь зависти: ваше счастье будет для меня зеркалом, где я все буду видеть свою горькую и убитую жизнь; а ведь уж я жить иначе не стану, не могу.
– Полно, милый Илья! Нехотя станешь жить, как живут около тебя. Будешь считать, хозяйничать, читать, слушать музыку. Как у ней теперь выработался голос! Помнишь Casta diva?
Обломов замахал рукой, чтоб он не напоминал.
– Едем же! – настаивал Штольц. – Это ее воля; она не отстанет. Я устану, а она нет. Это такой огонь, такая жизнь, что даже подчас достается мне. Опять забродит у тебя в душе прошлое. Вспомнишь парк, сирень и будешь пошевеливаться…
– Нет, Андрей, нет, не поминай, не шевели, ради Бога! – серьезно перебил его Обломов. – Мне больно от этого, а не отрадно. Воспоминания – или величайшая поэзия, когда они – воспоминания о живом счастье, или – жгучая боль, когда они касаются засохших ран… Поговорим о другом. Да, я не поблагодарил тебя за твои хлопоты о моих делах, о деревне. Друг мой! Я не могу, не в силах; ищи благодарности в своем собственном сердце, в своем счастье – в Ольге… Сергевне, а я… я… не могу! Прости, что сам я до сих пор не избавил тебя от хлопот. Но вот скоро весна, я непременно отправлюсь в Обломовку…
– А знаешь, что делается в Обломовке? Ты не узнаешь ее! – сказал Штольц. – Я не писал к тебе, потому что ты не отвечаешь на письма. Мост построен, дом прошлым летом возведен под крышу. Только уж об убранстве внутри ты хлопочи сам, по своему вкусу – за это не берусь. Хозяйничает новый управляющий, мой человек. Ты видел в ведомости расходы…
Обломов молчал.
– Ты не читал их? – спросил Штольц, глядя на него. – Где они?
– Постой, я после обеда сыщу; надо Захара спросить…
– Ах, Илья, Илья! Не то смеяться, не то плакать.
– После обеда сыщем. Давай обедать!
Штольц поморщился, садясь за стол. Он вспомнил Ильин день: устриц, ананасы, дупелей; а теперь видел толстую скатерть, судки для уксуса и масла без пробок, заткнутые бумажками; на тарелках лежало по большому черному ломтю хлеба, вилки с изломанными черенками. Обломову подали уху, а ему суп с крупой и вареного цыпленка, потом следовал жесткий язык, после баранина. Явилось красное вино. Штольц налил полстакана, попробовал, поставил стакан на стол и больше уж не пробовал. Илья Ильич выпил две рюмки смородинной водки, одну за другой, и с жадностью принялся за баранину.
– Вино никуда не годится! – сказал Штольц.
– Извини, второпях не успели на ту сторону сходить, – говорил Обломов. – Вот, не хочешь ли смородинной водки? Славная, Андрей, попробуй! – Он налил еще рюмку и выпил.
Штольц с изумлением поглядел на него, но промолчал.
– Агафья Матвевна сама настаивает: славная женщина! – говорил Обломов, несколько опьянев. – Я, признаться, не знаю, как я буду в деревне жить без нее: такой хозяйки не найдешь.
Штольц слушал его, немного нахмурив брови.
– Ты думаешь, это кто все готовит? Анисья? Нет! – продолжал Обломов. – Анисья за цыплятами ходит, да капусту полет в огороде, да полы моет; а это все Агафья Матвевна делает.
Штольц не ел ни баранины, ни вареников, положил вилку и смотрел, с каким аппетитом ел это все Обломов.
– Теперь ты уж не увидишь на мне рубашки наизнанку, – говорил дальше Обломов, с аппетитом обсасывая косточку, – она все осмотрит, все увидит, ни одного нештопаного чулка нет – и все сама. А кофе как варит! Вот я угощу тебя после обеда.
Штольц слушал молча, с озабоченным лицом.
– Теперь брат ее съехал, жениться вздумал, так хозяйство, знаешь, уж не такое большое, как прежде. А бывало, так у ней все и кипит в руках! С утра до вечера так и летает: и на рынок, и в Гостиный двор… Знаешь, я тебе скажу, – плохо владея языком, заключил Обломов, – дай мне тысячи две-три, так я бы тебя не стал потчевать языком да бараниной; целого бы осетра подал, форелей, филе первого сорта. А Агафья Матвевна без повара чудес бы наделала – да!
Он выпил еще рюмку водки.
– Да выпей, Андрей, право, выпей: славная водка! Ольга Сергевна тебе этакой не сделает! – говорил он нетвердо. – Она споет Casta diva, а водки сделать не умеет так! И пирога такого с цыплятами и грибами не сделает! Так пекли только, бывало, в Обломовке да вот здесь! И что еще хорошо, так это то, что не повар: тот Бог знает какими руками заправляет пирог, а Агафья Матвевна – сама опрятность!
Штольц слушал внимательно, навострив уши.
– А руки-то у нее были белые, – продолжал значительно отуманенный вином Обломов, – поцеловать не грех! Теперь стали жестки, потому что все сама! Сама крахмалит мне рубашки! – с чувством, почти со слезами произнес Обломов. – Ей-богу, так, я сам видел. За другим жена так не смотрит – ей-богу! Славная баба Агафья Матвевна! Эх, Андрей! Переезжай-ко сюда с Ольгой Сергевной, найми здесь дачу: то-то бы зажили! В роще чай бы стали пить, в ильинскую пятницу на Пороховые бы Заводы пошли, за нами бы телега с припасами да с самоваром ехала. Там, на траве, на ковре легли бы! Агафья Матвевна выучила бы и Ольгу Сергевну хозяйничать, право, выучила бы. Теперь вот только плохо пошло: брат переехал; а если б нам дали три-четыре тысячи, я бы тебе таких индеек наставил тут…
– Ты получаешь пять от меня! – сказал вдруг Штольц. – Куда ж ты их деваешь?
– А долг? – вдруг вырвалось у Обломова.
Штольц вскочил с места.
– Долг? – повторил он. – Какой долг?
И он, как грозный учитель, глядел на прячущегося ребенка.
Обломов вдруг замолчал. Штольц пересел к нему на диван.
– Кому ты должен? – спросил он.
Обломов немного отрезвился и опомнился.
– Никому, я соврал, – сказал он.
– Нет, ты вот теперь лжешь, да неискусно. Что у тебя? Что с тобой, Илья? А! Так вот что значит баранина, кислое вино! У тебя денег нет! Куда ж ты деваешь?
– Я точно должен… немного, хозяйке за припасы… – говорил Обломов.
– За баранину и за язык! Илья, говори, что у тебя делается? Что это за история: брат переехал, хозяйство пошло плохо… Тут что-то неловко. Сколько ты должен?
– Десять тысяч, по заемному письму… – прошептал Обломов. Штольц вскочил и опять сел.
– Десять тысяч? Хозяйке? За припасы? – повторил он с ужасом.
– Да, много забирали; я жил очень широко… Помнишь ананасы да персики… вот я задолжал… – бормотал Обломов. – Да что об этом?
Штольц не отвечал ему. Он соображал: «Брат переехал, хозяйство пошло плохо – и точно оно так: все смотрит голо, бедно, грязно! Что ж хозяйка за женщина? Обломов хвалит ее! она смотрит за ним; он говорит о ней с жаром…»
Вдруг Штольц изменился в лице, поймав истину. На него пахнуло холодом.
– Илья! – спросил он. – Эта женщина… что она тебе?..
Но Обломов положил голову на стол и задремал.
«Она его грабит, тащит с него все… это вседневная история, а я до сих пор не догадался!» – думал он.
Штольц встал и быстро отворил дверь к хозяйке, так что та, увидя его, с испугу выронила ложечку из рук, которою мешала кофе.
– Мне нужно с вами поговорить, – вежливо сказал он.
– Пожалуйте в гостиную, – я сейчас приду, – отвечала она робко.
И, накинув на шею косынку, вошла вслед за ним в гостиную и села на кончике дивана. Шали уж не было на ней, и она старалась прятать руки под косынку.
– Илья Ильич дал вам заемное письмо? – спросил он.
– Нет, – с тупым взглядом удивления отвечала она, – они мне никакого письма не давали.
– Как никакого?
– Я никакого письма не видала! – твердила она с тем же тупым удивлением.
– Заемное письмо! – повторил Штольц.
Она подумала немного.
– Вы бы поговорили с братцем, – сказала она, – а я никакого письма не видала.
«Что она, дура или плутовка?» – подумал Штольц.
– Но он должен вам? – спросил он.
Она поглядела на него тупо, потом вдруг лицо у ней осмыслилось, даже выразило тревогу. Она вспомнила о заложенном жемчуге, о серебре, о салопе и вообразила, что Штольц намекает на этот долг; только никак не могла понять, как узнали об этом, она ни слова не проронила не только Обломову об этой тайне, даже Анисье, которой отдавала отчет в каждой копейке.
– Сколько он вам должен? – с беспокойством спрашивал Штольц.
– Ничего не должны! Ни копеечки!
«Скрывает передо мной, стыдится, жадная тварь, ростовщица! – думал он. – Но я доберусь».
– А десять тысяч? – сказал он.
– Какие десять тысяч? – в тревожном удивлении спросила она.
– Илья Ильич вам должен десять тысяч по заемному письму – да или нет? – спросил он.
– Они ничего не должны. Были должны постом мяснику двенадцать с полтиной, так еще на третьей неделе отдали; за сливки молочнице тоже заплатили – они ничего не должны.
– Разве документа у вас на него нет?
Она тупо поглядела на него.
– Вы бы с братцем поговорили, – отвечала она, – они живут через улицу, в доме Замыкалова, вот здесь; еще погреб в доме есть.
– Нет, позвольте переговорить с вами, – решительно сказал он. – Илья Ильич считает себя должным вам, а не братцу…
– Они мне не должны, – отвечала она, – а что я закладывала серебро, земчуг и мех, так это я для себя закладывала. Маше и себе башмаки купила, Ванюше на рубашки да в зеленные лавки отдала. А на Илью Ильича ни копеечки не пошло.
Он смотрел на нее, слушал и вникал в смысл ее слов. Он один, кажется, был близок к разгадке тайны Агафьи Матвеевны, и взгляд пренебрежения, почти презрения, который он кидал на нее, говоря с ней, невольно сменился взглядом любопытства, даже участия.
В закладе жемчуга, серебра он вполовину, смутно прочел тайну жертв и только не мог решить, приносились ли они чистою преданностью или в надежде каких-нибудь будущих благ.
Он не знал, печалиться ли ему или радоваться за Илью. Открылось явно, что он не должен ей, что этот долг есть какая-то мошенническая проделка ее братца, но зато открывалось многое другое… Что значат эти заклады серебра, жемчугу?
– Так вы не имеете претензий на Илье Ильиче? – спросил он.
– Вы потрудитесь с братцем поговорить, – отвечала она монотонно, – теперь они должны быть дома.
– Вам не должен Илья Ильич, говорите вы?
– Ни копеечки, ей-богу, правда! – божилась она, глядя на образ и крестясь.
– Вы это подтвердите при свидетелях?
– При всех, хоть на исповеди! – А что земчуг и серебро я заложила, так это на свои расходы…
– Очень хорошо! – перебил ее Штольц. – Завтра я побываю у вас с двумя моими знакомыми, и вы не откажетесь сказать при них то же самое?
– Вы бы лучше с братцем переговорили, – повторяла она, – а то я одета-то не так… все на кухне, нехорошо, как чужие увидят: осудят.
– Ничего, ничего; а с братцем вашим я увижусь завтра же, после того как вы подпишете бумагу…
– Писать-то я отвыкла совсем.
– Да тут немного нужно написать, всего две строки.
– Нет, уж увольте; пусть вот лучше Ванюша бы написал: он чисто пишет…
– Нет, вы не отказывайтесь, – настаивал он, – если вы не подпишете бумаги, то это значит, что Илья Ильич должен вам десять тысяч.
– Нет, они не должны ничего, ни копеечки, – твердила она, – ей-богу!







