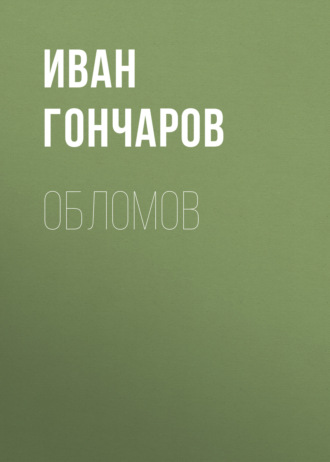
Иван Гончаров
Обломов
II
Иванов день прошел торжественно. Иван Матвеевич накануне не ходил в должность, ездил как угорелый по городу и всякий раз приезжал домой то с кульком, то с корзиной.
Агафья Матвеевна трои сутки жила одним кофе, и только для Ильи Ильича готовились три блюда, а прочие ели как-нибудь и что-нибудь.
Анисья накануне даже вовсе не ложилась спать. Только один Захар выспался за нее и за себя и на все эти приготовления смотрел небрежно, с полупрезрением.
– У нас, в Обломовке, этак каждый праздник готовили, – говорил он двум поварам, которые приглашены были с графской кухни, – бывало, пять пирожных подадут, а соусов что, так и не пересчитаешь! И целый день господа-то кушают, и на другой день. А мы дней пять доедаем остатки. Только доели, смотришь, гости приехали – опять пошло, а здесь раз в год!
Он за обедом подавал первому Обломову и ни за что не соглашался подать какому-то господину с большим крестом на шее.
– Наш-то столбовой, – гордо говорил он, – а это что за гости!
Тарантьеву, сидевшему на конце, вовсе не подавал или сам сваливал ему на тарелку кушанье, сколько заблагорассудит.
Все сослуживцы Ивана Матвеевича были налицо, человек тридцать.
Огромная форель, фаршированные цыплята, перепелки, мороженое и отличное вино – все это достойно ознаменовало годичный праздник.
Гости под конец обнимались, до небес превозносили вкус хозяина и потом сели за карты. Мухояров кланялся и благодарил, говоря, что он, для счастья угостить дорогих гостей, не пожалел третного будто бы жалованья.
К утру гости разъехались и разошлись, с грехом пополам, и опять все смолкло в доме до Ильина дня.
В этот день из посторонних были только в гостях у Обломова Иван Герасимович и Алексеев, безмолвный и безответный гость, который звал в начале рассказа Илью Ильича на первое мая. Обломов не только не хотел уступить Ивану Матвеевичу, но старался блеснуть тонкостью и изяществом угощения, неизвестными в этом углу.
Вместо жирной кулебяки явились начиненные воздухом пирожки; перед супом подали устриц; цыплята в папильотках, с трюфелями, сладкие мяса, тончайшая зелень, английский суп.
Посредине стола красовался громадный ананас, и кругом лежали персики, вишни, абрикосы. В вазах живые цветы.
Только принялись за суп, только Тарантьев обругал пирожки и повара, за глупую выдумку ничего не класть в них, как послышалось отчаянное скаканье и лай собаки на цепи.
На двор въехал экипаж, и кто-то спрашивал Обломова. Все и рты разинули.
– Кто-нибудь из прошлогодних знакомых вспомнил мои именины, – сказал Обломов, – дома нет, скажи – дома нет! – кричал он шепотом Захару.
Обедали в саду, в беседке, Захар бросился было отказать и столкнулся на дорожке с Штольцем.
– Андрей Иваныч, – прохрипел он радостно.
– Андрей! – громко воззвал к нему Обломов и бросился обнимать его.
– Как я кстати, к самому обеду! – сказал Штольц, – накорми меня; я голоден. Насилу отыскал тебя!
– Пойдем, пойдем, садись! – суетливо говорил Обломов, сажая его подле себя.
При появлении Штольца Тарантьев первый проворно переправился через плетень и шагнул в огород; за ним скрылся за беседку Иван Матвеевич и исчез в светлицу. Хозяйка тоже поднялась с места.
– Я помешал, – сказал Штольц, вскакивая.
– Куда это, зачем? Иван Матвеич! Михей Андреич! – кричал Обломов.
Хозяйку он усадил на свое место, а Ивана Матвеевича и Тарантьева дозваться не мог.
– Откуда, как, надолго ли? – посыпались вопросы.
Штольц приехал на две недели, по делам, и отправлялся в деревню, потом в Киев и еще Бог знает куда.
Штольц за столом говорил мало, но ел много: видно, что он в самом деле был голоден. Прочие и подавно ели молча.
После обеда, когда все убрали со стола, Обломов велел оставить в беседке шампанское и сельтерскую воду и остался вдвоем с Штольцем.
Они молчали некоторое время. Штольц пристально и долго глядел на него.
– Ну, Илья?! – сказал он наконец, но так строго, так вопросительно, что Обломов смотрел вниз и молчал. – Стало быть, «никогда»?
– Что «никогда»? – спросил Обломов, будто не понимая.
– Ты уж забыл: «Теперь или никогда!»
– Я не такой теперь… что был тогда, Андрей, – сказал он наконец, – дела мои, слава Богу, в порядке: я не лежу праздно, план почти кончен, выписываю два журнала; книги, что ты оставил, почти все прочитал…
– Отчего ж не приехал за границу? – спросил Штольц.
– За границу мне помешала приехать…
Он замялся.
– Ольга? – сказал Штольц, глядя на него выразительно.
Обломов вспыхнул.
– Как, ужели ты слышал… Где она теперь? – быстро спросил он, взглянув на Штольца.
Штольц, не отвечая, продолжал смотреть на него, глубоко заглядывая ему в душу.
– Я слышал, она с теткой уехала за границу, – говорил Обломов, – вскоре…
– Вскоре после того, как узнала свою ошибку, – договорил Штольц.
– Разве ты знаешь… – говорил Обломов, не зная, куда деваться от смущенья.
– Все, – сказал Штольц, – даже и о ветке сирени. И тебе не стыдно, не больно, Илья? не жжет тебя раскаяние, сожаление?..
– Не говори, не поминай! – торопливо перебил его Обломов, – я и то вынес горячку, когда увидел, какая бездна лежит между мной и ею, когда убедился, что я не стою ее… Ах, Андрей! если ты любишь меня, не мучь, не поминай о ней: я давно указывал ей ошибку, она не хотела верить… право, я не очень виноват…
– Я не виню тебя, Илья, – дружески, мягко продолжал Штольц, – я читал твое письмо. Виноват больше всех я, потом она, потом уж ты, и то мало.
– Что она теперь? – робко спросил Обломов.
– Что: грустит, плачет неутешными слезами и проклинает тебя…
Испуг, сострадание, ужас, раскаяние с каждым словом являлись на лице Обломова.
– Что ты говоришь, Андрей! – сказал он, вставая с места. – Поедем, ради Бога, сейчас, сию минуту: я у ног ее выпрошу прошение…
– Сиди смирно! – перебил Штольц, засмеявшись, – она весела, даже счастлива, велела кланяться тебе и хотела писать, но я отговорил, сказал, что это тебя взволнует.
– Ну, слава Богу! – почти со слезами произнес Обломов, – как я рад, Андрей, позволь поцеловать тебя и выпьем за ее здоровье.
Они выпили по бокалу шампанского.
– Где же она теперь?
– Теперь в Швейцарии. К осени она с теткой поедет к себе в деревню. Я за этим здесь теперь: нужно еще окончательно похлопотать в палате. Барон не доделал дела; он вздумал посвататься за Ольгу…
– Ужели? Так это правда? – спросил Обломов, – ну, что ж она?
– Разумеется, что: отказала; он огорчился и уехал, а я вот теперь доканчивай дела! На той неделе все кончится. Ну, ты что? Зачем ты забился в эту глушь?
– Покойно здесь, тихо, Андрей, никто не мешает…
– В чем?
– Заниматься…
– Помилуй, здесь та же Обломовка, только гаже, – говорил Штольц, оглядываясь. – Поедем-ка в деревню, Илья.
– В деревню… хорошо, пожалуй: там же стройка начнется скоро, только не вдруг, Андрей, дай сообразить…
– Опять сообразить! Знаю я твои соображения: сообразишь, как года два назад сообразил ехать за границу. Поедем на той неделе.
– Как же вдруг, на той неделе? – защищался Обломов, – ты на ходу, а мне ведь надо приготовиться… У меня здесь все хозяйство: как я кину его? У меня ничего нет.
– Да ничего и не надо. Ну, что тебе нужно?
Обломов молчал.
– Здоровье плохо, Андрей, – сказал он, – одышка одолевает. Ячмени опять пошли, то на том, то на другом глазу, и ноги стали отекать. А иногда заспишься ночью, вдруг точно ударит кто-нибудь по голове или по спине, так что вскочишь…
– Послушай, Илья, серьезно скажу тебе, что надо переменить образ жизни, иначе ты наживешь себе водяную или удар. Уж с надеждами на будущность – кончено: если Ольга, этот ангел, не унес тебя на своих крыльях из твоего болота, так я ничего не сделаю. Но избрать себе маленький круг деятельности, устроить деревушку, возиться с мужиками, входить в их дела, строить, садить – все это ты должен и можешь сделать… Я от тебя не отстану. Теперь уж слушаюсь не одного своего желания, а воли Ольги: она хочет – слышишь? – чтоб ты не умирал совсем, не погребался заживо, и я обещал откапывать тебя из могилы…
– Она еще не забыла меня! Да стою ли я! – сказал Обломов с чувством.
– Нет, не забыла и, кажется, никогда не забудет: это не такая женщина. Ты еще должен ехать к ней в деревню, в гости.
– Не теперь только, ради Бога, не теперь, Андрей! Дай забыть. Ах, еще здесь…
Он указал на сердце.
– Что здесь? Не любовь ли? – спросил Штольц.
– Нет, стыд и горе! – со вздохом ответил Обломов.
– Ну, хорошо! Поедем к тебе: ведь тебе строиться надо; теперь лето, драгоценное время уходит…
– Нет, у меня поверенный есть. Он и теперь в деревне, а я могу после приехать, когда соберусь, подумаю.
Он стал хвастаться перед Штольцем, как, не сходя с места, он отлично устроил дела, как поверенный собирает справки о беглых мужиках, выгодно продает хлеб и как прислал ему полторы тысячи и, вероятно, соберет и пришлет в этом году оброк.
Штольц руками всплеснул при этом рассказе.
– Ты ограблен кругом! – сказал он. – С трехсот душ полторы тысячи рублей! Кто поверенный? Что за человек?
– Больше полуторы тысячи, – поправил Обломов, – он из выручки же за хлеб получил вознаграждение за труд…
– Сколько ж?
– Не помню, право, да я тебе покажу: у меня где-то есть расчет.
– Ну, Илья! Ты в самом деле умер, погиб! – заключил он. – Одевайся, поедем ко мне!
Обломов стал было делать возражения, но Штольц почти насильно увез его к себе, написал доверенность на свое имя, заставил Обломова подписать и объявил ему, что он берет Обломовку на аренду до тех пор, пока Обломов сам приедет в деревню и привыкнет к хозяйству.
– Ты будешь получать втрое больше, – сказал он, – только я долго твоим арендатором не буду, – у меня свои дела есть. Поедем в деревню теперь, или приезжай вслед за мной. Я буду в имении Ольги: это в трехстах верстах, заеду и к тебе, выгоню поверенного, распоряжусь, а потом являйся сам. Я от тебя не отстану.
Обломов вздохнул.
– Ах, жизнь! – сказал он.
– Что жизнь?
– Трогает, нет покоя! Лег бы и заснул… навсегда…
– То есть погасил бы огонь и остался в темноте! Хороша жизнь! Эх, Илья! ты хоть пофилософствовал бы немного, право! Жизнь мелькнет, как мгновение, а он лег бы да заснул! Пусть она будет постоянным горением! Ах, если б прожить лет двести, триста! – заключил он, – сколько бы можно было переделать дела!
– Ты – другое дело, Андрей, – возразил Обломов, – у тебя крылья есть: ты не живешь, ты летаешь; у тебя есть дарования, самолюбие, ты вон не толст, не одолевают ячмени, не чешется затылок. Ты как-то иначе устроен…
– Э, полно! Человек создан сам устроивать себя и даже менять свою природу, а он отрастил брюхо да и думает, что природа послала ему эту ношу! У тебя были крылья, да ты отвязал их.
– Где они, крылья-то? – уныло говорил Обломов. – Я ничего не умею…
– То есть не хочешь уметь, – перебил Штольц. – Нет человека, который бы не умел чего-нибудь, ей-богу нет!
– А вот я не умею! – сказал Обломов.
– Тебя послушать, так ты и бумаги не умеешь в управу написать, и письма к домовому хозяину, а к Ольге письмо написал же? Не путал там которого и что? И бумага нашлась атласная, и чернила из английского магазина, и почерк бойкий: что?
Обломов покраснел.
– Понадобилось, так явились и мысли и язык, хоть напечатать в романе где-нибудь. А нет нужды, так и не умею, и глаза не видят, и в руках слабость! Ты свое уменье затерял еще в детстве, в Обломовке, среди теток, нянек и дядек. Началось с неуменья надевать чулки и кончилось неуменьем жить.
– Все это, может быть, правда, Андрей, да делать нечего, не воротишь! – с решительным вздохом сказал Илья.
– Как не воротишь! – сердито возразил Штольц. – Какие пустяки. Слушай да делай, что я говорю, вот и воротишь!
Но Штольц уехал в деревню один, а Обломов остался, обещаясь приехать к осени.
– Что сказать Ольге? – спросил Штольц Обломова перед отъездом.
Обломов наклонил голову и печально молчал; потом вздохнул.
– Не поминай ей обо мне! – наконец сказал он в смущении, – скажи, что не видал, не слыхал…
– Она не поверит, – возразил Штольц.
– Ну скажи, что я погиб, умер, пропал…
– Она заплачет и долго не утешится: за что же печалить ее?
Обломов задумался с умилением; глаза были влажны.
– Ну, хорошо; я солгу ей, скажу, что ты живешь ее памятью, – заключил Штольц, – и ищешь строгой и серьезной цели. Ты заметь, что сама жизнь и труд есть цель жизни, а не женщина: в этом вы ошибались оба. Как она будет довольна!
Они простились.
III
Тарантьев и Иван Матвеевич на другой день Ильина дня опять сошлись вечером в заведении.
– Чаю! – мрачно приказывал Иван Матвеевич, и когда половой подал чай и ром, он с досадой сунул ему бутылку назад. – Это не ром, а гвозди! – сказал он и, вынув из кармана пальто свою бутылку, откупорил и дал понюхать половому.
– Не суйся же вперед с своей, – заметил он.
– Что, кум, ведь плохо! – сказал он, когда ушел половой.
– Да, черт его принес! – яростно возразил Тарантьев. – Каков шельма, этот немец! Уничтожил доверенность да на аренду имение взял! Слыханное ли это дело у нас? Обдерет же он овечку-то.
– Если он дело знает, кум, я боюсь, чтоб там чего не вышло. Как узнает, что оброк-то собран, а получили-то его мы, да, пожалуй, дело затеет…
– Уж и дело! Труслив ты стал, кум! Затертый не первый раз запускает лапу в помещичьи деньги, умеет концы прятать. Расписки, что ли, он дает мужикам: чай, с глазу на глаз берет. Погорячится немец, покричит, и будет с него. А то еще дело!
– Ой ли? – развеселясь, сказал Мухояров. – Ну, выпьем же.
Он подлил рому себе и Тарантьеву.
– Глядишь, кажется, нельзя и жить на белом свете, а выпьешь, можно жить! – утешался он.
– А ты тем временем вот что сделаешь, кум, – продолжал Тарантьев, – ты выведи какие-нибудь счеты, какие хочешь, за дрова, за капусту, ну, за что хочешь, благо Обломов теперь передал куме хозяйство, и покажи сумму в расход. А Затертый, как приедет, скажем, что привез оброчных денег столько-то и что в расход ушли.
– А как он возьмет счеты да покажет после немцу, тот сосчитает, так, пожалуй, того…
– Во-на! Он их сунет куда-нибудь, и сам черт не сыщет. Когда-то еще немец приедет, до тех пор забудется…
– Ой ли? Выпьем, кум, – сказал Иван Матвеевич, наливая в рюмку, – жалко разбавлять чаем добро. Ты понюхай: три целковых. Не заказать ли селянку?
– Можно.
– Эй!
– Нет, каков шельма! «Дай, говорит, мне на аренду», – опять с яростью начал Тарантьев, – ведь нам с тобой, русским людям, этого в голову бы не пришло! Это заведение-то немецкой стороной пахнет. Там все какие-то фермы да аренды. Вот постой, он его еще акциями допечет.
– Что это за акции такие, я все не разберу хорошенько? – спросил Иван Матвеевич.
– Немецкая выдумка! – сказал Тарантьев злобно. – Это, например, мошенник какой-нибудь выдумает делать несгораемые домы и возьмется город построить: нужны деньги, он и пустит в продажу бумажки, положим, по пятьсот рублей, а толпа олухов и покупает, да и перепродает друг другу. Послышится, что предприятие идет хорошо, бумажки вздорожают, худо – все и лопнет. У тебя останутся бумажки, а денег-то нет. Где город? спросишь: сгорел, говорят, не достроился, а изобретатель бежал с твоими деньгами. Вот они, акции-то! Немец уж втянет его! Диво, как до сих пор не втянул! Я все мешал, благодетельствовал земляку!
– Да, эта статья кончена: дело решено и сдано в архив; заговелись мы оброк-то получать с Обломовки… – говорил, опьянев немного, Мухояров.
– А черт с ним, кум! У тебя денег-то лопатой не переворочаешь! – возражал Тарантьев, тоже немного в тумане, – источник есть верный, черпай только, не уставай. Выпьем!
– Что, кум, за источник? По целковому да по трехрублевому собираешь весь век…
– Да ведь двадцать лет собираешь, кум: не греши!
– Уж и двадцать! – нетвердым языком отозвался Иван Матвеевич, – ты забыл, что я всего десятый год секретарем. А прежде гривенники да двугривенные болтались в кармане, а иногда, срам сказать, зачастую и медью приходилось собирать. Что это за жизнь! Эх, кум! Какие это люди на свете есть счастливые, что за одно словцо, так вот шепнет на ухо другому, или строчку продиктует, или просто имя свое напишет на бумаге – и вдруг такая опухоль сделается в кармане, словно подушка, хоть спать ложись. Вот бы поработать этак-то, – замечтал он, пьянея все более и более, – просители и в лицо почти не видят, и подойти не смеют. Сядет в карету, «в клуб!» – крикнет, а там, в клубе-то, в звездах руку жмут, играет-то не по пятачку, а обедает-то, обедает – ах! Про селянку и говорить постыдится: сморщится да плюнет. Нарочно зимой цыплят делают к обеду, землянику в апреле подадут! Дома жена в блондах, у детей гувернантка, ребятишки причесанные, разряженные. Эх, кум! Есть рай, да грехи не пускают. Выпьем! Вон и селянку несут!
– Не жалуйся, кум, не греши: капитал есть, и хороший… – говорил опьяневший Тарантьев с красными, как в крови, глазами. – Тридцать пять тысяч серебром – не шутка!
– Тише, тише, кум! – прервал Иван Матвеевич. – Что ж, все тридцать пять! Когда до пятидесяти дотянешь? Да с пятидесятью в рай не попадешь. Женишься, так живи с оглядкой, каждый рубль считай, об ямайском забудь и думать – что это за жизнь!
– Зато покойно, кум; тот целковый, тот два – смотришь, в день рублей семь и спрятал. Ни привязки, ни придирки, ни пятен, ни дыму. А под большим делом подпишешь иной раз имя, так после всю жизнь и выскабливаешь боками. Нет, брат, не греши, кум!
Иван Матвеевич не слушал и давно о чем-то думал.
– Послушай-ка, – вдруг начал он, выпучив глаза и чему-то обрадовавшись, так что хмель почти прошел, – да нет, боюсь, не скажу, не выпущу из головы такую птицу. Вот сокровище-то залетело… Выпьем, кум, выпьем скорей!
– Не стану, пока не скажешь, – говорил Тарантьев, отодвигая рюмку.
– Дело-то, кум, важное, – шептал Мухояров, поглядывая на дверь.
– Ну?.. – нетерпеливо спросил Тарантьев.
– Вот набрел на находку. Ну, знаешь что, кум, ведь это все равно, что имя под большим делом подписать, ей-богу так!
– Да что, скажешь ли?
– А магарыч-то какой? магарыч?
– Ну? – понукал Тарантьев.
– Погоди, дай еще подумать. Да, тут нечего уничтожить, тут закон. Так и быть, кум, скажу, и то потому, что ты нужен; без тебя неловко. А то, видит Бог, не сказал бы; не такое дело, чтоб другая душа знала.
– Разве я другая душа для тебя, кум? Кажется, не раз служил тебе, и свидетелем бывал, и копии… помнишь? Свинья ты этакая!
– Кум, кум! Держи язык за зубами. Вон ведь ты какой, из тебя, как из пушки, так и палит!
– Кой черт услышит здесь? Не помню, что ли, я себя? – с досадой сказал Тарантьев. – Что ты меня мучишь? Ну, говори.
– Слушай же: ведь Илья Ильич трусоват, никаких порядков не знает: тогда от контракта голову потерял, доверенность прислали, так не знал, за что приняться, не помнит даже, сколько оброку получает, сам говорит: «Ничего не знаю…»
– Ну? – нетерпеливо спросил Тарантьев.
– Ну, вот он к сестре-то больно часто повадился ходить. Намедни часу до первого засиделся, столкнулся со мной в прихожей и будто не видал. Так вот, поглядим еще, что будет, да и того… Ты стороной и поговори с ним, что бесчестье в доме заводить нехорошо, что она вдова: скажи, что уж об этом узнали; что теперь ей не выйти замуж; что жених присватывался, богатый купец, а теперь прослышал, дескать, что он по вечерам сидит у нее, не хочет.
– Ну, что ж, он перепугается, повалится на постель, да и будет ворочаться, как боров, да вздыхать – вот и все, – сказал Тарантьев. – Какая же выгода? Где магарыч?
– Экой какой! А ты скажи, что пожаловаться хочу, что будто подглядели за ним, что свидетели есть…
– Ну?
– Ну, коли перепугается очень, ты скажи, что можно помириться, пожертвовать маленький капитал.
– Где у него деньги-то? – спросил Тарантьев. – Он обещать-то обещает со страху хоть десять тысяч…
– Ты мне только мигни тогда, а я уж заемное письмецо заготовлю… на имя сестры: «занял я, дескать, Обломов, у такой-то вдовы десять тысяч, сроком и т. д.».
– Что ж толку-то, кум? Я не пойму: деньги достанутся сестре и ее детям. Где ж магарыч?
– А сестра мне даст заемное письмо на таковую же сумму; я дам ей подписать.
– Если она не подпишет? упрется?
– Сестра-то!
И Иван Матвеевич залился тоненьким смехом.
– Подпишет, кум, подпишет, свой смертный приговор подпишет и не спросит что, только усмехнется, «Агафья Пшеницына» подмахнет в сторону, криво и не узнает никогда, что подписала. Видишь ли: мы с тобой будем в стороне: сестра будет иметь претензию на коллежского секретаря Обломова, а я на коллежской секретарше Пшеницыной. Пусть немец горячится – законное дело! – говорил он, подняв трепещущие руки вверх. – Выпьем, кум!
– Законное дело! – в восторге сказал Тарантьев. – Выпьем.
– А как удачно пройдет, можно годика через два повторить; законное дело!
– Законное дело! – одобрительно кивнув, провозгласил Тарантьев. – Повторим и мы!
– Повторим!
И они выпили.
– Вот как бы твой земляк-то не уперся да не написал предварительно к немцу, – опасливо заметил Мухояров, – тогда, брат, плохо! Дела никакого затеять нельзя: она вдова, не девица!
– Напишет! Как не напишет! Года через два напишет, – сказал Тарантьев. – А упираться станет – обругаю…
– Нет, нет, Боже сохрани! Все испортишь, кум: скажет, что принудили, пожалуй, упомянет про побои, уголовное дело. Нет, это не годится! А вот что можно; предварительно закусить с ним и выпить; он смородиновку-то любит. Как в голове зашумит, ты и мигни мне: я и войду с письмецом-то. Он и не посмотрит сумму, подпишет, как тогда контракт, а после поди, как у маклера будет засвидетельствовано, допрашивайся! Совестно будет этакому барину сознаваться, что подписал в нетрезвом виде; законное дело!
– Законное дело! – повторил Тарантьев.
– Пусть тогда Обломовка достается наследникам.
– Пусть достается! Выпьем, кум.
– За здоровье олухов! – сказал Иван Матвеевич. Они выпили.







