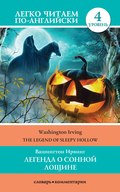Вашингтон Ирвинг
История Нью-Йорка
Члены тайного совета, уже давно привыкшие к повадкам губернатора и вымуштрованные им, словно солдаты великого Фридриха,[480] понимали, 1-го высказывать свое мнение бесполезно, а потому закурили трубки и молча пускали клубы дыма, как подобает толстым и рассудительным советникам. Но бургомистры, на которых губернатор не имел такого влияния, рассматривали себя как представителей державного народа и к тому же были преисполнены большой важности и самодовольства, почерпнутых ими в знаменитых школах мудрости и нравственности – народных собраниях (некоторые из них, как мне говорили, были председателями этих собраний), – бургомистры не так-то легко удовлетворились. Они снова воспрянули духом, когда услышали, что появилась возможность спастись от нависшей над ними смертельной опасности, избежав при этом необходимости сражаться, и надменно заявили, что желают получить копию требования о капитуляции, чтобы ознакомить с ним собрание всех жителей города.
Такого наглого и мятежного заявления было бы достаточно, чтобы привести в негодование даже спокойного Ван-Твиллера; как же должно было оно подействовать на великого Стайвесанта, который был не только голландцем, губернатором и доблестным солдатом с деревянной ногой, но также человеком самого упрямого и вспыльчивого нрава. Он разразился такой вспышкой ярости, по сравнению с которой знаменитый гнев Ахиллеса был просто детским капризом, и поклялся, что никто из них не увидит ни строчки из послания англичан, что все они заслужили, чтобы их повесили, выпотрошили и разрезали на части, ибо они предательски осмелились усомниться в непогрешимости правительства; а что касается их совета или содействия, то ему на них наплевать. Он заявил, что трусливые муниципалитеты давно уже надоели ему и стали поперек дороги, но теперь бургомистры могут отправиться домой и улечься спать, как старухи, ибо он решил защищать колонию сам, без их помощи и без помощи тех, кто их поддерживает! С этими словами он сунул саблю под мышку, надел набекрень шляпу и, опоясав чресла, покинул залу заседания; все расступались перед ним, давая ему дорогу.
Как только он ушел, храбрые бургомистры созвали народное собрание перед ратушей, назначив председательствовать на нем некоего Дофуе Рурбака, пекаря, прославившегося на всю страну своими пряниками и прежде при Вильяме Упрямом бывшего членом совета. Народ относился к нему с большим почтением, считая его чернокнижником, ибо он первый стал печатать на новогодних пряниках таинственные изображения петуха и шлеи и других магических символов.
Этот великий бургомистр, все еще питавший недоброжелательство к доблестному Стайвесанту из-за того, что был с позором выкинут из его тайного совета, обратился к грубой толпе с чрезвычайно длинной речью, в которой рассказал о любезном предложении сдаться, о несогласии губернатора и об его отказе показать народу это предложение, хотя – хорошо зная великодушие, человеколюбие и снисходительность британского народа, он в этом не сомневается – в нем содержались условия, не умаляющие достоинства провинции и весьма для нее выгодные.
Затем он стал говорить об его превосходительстве в высокопарном тоне, соответствующем его высокому положению и благородству; он сравнивал его с Нероном,[481] Калигулой[482] и другими великими людьми древности, о которых частенько говаривал Вильям Упрямый, когда бывал в ученом настроении. Он уверял народ, что история человечества не знала деспотического насилия, равного нынешнему по жестокости, лютости, тиранству, кровожадности, по количеству битв, убийств и скоропостижных смертей, что это будет огненными буквами записано на залитых кровью скрижалях истории! что столетия отпрянут в безмерном ужасе, когда увидят их. Что грядущее время, чреватое (кстати сказать, наши ораторы и писатели позволяют себе странные вольности с чреватостью времени, хотя некоторые готовы заверить нас, что время – это старый джентльмен), чреватое страшными ужасами, никогда не породит подобных гнусностей! Что потомство окаменеет от изумления и взвоет от бессильного негодования, прочитав о закоренелом варварстве! Дальше шло множество других душераздирающих, трогающих до глубины сердца тропов и фигур, перечислить которые я не в состоянии. Да, в сущности, это и не нужно, ибо они были в точности такие же, к каким в наше время прибегают во всех обращенных к народу речах и ораторских упражнениях в день Четвертого июля; под общим названием ПУСТОСЛОВИЕ их можно было бы поместить в учебниках риторики.
Патриотическая речь бургомистра Рурбака произвела изумительное действие на толпу, которая, хотя и состояла из трезвых, флегматических голландцев, умела на удивление быстро распознавать оскорбления, ибо наша оборванная чернь, по большей части безропотно сносящая все обиды, всегда проявляет удивительную мнительность, когда затрагивают ее достоинство как высшей власти. После тяжелых мук участники собрания произвели на свет не только ряд очень мудрых и смелых постановлений, но также и весьма решительное послание, адресованное губернатору и осуждавшее его поведение; великий Питер, как только получил его, сразу же бросил в огонь и таким образом лишил потомство неоценимого документа, который мог бы послужить образцом для просвещенных сапожников и портных наших дней при их мудром вмешательстве в политику.
ГЛАВА VII
В которой содержится описание горестной гибели Антоны Трубача и того, как Питер Стайвесант, подобно второму Кромвелю, внезапно распустил охвостье парламента.[483]
И вот гордый Питер Великий обрушил целый короб благословений на головы своих бургомистров, этой шайки своевольных, упрямых, норовистых мошенников, которых нельзя ни убедить, ни разубедить; он решил впредь не иметь с ними никакого дела и принимать в соображение лишь мнение членов своего тайного совета, так как по опыту знал, что оно самое лучшее в мире, поскольку никогда не расходится с его собственным. Теперь, распалившись, он не преминул наградить тысячью сомнительных комплиментов державный народ, обозвав его стадом отъявленных трусов, не понимающих вкуса в благородных тяготах и славных злоключениях битв и предпочитающих оставаться дома, есть и спать в подлом довольстве, вместо того, чтобы приобрести бессмертие и проломить себе голову, доблестно сражаясь в какой-нибудь канаве.
Твердо решив, однако, защищать свой любимый город даже вопреки желанию его жителей, Питер Стайвесант призвал к себе верного Ван-Корлеара, который был его правой рукой при всех трудных обстоятельствах. Он упросил его взять свою трубу – вестницу войны, сесть на коня и призвать народ к оружию, днем и ночью разъезжая по стране, трубя тревогу вдоль границ пастушеского Бронкса, будя пустынные просторы Кротона, поднимая суровых фермеров Уихоука и Хобокена, могучих воинов с залива Тапан[484] и храбрых молодцов из Тарритауна и Слипи-Холлоу, а также всех других ратных людей страны, живущих поблизости. Всем и каждому он должен был приказать повесить через плечо пороховницу, закинуть за спину охотничье ружье и весело зашагать на Манхатез.
Не было ничего на свете, исключая прекрасный пол, что Антони Ван-Корлеар любил больше, чем такого рода поручения. Итак, задержавшись только для того, чтобы сытно пообедать и привязать сбоку свою фляжку, до краев наполненную веселящей сердце голландской можжевеловой водкой, он радостно выехал из городских ворот, выходивших на то, что ныне называется Бродвей. Как всегда, он протрубил прощальную мелодию, отозвавшуюся бодрым эхом на извилистых улицах Нового Амстердама. Увы! Никогда больше не будет их весело оглашать музыка любимого трубача!
Была темная и ненастная ночь, когда славный Антони добрался до знаменитого пролива (мудро названного рекой Харлем), отделяющего остров Манна-хату от материка. Дул сильный ветер, стихии бушевали и нигде нельзя было найти Харона, который перевез бы отважного трубача на другой берег. Стоя у края воды, он несколько минут проклинал все на свете, как нетерпеливый дух, затем, вспомнив о срочности данного ему поручения, нежно обнял свою каменную флягу, храбро поклялся, что переплывет на ту сторону en spijt den Duyvel (на зло дьяволу!), и отважно бросился в воду. Несчастный Антони! Едва он преодолел половину пути, как с берега увидели, что он отчаянно борется, словно сражается с духом вод; бессознательно он приставил свою трубу ко рту и, оглушительно затрубив, навсегда опустился на дно!
Мощные звуки его трубы, как звуки рога из слоновой кости знаменитого паладина Роланда,[485] которыми тот, умирая, огласил славное поле битвы в Ронсевальском ущелье, разнеслись далеко кругом, встревожив всех окрестных жителей, в удивлении поспешивших туда, откуда они доносились. Там старый голландский бюргер, очевидец случившегося, известный своей правдивостью, рассказал им о печальном событии; он добавил также страшные подробности (им я не очень склонен верить), будто на его глазах дьявол в образе громадной сельди с невидимым огненным хвостом, извергающей кипящую воду, схватил храброго Антони за ногу и утащил его вглубь. Как бы там ни было, это место и соседний мыс, выступающий в Гудзон, с тех пор называются Spijt den Duyvel, или Спайкинг-Девил. Беспокойный дух несчастного Антони все еще бродит вокруг в чаще, и в ненастные ночи соседи часто слышат звуки его трубы, сливающиеся с воем ветра. Никто больше не решался переплыть пролив после наступления темноты; построили даже мост, чтобы предотвратить в будущем повторение подобного печального события. А что касается сельди, то к ней питают такое отвращение, что истинный голландец не позволит подать ее к своему столу, так как любит хорошую рыбу и ненавидит дьявола.
Таков был конец Антони Ван-Корлеара – человека, заслуживавшего лучшей участи. Он жил припеваючи, как настоящий веселый холостяк, до самой смерти; но хотя он никогда не был женат, тем не менее после него остались две-три дюжины детей в разных частях страны – пригожих, круглолицых, толстопузых, горластых мальчуганов, от которых, если верить преданиям (а они обычно не лгут), произошло бесчисленное племя газетных издателей, населяющих и защищающих нашу страну и щедро вознаграждаемых народом за то, что они постоянно трубят тревогу и лишают его покоя. Как жаль, что наряду с могучей глоткой они не смогли унаследовать и других достоинств своего прославленного предка!
Известия об этом прискорбном несчастье отозвались в груди Питера Стайвесанта еще более тяжкой мукой, чем даже нападение на его любимый Амстердам. Они безжалостно задели за живое те нежные чувства, что таятся в самом сердце и питаются наиболее теплой его кровью. Так, покинутый всеми пилигрим влачится по бездорожью пустыни, – между тем как жестокая буря со свистом развевает его седые волосы и со всех сторон надвигается мрачная ночь – и вдруг с горестью видит, что его верный пес, его единственный спутник в одиноких скитаниях, деливший его унылую трапезу, так часто лизавший ему руку в скромной благодарности, покоившийся у него на груди и как бы заменявший ему ребенка, лежит теперь окоченевший и бездыханный. С такой же горестью думал наш благородный герой Манхатеза о безвременной кончине своего верного Антони. Он был его скромным неразлучным спутником, много раз развлекал его в тяжелые минуты своим искренним весельем, с любовью и верностью следовал за ним по пути ужасных опасностей и злоключений. Он ушел навсегда… и как раз тогда, когда каждая ничтожная дворняжка норовит убежать. То было, Питер Стайвесант, то было мгновение, когда ты должен был проявить величие своей души, и в это мгновение ты действительно проявил себя Питером Твердоголовым! Сияние дня давно рассеяло ужасы минувшей ненастной ночи, но все было печально и сумрачно. Аполлон, еще недавно радостный, спрятал свое лицо за черными тучами; лишь на секунду он выглядывал то здесь, то там, как бы желая, но страшась увидеть, что происходит в его любимом городе. Это было знаменательное утро, когда великий Питер должен был дать ответ на дерзкое требование захватчиков. Он уже собрал свой тайный совет и, объятый скорбью, то предавался грустным мыслям о судьбе любимого трубача, то закипал вдруг от негодования, вспомнив о малодушных бургомистрах. Когда он сидел так, раздраженный до последней крайности, в залу поспешно вошел гонец от Уинтропа,[486] лукавого губернатора Коннектикута; уверяя в своей беспристрастности, Уинтроп наилюбезнейшим образом убеждал его сдать провинцию и преувеличивал опасности и бедствия, грозящие ей в случае его отказа. Подходящий момент был выбран для того, чтобы лезть с назойливыми советами к человеку, за всю свою жизнь никогда не принимавшему ничьих советов! Вспыльчивый старый губернатор шагал взад и вперед по зале с такой яростью, что грудь его советников затрепетала от ужаса, и проклинал свою злосчастную судьбу, постоянно насылавшую на его голову мятежных подданных и коварных советчиков.
Как раз в эту неудачную минуту назойливые бургомистры, бывшие теперь всегда настороже и проведавшие о получении таинственного послания, решительной поступью вошли в залу, сопровождаемые толпой схепенов и прихвостней, и резко потребовали ознакомить их с письмом. Чтобы к нему ворвались те, кого он считал «подлой чернью», да еще в то самое время, когда он скрежетал зубами, раздраженный наглым советом, полученным от губернатора соседней провинции, это было уже слишком для вспыльчивого Питера. Он разорвал письмо на тысячу клочков,[487] бросил его в лицо ближайшему бургомистру, сломал свою трубку о голову следующего, запустил плевательницей в злосчастного схепена, который как раз пытался ловко ускользнуть в дверь, и наконец разогнал собрание sine die, спустив всех с лестницы пинками своей деревянной ноги!
Как только бургомистры пришли в себя от замешательства, в которое повергло их внезапное изгнание, и немного отдышались, они заявили протест против поведения губернатора, без колебания назвав таковое тираническим, антиконституционным, весьма непристойным и несколько непочтительным. Затем они созвали народное собрание, прочли там свой протест и обратились к присутствующим с тщательно подготовленной речью, со всеми подробностями, в надлежащем освещении и с обычными преувеличениями сообщив в ней о деспотическом и мстительном образе действий губернатора и сказав, что лично они не видят для себя никакой обиды в тех пинках, тумаках и ударах, которыми их наградила деревянная нога его превосходительства, но что они страдают душой за достоинство державного народа, столь грубо попранное насилием, учиненным над благородными задами их представителей. Последняя часть речи произвела сильное действие на народ, так как сразу же задела за живое те тонкие чувства и ревнивую гордость, что свойственны всякой истинной черни; неизвестно, до чего бы он, подстрекаемый бургомистрами, мог пойти в своем мщении грозному Твердоголовому Питу, если бы эти грязные негодяи не боялись своего храброго старого губернатора больше, чем святого Николая, англичан или самого черта.
ГЛАВА VIII
В которой показано, как Питер Стайвесант твердостью своей головы несколько дней защищал Новый Амстердам.
Повремени, о, глубокоуважаемый читатель! и на мгновение останови свой взгляд на величественном и печальном зрелище, какое открывается перед тобой в эти решительные минуты! Ты увидишь знаменитый и почтенный маленький город, столицу раскинувшейся на бескрайних просторах, цветущей, но непросвещенной (ибо необитаемой) страны, город с гарнизоном из толпы отважных ораторов, председателей, членов комитета, бургомистров, схепенов и старух, управляемый решительным и твердоголовым воином, укрепленный земляными батареями, палисадами и постановлениями, подвергнутый морской блокаде и осажденный с суши, город, которому грозят ужасные беды извне, между тем как внутренняя крамола и волнения разрывают на части, терзают и сводят судорогами все его самые существенные органы! Никогда под пером историка не воскресала страница более запутанных и бедственных событий, разве только при описании борьбы, раздиравшей израильтян во время осады Иерусалима,[488] где враждующие партии уничтожали друг друга в то самое время, когда победоносные легионы Тита смели их крепостные укрепления и ворвались с огнем и мечом в святую святых храма.
Губернатор Стайвесант, с триумфом обратив в бегство, как мы уже рассказывали, свой великий совет и освободившись таким образом от множества наглых советчиков, отправил решительный ответ командующему вражеской эскадры, в котором настаивал на правах и привилегиях Высокомощных Господ Генеральных Штатов на провинцию Новые Нидерланды, и, уверенный в правоте своего дела, бросал вызов всему британскому народу! Стремясь избавить читателей и себя самого от описания бедственных событий, я не стану приводить полностью это весьма учтивое и благородное послание, заканчивавшееся следующими мужественными и приветливыми словами:
«Что касается тех угроз, которыми вы заключаете ваше послание, то мы можем на них ответить только одно: мы не боимся ничего, кроме того, что будет ниспослано нам богом (который столь же справедлив, сколь и милостив); все находится в его благостных руках, и мы с малыми силами можем быть сохранены им, как и в том случае, если бы у нас была большая армия. Это побуждает нас пожелать вам всяческого счастья и благополучия и поручить вас его защите. —
Покорнейший и преданный слуга и друг ваш, милорды, П. Стайвесант».
Итак, смело бросив перчатку, храбрый Твердоголовый Пит засунул за пояс пару огромных седельных пистолетов, привесил сбоку громадную пороховницу, натянул на здоровую ногу гессенский сапог и, нахлобучив на макушку свирепую маленькую каску, стал шагать взад и вперед перед своим домом, решив защищать до конца любимый город.
Пока в несчастном городке Новом Амстердаме шли эти прискорбные раздоры и борьба, пока его достойный, но злополучный губернатор сочинял приведенное выше письмо, английские военачальники не оставались праздными. Они заслали тайных агентов для разжигания страха и недовольства народа, а кроме того распространили по всей близлежащей стране воззвание, в котором повторили условия, предъявленные ими в требовании о сдаче, и прельщали простаков-нидерландцев самыми коварными и примирительными заверениями. Они обещали каждому, добровольно подчинившемуся власти его величества британского короля, что ему предоставят мирно владеть своим домом, женой и огородом с капустой; что ему разрешат курить свою трубку, говорить по-голландски, носить столько штанов, сколько ему будет угодно, и ввозить кирпичи, черепицу и глиняные кувшины из Голландии, вместо того, чтобы производить их на месте; что его ни в коем разе не будут принуждать учить английский язык или же вести денежные расчеты иным путем, кроме счета на пальцах или записывания их мелом на тулье своей шляпы, как это еще и теперь делается у голландских фермеров; что каждому будет позволено без всяких помех наследовать отцовскую шляпу, куртку, пряжки для башмаков, трубку и все другие личные вещи и что никого не обяжут вводить какие-нибудь улучшения, изобретения или другие современные новшества, а напротив, всякий будет иметь право строить дом, заниматься своим ремеслом, хозяйничать на своей ферме, разводить свиней и воспитывать детей точно так же, как это с незапамятных времен делали его предки; наконец, что он сохранит все выгоды свободной торговли и от него не потребуют, чтобы он почитал других святых, значащихся в месяцеслове, кроме святого Николая, который впредь, как и прежде, будет считаться покровителем города.
Эти условия, как легко можно себе представить, показались вполне приемлемыми народу, весьма склонному беспрепятственно пользоваться своей собственностью и питавшему сильнейшее отвращение к тому, чтобы ввязываться в борьбу, не сулящую ничего, кроме чести и проломленной головы; к первой они относились с философским безразличием, а к последней с крайним неудовольствием. Итак, прибегнув к столь коварным приемам, англичане сумели подорвать доверие и охладить любовь новоамстердамцев к их доблестному старому губернатору; решительно и откровенно высказывая свое мнение и браня его почем зря (у него за спиной), они упрекали его в том, что он упрямо намеревается ввергнуть их в пучину бедствий.
Подобно могучему дельфину-косатке, который, несмотря на шумные бушующие волны, все время налетающие на него и пытающиеся сбить с пути, несмотря на буйные валы, захлестывающие его, продолжает все же неуклонно плыть вперед и постоянно появляется на поверхности, выныривая из взбаламученной пучины, с удесятеренной силой подымая брызги и колотя хвостом, – так непреклонный Питер непоколебимо шел намеченной дорогой и, полный презрения, не обращал внимания на вопли черни.
Но когда британские военачальники по тону ответа Питера Стайвесанта поняли, что он ни в грош не ставит их власть, они тотчас же отправили офицеров-вербовщиков на Ямайку, в Иерихон и Ниневию, Куэг и Патчог и во все грозные города, некогда покоренные бессмертным Стоффелем Бринкерхофом, поручив им поднять доблестных потомков Вяленой Рыбы и Решительного Петуха и других известных скваттеров для нападения на город Новый Амстердам с суши. Тем временем вражеские корабли делали ужасные приготовления к тому, чтобы начать решительный приступ с моря.
Улицы Нового Амстердама представляли теперь зрелище дикого смятения и уныния. Тщетно доблестный Стайвесант призывал граждан к оружию и приказывал им собраться на площади перед ратушей или на рыночной площади. Вся партия плоскозадых за одну ночь превратилась в настоящих старух – метаморфоза, с которой может сравниться только чудо, по рассказу Ливия происшедшее в Риме при приближении Ганнибала,[489] когда статуи потели от неподдельного страха, козлы превратились в баранов, а петухи, став курами, с кудахтаньем бегали по улицам.
Измученный Питер, которому грозили извне и досаждали изнутри, травимый бургомистрами и преследуемый криками черни, горячился, рычал и бесновался, как разъяренный медведь, привязанный к столбу и терзаемый стаей презренных дворняжек. Убедившись, однако, что все дальнейшие попытки защитить город были тщетны, и узнав, что пограничные жители и грабители из Новой Англии готовы нахлынуть на него с востока, он наконец был вынужден, несмотря на все величие своего сердца, которое, распухнув, подступало у него к горлу и чуть не удушило, согласиться на переговоры о сдаче.
Трудно передать словами восторг народа, когда было получено это приятное известие; одержи он победу над врагами, и то он не пришел бы в большее восхищение. На улицах стоял несмолкаемый шум поздравлений, жители прославляли своего губернатора как отца и освободителя страны, они толпами стремились к его дому, чтобы выразить свою благодарность, и их рукоплескания были в десять раз громче, чем тогда, когда он вернулся с победой, примостившейся на его треуголке, после славного завоевания форта Кристина. Но возмущенный Питер закрыл все двери и окна и спрятался в самых дальних покоях своего дома, чтобы не слышать гнусного ликования черни.
После того как губернатор дал свое согласие, осаждающим было послано предложение вступить в переговоры для обсуждения условий сдачи. Соответственно, каждая сторона назначила шестерых представителей, и 27 августа 1664 года враг, державшийся высокого мнения о храбрости манхатезцев и о великодушии и безграничном благоразумии их губернатора, дал свое согласие на капитуляцию, чрезвычайно благоприятную для провинции и почетную для Питера Стайвесанта.
Оставалось одно – чтобы выработанные условия были утверждены и подписаны рыцарственным Питером. Когда представители почтительно явились к нему с этой целью, отважный старый воин принял их с самой зловещей и свирепой любезностью. Он снял с себя военную форму; его мускулистое тело было завернуто в старый индийский халат, красный шерстяной ночной колпак затенял изборожденный морщинами лоб, трехдневная борода цвета перца с солью усиливала ужас, внушаемый его мрачным лицом. Трижды брал он в руку маленький огрызок пера и пытался подписать омерзительный документ, трижды стискивал он зубы и корчил ужаснейшую гримасу, словно к его губам поднесли отвратительную смесь из ревеня, ипекакуаны и александрийского листа; наконец, отбросив перо, он схватил свою саблю с бронзовым эфесом и, рванув ее из ножен, поклялся святым Николаем, что скорее умрет, нежели покорится любой власти на земле.
Напрасны были все попытки поколебать это отважное решение; угрозы, увещания, брань ни к чему не привели. Целых два дня дом доблестного Питера был осажден шумной чернью, и целых два дня он хватался за оружие и упорствовал в благородном отказе утвердить капитуляцию. Так, подобно второму Горацию Коклесу,[490] он одной только собственной доблестью отражал натиск неприятеля и защищал этот современный Рим.
В конце концов народ, увидев, что шумная настойчивость вызывает лишь более решительное сопротивление, вспомнил о скромном средстве, с помощью которого, быть может, удастся успокоить гордый гнев и поколебать решимость губернатора. И вот, торжественная скорбная процессия, возглавляемая бургомистрами и схепенами и сопровождаемая просвещенной чернью, медленно движется к дому губернатора, неся злосчастную капитуляцию. Там они увидели мужественного старого героя, который вытянулся во весь рост, как великан в своем замке; двери были прочно забаррикадированы, а он в полной парадной форме, с треуголкой на голове, непоколебимо стоял у чердачного окна с мушкетоном в руках.
В этой грозной позе было нечто, что поразило страхом и преисполнило восхищением даже низкую чернь. Шумная толпа, объятая самоунижением, не могла не осудить свое недостойное поведение, когда увидела отважного, но всеми покинутого старого губернатора, не оставляющего своего поста, как поклявшийся стоять насмерть солдат, и полностью готового защищать до конца неблагодарный город. Однако новая волна народных опасений вскоре заглушила укоры совести. Толпа выстроилась перед домом, и все в почтительнейшем смирении сняли шляпы. Один из бургомистров, из того распространенного сорта ораторов, которые, по замечанию старого Саллюстия, «скорей болтливы, чем красноречивы», выступил вперед и обратился к губернатору с трехчасовой речью; в ней он в самых патетических выражениях подробно описал бедственное положение провинции и заклинал Питера Стайвесанта, все время повторяя одни и те же доводы и слова, подписать капитуляцию.
Могучий Питер в угрюмом молчании смотрел на него из маленького чердачного окна; время от времени он окидывал взглядом стоявшую перед домом толпу, и гневная усмешка, похожая на оскал злого мастифа, то и дело набегала на его суровое лицо. Но хотя он был человеком неустрашимой храбрости, хотя сердце у него было такое же большое, как у быка, а голова своей твердостью могла посрамить алмаз, все же он был только смертным, измученным этим упорным противодействием и бесконечным витийством; и сознавая, что, если он не согласится, жители города все равно могут уступить своим склонностям, или, вернее, страхам, не дожидаясь его согласия, он поэтому, скрепя сердце, приказал вручить ему бумагу с текстом капитуляции. Ее подали ему наверх на конце шеста; нацарапав под условиями сдачи свою подпись, Питер Стайвесант проклял всю толпу, обозвав ее шайкой трусливых, мятежных, выродившихся плоскозадых людишек, швырнул капитуляцию им на головы, захлопнул окно, и было слышно, как он в бурном негодовании, стуча деревянной ногой, спустился по лестнице. Толпа тотчас же бросилась наутек; даже бургомистры поспешили очистить площадь перед домом, опасаясь, как бы отважный Питер не вышел из своего логова и не приветствовал их каким-нибудь малоприятным знаком своего неудовольствия.