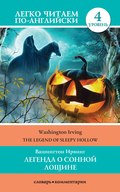Вашингтон Ирвинг
История Нью-Йорка
Помни, что, останавливаясь со свойственной твоему возрасту безрассудной болтливостью на этих чудесных картинах, дорогих твоему сердцу благодаря воспоминаниям юности и очарованию тысяч легенд, услаждавших слух простодушного ребенка, помни, что ты тратишь по пустякам те быстро текущие мгновения, которые следовало бы посвятить более возвышенным предметам. Разве время – безжалостное время! – немеющей рукою уже не встряхивает перед тобой почти пустые песочные часы? Спеши же продолжить свой утомительный труд, чтобы последние песчинки не исчезли до того, как ты закончишь свою прославленную историю Манхатеза.
Итак, препоручим неустрашимого Питера, его доблестную галеру и верную команду покровительству блаженного святого Николая, который, без сомнения, посодействует успеху его плавания, пока мы будем ждать возвращения наших путешественников в великом городе Новом Амстердаме.
ГЛАВА IV
В которой описывается могучая армия, собравшаяся в Новом Амстердаме, а также встреча Питера Твердоголового с генералом Вон-Поффенбургом и чувства Питера в отношении несчастных великих людей.
В то время как отважный Питер на всех парусах плыл вверх по течению гордого Гудзона и поднимал на борьбу все маленькие сонные голландские поселения, расположенные на его берегах, в город Новый Амстердам стекались толпы могучих воинов. Об этом сборище стайвесантская рукопись, бесценный осколок древности, дает самые подробные сведения, с помощью которых я имею возможность описать славное войско, расположившееся лагерем на площади против форта, которая в настоящее время называется Боулинг-Грин.[410]
Итак, в центре стояла палатка ратных людей с Манхатеза, которые, будучи жителями столицы, составляли лейбгвардию губернатора. Ими командовал доблестный Стоффель Бринкерхоф, некогда стяжавший бессмертную славу в битве при Устричной бухте. Знаменем им служило изображение стоящего на задних лапах могучего бобра на аранжевом поле – герб провинции, указывавший на упорное трудолюбие и земноводное происхождение доблестных нидерландцев.[411]
По правую руку от них можно было увидеть вассалов прославленного мингера Майкла Поу,[412] который господствовал над прекрасными землями древней Павонии и областями к югу от нее вплоть до Навесинкских гор,[413] и был, кроме того, владетельным господином острова Виселицы. На его знамени, которое нес верный оруженосец Корнелиус Ван-Ворст, была изображена огромная лежащая устрица на поле цвета морской воды, являвшаяся геральдической эмблемой его любимой столицы, Коммунипоу. Майкл Поу привел в лагерь отряд храбрых воинов в тяжелых доспехах; на каждом было по десяти пар штанов грубой шерсти и по касторовой шляпе с широкими полями, за лентой шляпы торчала короткая трубка. То были люди, которые выросли на илистых берегах Павонии, принадлежали к числу настоящих медноголовых и вели свое происхождение, если верить легендам, от устриц.
В некотором отдалении расположилась лагерем компания воинов, пришедших из окрестностей Хелл-Гейта. Ими командовали Сои-Дамы и Ван-Дамы, самые невоздержанные на язык и закоренелые богохульники, что подтверждает их фамилия.[414] Это были страшные на вид молодчики, одетые в широкие долгополые плащи из грубого сукна того странного темно-серого цвета, который называют «гром и молния»: на знамени у них были три стрекозы, летящие по огненно-красному нолю.
Рядом стояла палатка ратных людей с болотистых берегов Вал-Богтиха[415] и из близлежащих мест. Эти воины отличались угрюмым видом по той причине, что питались крабами, в изобилии водившимися в тех краях. Они были первооснователями почтенного рыцарского ордена, называемого флаймаркетскими жуликами, и, если предание говорит правду, изобрели также широкоизвестное танцевальное па, называемое «двойной притоп». Ими командовал бесстрашный Якобус Варравангер; у них был также веселый оркестр из бруклинских паромщиков, которые давали прекрасные концерты, дуя в раковины.
Я не стану, однако, дальше следовать за мелочным описанием, в котором рассказывается затем о воинах из Блумен-Дала, Уихоука и Хобокена и разных других мест (хорошо известных по истории и поэзии), так как военная музыка, звучавшая в отдалении, за пределами городских стен, уже встревожила жителей Нового Амстердама. Впрочем, тревога ново – амстердамцев вскоре улеглась, ибо – смотрите, смотрите! – среди огромного облака пыли они узрели зеленовато-желтые штаны и великолепную серебряную ногу Питера Стайвесанта, сверкавшую в солнечных лучах, и увидели, как он приближается во главе громадной армии, собранной им на берегах Гудзона. Тут превосходный, но анонимный автор стайвесантской рукописи разражается замечательным описанием отрядов, проходивших через главные ворота города, которые стояли в верхней части Уоллстрита. Первыми шли Ван-Бюммели, жившие на прелестных берегах Бронкса. То были толстяки небольшого роста, носившие короткие штаны чрезмерной ширины и прославившиеся кулинарными подвигами: они первые изобрели маисовую кашу на молоке. Следом за ними шагали Ван-Влотены из Катскилла, ужаснейшие питухи, любители молодого сидра и отъявленные хвастуны во хмелю. За ними двигались знаменитые Ван-Пуши из Эзопуса, ловкие наездники, скакавшие на великолепных длиннохвостых конях эзопусской породы; Ван-Пуши были превосходными охотниками на выдр и выхухолей, от чего и произошло слово «пушнина». Далее следовали Ван-Несты из Киндерхука, доблестные грабители птичьих гнезд, как указывает их фамилия;[416] им, если верить автору рукописи, мы обязаны изобретением оладий или лепешек из гречневой муки. Затем Ван-Гролы с Носа Антони, которые наливали спиртное в удобные круглые фляжки, потому что, обладая наредкость длинными носами, не могли пить из манерок. Затем Гарденьеры из города Гудзона и его окрестностей, известные многочисленными триумфальными подвигами; например, кражами дынь на баштанах, выкуриванием из нор кроликов и другими в том же роде. Они были также большими любителями жареных свиных хвостов. Прославленные члены конгресса с этой фамилией – их потомки. Затем Ван-Хусены из Синг-Синга, любители хорового пения и игры на губной гармонике; они шли по двое в ряд и пели большой псалом в честь святого Николая. Затем Коунховены из Слипи-Холлоу,[417] от которых ведут свое происхождение веселые трактирщики и которые первые овладели магическим искусством загонять кварту вина в пинтовую бутылку. Затем Ван-Кортландты, которые жили на диких берегах Кротона и были заядлыми охотниками на диких уток; они слыли искусными стрелками из большого лука. Затем Бенсхотены из Наиака и Кейкьята, первыми научившиеся бить левой ногой; они были храбрыми жителями лесной глуши и охотились на енотов при лунном свете. Затем Ван-Винкли[418] из Харлема, поглощавшие яйца в несметном количестве и известные умением брать призы на скачках и не платить долгов в трактирах; они первые стали подмигивать[419] двумя глазами сразу. Наконец появились Никербокеры из большого города Скагтикока, где жители в ветреную погоду кладут камни на крышу дома, чтобы ее не унесло. По мнению некоторых, их фамилия произошла от «никер» – качаться, и «бекер» – стакан, что указывает, будто некогда они были завзятыми пьяницами. Но на самом деле она произошла от «никер» – кивать и «букен» – книги; это явно означает, что они кивали носом или дремали над книгами. Их потомком и был автор этой истории.
Такова была армия смелых жителей лесов, проходившая через главные ворота Нового Амстердама. В стайвесантской рукописи говорится еще о многих, чьи имена я не упоминаю, так как мне надо спешить к более важным предметам. Ни с чем не сравнимая радость и воинская гордость охватили неустрашимого Питера, когда он производил смотр этой могучей рати, и он решил больше не откладывать столь желанной мести подлым шведам, засевшим в Форт-Кашемире.
Но прежде чем я перейду к описанию необычайных событий, которое читатель найдет в последующих главах этого прославленного исторического труда, разрешите мне остановиться на судьбе Якобуса Вон-Поффенбурга, главнокомандующего разбитых армий Новых Нидерландов. Только врожденной недоброжелательностью человеческой природы можно объяснить то обстоятельство, что как только распространились вести о его прискорбном поражении в Форт-Кашемире, сразу же тысячи гнусных слухов поползли по Новому Амстердаму; в них утверждалось, будто в действительности он вступил в предательский сговор со шведским командиром, что он уже давно вел тайные сношения со шведами, и намекалось на какие-то «секретные фонды». Всем этим ужасным обвинениям я не придаю ни на йоту больше веры, чем пни, на мой взгляд, заслуживают.
Достоверно одно: генерал защищал свою репутацию самыми пылкими клятвами и торжественными заверениями и объявлял бесчестным каждого, кто осмеливался сомневаться в его неподкупности. Больше того, вернувшись в Новый Амстердам, он прогуливался взад и вперед по улицам, сопровождаемый по пятам компанией ярых богохульников – бравых собутыльников, которых он поил и кормил до отвала и которые были готовы поддержать его в любом суде. Герои того же закала, что и он, со свирепо закрученными усами, широкоплечие, богатырского вида фанфароны, все они имели такой вид, словно могли съесть быка и ковырять в зубах его рогами. Эти телохранители ссорились с теми, с кем он ссорился, готовы были лезть за него в драку и грозно смотрели на каждого, кто задирал нос перед генералом, будто собирались проглотить его живьем. Свой разговор они пересыпали руганью, словно ежеминутными пушечными залпами, и каждую напыщенную хвастливую фразу заканчивали громовым проклятием, как сопровождают артиллерийским салютом патриотическую здравицу.
Все это доблестное бахвальство производило сильное впечатление, убеждая некоторых глубокомысленных мудрецов; многие из них начали считать генерала героем с преисполненной невыразимого величия душой, в особенности потому, что он все время клялся честью солдата – что звучало весьма гордо. Больше того, один из членов совета зашел так далеко, что предложил увековечить его нетленным памятником из гипса!
Но бдительного Питера Твердоголового не так-то просто было обмануть. Пригласив к себе для конфиденциальной беседы главнокомандующего всеми армиями и выслушав до конца его рассказ, украшенный обычными благочестивыми клятвами, заверениями и восклицаниями «Послушай-ка, metgelsel,[420] – вскричал он, – хотя по твоим словам ты самый храбрый, честный и достойный человек во всей провинции, все же ты, на свое несчастье, стал жертвой ужаснейшей клеветы и тебя безмерно презирают. Конечно, наказывать человека за то, что его постигло несчастье, было бы жестоко; но хотя вполне возможно, что ты совершенно не виноват в тех преступлениях, в которых тебя обвиняют, тем не менее небо, разумеется в каких-то мудрых целях, пока что отказывается представить нам доказательства твоей невиновности, а я отнюдь не склонен противодействовать его верховной воле. Кроме того, я не могу пойти на то, чтобы рисковать своими войсками, поставив во главе их начальника, которого они презирают, и доверить благополучие моего народа защитнику, которому он не верит. А потому, друг мой, откажись от утомительных трудов и забот общественной жизни и утешься следующей мыслью: если ты виновен, то вкушаешь лишь то, что заслужил; – а если ты не виновен, то ты не первый великий и праведный человек, которого столь несправедливо оклеветали и с которым так плохо обошлись в этом грешном мире – несомненно для того, чтобы вознаградить в лучшем мире, где не будет ни ошибок, ни клеветы, ни гонений. А теперь не попадайся больше мне на глаза, ибо я ужасно не люблю смотреть на физиономии таких несчастных великих людей, как ты».
ГЛАВА V
В которой автор очень искренне говорит о самом себе. – После чего последует весьма интересный рассказ о Питере Твердоголовом и его сподвижниках.
Так как моих читателей и меня ожидает сейчас не меньше опасностей и затруднений, чем выпадало когда-либо на долю компании странствующих рыцарей, упорно совавших повсюду свой нос, то нам подобает, по примеру этих отважных искателей приключений, взяться за руки, предать забвению все наши несогласия и поклясться стоять друг за друга в радости и в горе, пока не будет выполнена наша задача. Мои читатели должны были, несомненно, заметить, что я полностью изменил свой тон и поведение с тех пор, как мы впервые пустились в путь. Ручаюсь, что тогда они считали меня сварливым, желчным, сумасбродным голландским старикашкой, так как я ни разу не обращался к ним с вежливым словом и даже не дотрагивался до шляпы, когда мне случалось заговаривать с ними. Но пока мы вместе шли по большой дороге моей истории, я постепенно смягчался, становился учтивее, начал время от времени вступать в дружеские беседы и наконец проникся к ним дружеским расположением. Таково мое обыкновение: я всегда несколько холоден и сдержан вначале, в особенности с людьми, которых я не знаю и которые в моих глазах представляют такую же ценность, как медный грош или вермонтский банковый билет,[421] и полностью завоевать мое доверие можно только после длительного тесного общения.
Да и почему я должен быть любезен с кучей шапочных знакомых, которые столпились вокруг меня, когда я впервые появился? Их просто привлекало новое лицо; многие из них с интересом посмотрели лишь на мой титульный лист, а затем отошли, не сказав ни слова, между тем как другие, зевая, лениво проглядели предисловие и, удовлетворив свое быстропреходящее любопытство, вскоре один за другим разбрелись. Впрочем, специально для того, чтобы испытать их мужество, мне пришлось прибегнуть к способу, сходному с тем, какой, по рассказам, применял несравненный образец рыцарства король Артур; прежде чем приблизить к себе какого-нибудь рыцаря, он требовал, чтобы тот доказал свою способность побороть опасности и трудности, преодолев неслыханные злоключения, убив с дюжину великанов, победив злых волшебников, не говоря уже о карликах, гиппогрифах и огнедышащих драконах. Следуя тому же правилу, я для начала хитроумно провел моих читателей через несколько запутанных глав, где толпа языческих философов и писателей самым немилосердным образом надавала им тумаков и пощечин. Это было полезно для моей грудобрюшной преграды благодаря тому неудержимому смеху, которым я заливался при виде крайнего смущения и испуга моих доблестных рыцарей: одни тут же на месте свалились замертво (уснув), другие отшвырнули мою книгу, дочитав до середины первой главы, пустились наутек и бежали до тех пор, пока окончательно не скрылись из виду; только тогда они остановились, чтобы перевести дух, рассказать своим друзьям, какие неприятности они претерпели, и предупредить всех, чтобы никто не отваживался на такое неблагодарное путешествие. С каждой страницей ряды моих читателей все редели, и из громадной толпы, вначале пустившейся в путь, лишь очень немногие, одолев пять вступительных глав, кое-как выжили, хотя и были доведены до чрезвычайно жалкого состояния. И что же! Вы бы хотели, чтобы я при первом же знакомстве прижал к груди этих изнеженных презренных трусов? Нет, нет. Я приберегал свою дружбу для тех, кто ее заслужил, для тех, кто мужественно сопровождал меня, несмотря на все препятствия, опасности и трудности. И вот тем, кто остался поныне верен мне, я с нежностью подаю руку. Достойные и бесконечно возлюбленные читатели! Храбрые и испытанные товарищи, преданно следовавшие за мной во всех моих странствиях! Я приветствую вас от всего сердца. Клянусь, что я буду с вами до конца и торжественно доведу вас (да помогут небеса верному орудию, которое я держу в это мгновение между пальцев) до завершения нашего великого дела.
Но погодите! Мы тут с вами болтаем, а тем временем в Новом Амстердаме идет непрерывная суматоха. Толпы доблестных воинов, расположившихся лагерем на лужайке для игры в шары, разбивают палатки; медная труба Антони Ван-Корлеара оглашает небо мощными звуками, бьют барабаны, знамена Манхатеза, Хелл-Гейта и Майкла Поу гордо развеваются в воздухе. А теперь взгляните туда, где моряки, ставя паруса, усердно готовят в путь вон ту шхуну и те два неуклюжие олбанские шлюпа, которые должны понести по волнам войско нидерландцев, чтобы оно стяжало бессмертную славу на Делавэре!
Все жители города, мужчины, женщины и дети, высыпали из домов, чтобы посмотреть на новоамстердамское рыцарство, торжественно маршировавшее по улицам, направляясь для погрузки на суда. Как много грязных носовых платков мелькало в окнах, как много хорошеньких носиков сморкалось в мелодичной скорби по столь печальному поводу. Горе прелестных дам и красивых девушек Гранады, оплакивавших изгнание доблестного рода Абенсеррагов,[422] не могло быть сильнее, чем горе добросердечных женщин Нового Амстердама по случаю отъезда их бесстрашных воинов. Каждая томящаяся любовью девушка с нежным чувством набивала карманы своего героя пряниками и пирожками; много было обменов медными колечками, много погнутых шестипенсовиков было сломано надвое в знак вечной верности, и даже до наших дней сохранились написанные на это событие любовные стихи, весьма негладкие и настолько невнятные, что все на свете становятся перед ними в тупик.
Трогательное зрелище представляли пригожие девушки, теснившиеся вокруг знаменитого Антони Ван-Корлеара, ибо он был веселый, розовощекий молодцеватый холостяк, к тому же большой хвастун, наслаждавшийся своими собственными шутками, и отчаянный проказник, когда дело касалось женщин. Им очень хотелось бы, чтобы Антони остался утешать их, когда все войско уйдет. Ибо к уже сказанному о нем, простая справедливость требует добавить, что он был человеком добросердечным, известным своим сердобольным вниманием к безутешным женам в отсутствие их мужей, вследствие чего пользовался большим уважением честных бюргеров всего города. Но ничего не могло помешать доблестному Антони последовать за старым губернатором, которого он любил, как свою собственную душу. Итак, обняв всех молодых женщин и влепив каждой из них, у кого были красивые зубы и свежий рот, дюжину смачных поцелуев, он отправился в путь, провожаемый бесчисленными добрыми пожеланиями.
Отъезд доблестного Питера был также немаловажной причиной всеобщей печали. Хотя старый губернатор ни в коей мере не потакал блажи и капризам своих подданных и начал совершенно «новую страницу» по сравнению с тем, что творилось во времена Вильяма Упрямого, тем не менее он почему-то стал необыкновенно любим народом. Есть что-то пленительное в личной храбрости, которая в глазах рядовых людей стоит выше большинства других достоинств. Простой народ Нового Амстердама видел в Питере Стайвесанте чудо доблести. На его деревянную ногу, память о военных схватках, смотрели с почтением и восторгом. О подвигах Твердоголового Пита у каждого старого бюргера был целый запас удивительных историй; длинными зимними вечерами он угощал ими своих детей и распространялся о них с таким же удовольствием и с такими же преувеличениями, с какими честные деревенские поселяне рассказывают об отважных приключениях старого генерала Патнема[423] (или, как его обычно называли, старого Пата) во время нашей славной революции. Все действительно верили, что старый губернатор был достойным противником самого Вельзевула; рассказывали даже с большой таинственностью и под секретом о том, что однажды темной ненастной ночью, плывя в челноке через пролив Хелл-Гейт, он застрелил дьявола серебряной пулей. Впрочем, я не выдаю это за бесспорную истину. Погибель на голову того человека, кто уронит каплю, которая загрязнит чистый поток истории!
Как бы там ни было, все старухи в Новом Амстердаме считали, что на Питера Стайвесанта можно положиться, как на каменную стену, и пребывали в полной уверенности, что, пока он в городе, ничто не угрожает благополучию провинции. Неудивительно поэтому, что к его отъезду они отнеслись как к большому несчастью. С тяжелым сердцем плелись они вслед за его войском, когда оно спускалось к реке, чтобы погрузиться на суда. Стоя на носу своей шхуны, губернатор обратился к горожанам с кратким, но поистине отеческим наставлением, в котором советовал им вести себя, как подобает честным и мирным гражданам, по воскресеньям исправно ходить в церковь, а всю остальную неделю заниматься своими делами. Чтобы женщины слушались и любили своих мужей, не вмешивались в то, что их не касается, избегали всякой болтовни и утреннего праздношатания, чтобы языки у них были покороче, а юбки подлиннее, чтобы мужчины воздерживались от посещения собраний и трактиров, доверив заботы управления назначенным на то чиновникам, и сидели дома, как добрые граждане, зарабатывая деньги для себя и рожая детей для блага отечества. Чтобы бургомистры хорошенько заботились об интересах всего общества – не притесняли бедных, не потакали богатым, не утруждали свои умственные способности придумыванием новых законов, а добросовестно заставляли повиноваться тем законам, что уже существуют, обращая внимание больше на то, чтобы предупреждать зло, нежели его наказывать, постоянно помня, что городские власти должны скорей считать себя охранителями общественной нравственности, чем ищейками, нанятыми для поимки преступников. Наконец Питер Стайвесант принялся увещевать их, всех и каждого, знатного и простолюдина, богатого и бедного, вести себя так хорошо, как только они могут, заверив их, что в том случае, если они честно и добросовестно будут соблюдать это золотое правило, можно без опасений надеяться на хорошее поведение их всех. Покончив с этим, он отечески благословил их; храбрый Антони протрубил самую нежную прощальную мелодию, веселая толпа издала громкий ликующий клич, и победоносная армада гордо двинулась к выходу из бухты.
Славные граждане Нового Амстердама толпились на Батарее – этом благословенном приюте, откуда было вознесено столько горячих молитв, махало столько прелестных ручек и откуда влюбленные девушки бросали столько затуманенных слезами взглядов вслед все уменьшавшемуся барку, который уносил в далекие страны их отважных суженых! Отсюда жители города пристально следили за доблестной эскадрой, когда она медленно шла к выходу из бухты; а когда, вступив в пролив Нарроус, она скрылась из виду за полосой земли, толпа постепенно разошлась, храня молчание и потупя взор.
Угрюмая печаль окутала недавно бурливший город. Честные бюргеры в глубоком раздумье курили свои трубки, то и дело бросая внимательный взгляд на флюгер над церковью святого Николая, а все старухи, которые в отсутствие Твердоголового Пита не ощущали уже прежней уверенности, каждый вечер с заходом солнца созывали детей домой и крепко запирали двери и окна.
Тем временем армада храброго Питера успешно продолжала свое плавание; повстречав на пути примерно столько же бурь, водяных смерчей, китов и прочих ужасных и неужасных явлений природы, сколько обычно выпадает на долю отважных жителей суши во время опасных путешествий подобного рода, основательно очистив свой организм в результате неприятной и неумолимой болезни, называемой морской, немного пострадав запором или расстройством желудка, излеченными коробочкой андерсоновских пилюль, доблестный губернатор и его спутники благополучно достигли устья Делавэра.
Даже не бросив якоря и не дав усталой эскадре отдохнуть после столь долгих скитаний по океану, бесстрашный Питер поднялся вверх по течению Делавэра и внезапно появился перед Форт-Кашемиром. Призвав изумленный гарнизон чудовищными звуками трубы широкогрудого Ван-Корлеара, он громовым голосом потребовал немедленной сдачи крепости. На это требование Свен Скутц, иссушенный ветром комендант, резким прерывистым голосом, по причине его крайней слабости прозвучавшим так, словно ветер просвистел сквозь сломанные органные мехи, ответил, что «он не имеет достаточно основательных причин для отказа, если не считать того, что такое требование весьма неприятно, поскольку ему было приказано удерживать свою позицию до последней крайности». Поэтому он попросил некоторое время подождать, чтобы дать ему возможность посоветоваться с губернатором Рисингом и с этой целью предложил перемирие.
Вспыльчивый Питер, кипевший от негодования из-за того, что принадлежавший ему по праву форт был так предательски отнят у него, а теперь столь упорно удерживается, отказался от предложенного перемирия и поклялся трубкой святого Николая, которая, как священный огонь, никогда не угасала, что, если форт через десять минут не сдастся, он тотчас же начнет штурм укреплений, прогонит весь гарнизон сквозь строй и разделается с негодяем комендантом, как с маринованной селедкой. Чтобы придать угрозе больше веса, он обнажил свою верную шпагу и потряс ею столь свирепо и мощно, что, не будь она такой ржавой, сверкание клинка несомненно ослепило бы врагов и вселило бы ужас в их сердца. Затем он приказал своим людям навести на крепость всю артиллерию, состоявшую из двух фальконетов, трех мушкетов, длинного охотничьего ружья и двух пар седельных пистолетов.
Тем временем храбрый Ван-Корлеар привел в боевую готовность все свои силы и приступил к военным действиям. Надув щеки, как сам Борей, он беспрерывно извлекал из своей трубы ужаснейшие пронзительные звуки, дюжие хористы из Синг-Синга разразились чудовищной боевой песней, воины из Бруклина и с берегов Вал-Богтиха оглушительно трубили в свои раковины; вместе они устроили такой гнусный концерт, как будто пять тысяч французских оркестров показывали свое искусство, исполняя современную увертюру. Ручаюсь, что, услышав ее, все шведы в крепости почувствовали, как они буквально погибают от страха и плохой музыки.
То ли столь неожиданно надвинувшиеся ужасы войны повергли гарнизон в сильное смятение, или же заключительные слова требования о капитуляции, в которых говорилось, что крепость должна сдаться на волю победителя, Свен Скутц – хотя и швед, но благоразумный и покладистый человек – ошибочно принял за комплимент его твердой воле, – судить не берусь; как бы там ни было, он счел для себя невозможным отказаться от выполнения столь вежливой просьбы. Поэтому в самый последний момент, когда юнгу уже послали за раскаленным угольком, чтобы выстрелить из фальконетов, единственный барабан осажденного гарнизона пробил на валу сдачу – к немалому удовольствию обеих сторон. Несмотря на большую любовь к драке, спокойно съесть обед им было не менее приятно, чем подставить друг другу фонари или раскровянить нос.
Итак, эта неприступная крепость снова вернулась под власть Высокомощных Господ;[424] Скутцу и его гарнизону из двадцати человек позволили покинуть Форт-Кашемир с военными почестями, и победоносный Питер, который был столь же великодушен, сколь и храбр, разрешил им сохранить при себе все оружие и военные припасы – все равно при осмотре обнаружили, что они совершенно негодны к употреблению, так как давно покрылись ржавчиной на складе крепости, – еще даже до того, как она была отнята шведами у великого, но легкомысленного Вон-Поффенбурга. Не забыть мне, однако, упомянуть о том, что губернатор был так доволен услугами своего верного оруженосца Ван-Корлеара при взятии этой сильной крепости, что тут же пожаловал ему прекрасное поместье вблизи от Нового Амстердама, которое по сей день известно под названием Корлеарс-Хук.[425]
Беспримерное великодушие, проявленное доблестным Стайвесантом по отношению к шведам, которые, разумеется, очень подло обошлись с его провинцией, вызвало сильное удивление в Новом Амстердаме. Больше того, кое-кто из мятежно настроенных лиц, которые набрались ума-разума на политических собраниях, бывших в моде во времена Вильяма Упрямого, но не решались следовать своей привычке вмешиваться в чужие дела на глазах их нынешнего правителя, осмелев по случаю его отсутствия, решался даже публично высказывать свое порицание. Ропот, столь же громкий, как тот, что поднимали исконные ворчуны – британцы[426] по поводу договора с Португалией, слышался даже в зале, где заседал новоамстердамский магистрат. Быть может, этот ропот вылился бы в откровенно поносительные речи, если бы храбрый Питер втихомолку не послал на родину свою трость с наказом положить ее, как булаву, на стол в зале заседания, чтобы ее могли видеть все городские советники, которые, будучи людьми учеными, поняли намек и стали держать язык за зубами.