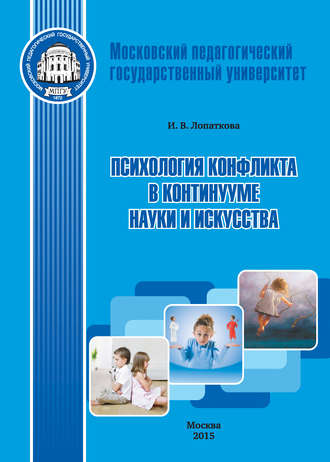
Ирина Лопаткова
Психология конфликта в континууме науки и искусства
6. Есть плоскость физическая с ее: а) основными законами телесной природы, б) физическими задачами и действиями, в) внешней характерностью, т. е. типичной внешностью, гримом, манерами, привычками, говорком, костюмом и прочими законами тела, жеста, походки.
7. Есть плоскость личных творческих ощущений самого артиста, то есть: а) его самочувствие в роли…».
Естественно, что все эти плоскости не существуют в роли «сами по себе». Они интегрируются, триангулируются сознанием, эмоциями, переживанием актера и зрителей.
В рамках интеграционного подхода можно предположить существование и такой структуры роли: заданные ролевые элементы, их трансформации в ходе интериоризации актером, их интеграция с ожиданиями и предвкушениями зрителей – создание элементов, не предусмотренных ранее ролью, что приводит к амплификации как роли, так и личностей ее создателей. Приведу пример из книги Э. Рязанова: «Есть у Мягкова еще одно редкостное качество. Он – поразительный импровизатор. Когда он полностью влез в шкуру персонажа, то может в дубле выдать нечто неожиданное, но абсолютно соответствующее характеру, который играет. Я очень люблю подобные "отсебятины", когда они действительно импровизационны, не запланированны, спонтанны. Такое, как правило, украшает роль – она становится более выпуклой, "шероховатой", как бы не сделанной. В "Иронию судьбы" Мягков, как и все создатели этой ленты, вложил свой личный душевный опыт, свое человеческое тепло. И, думаю, поэтому он стал так близок огромному числу зрителей и, чего греха таить, зрительниц. Конечно, природа-матушка помогла артисту, наградив его обаянием, стройностью, хорошей улыбкой, приятной внешностью, а главное, дарованием. В роли Лукашина Мягков показал, как мне думается, не только актерское, но и человеческое богатство. Ведь каждый поступок героя он пропускал через призму своего восприятия, вкладывал в роль многие собственные оценки, свойственные именно ему реакции, то есть наполнял содержание роли качествами своей натуры» [47, с. 76].
Большинство актеров, работая над образом, отмечают, что в каждой роли интегрируются плохие и хорошие позиции, но надо стремиться замечать и ориентироваться при исполнении роли на те, которые являются перспективными и конструктивными для всего действия, всего спектакля. Если принять этот подход во внимание при работе с ролевыми проблемами, то раскрывается много возможностей для проведения ролевого рефрейминга.
Синергетический подход, делающий «ставку» на способность чего-либо или кого-либо к самоорганизации, ориентирует на создание структуры роли по системе: базовые элементы, сформированные в эмпирике, → их свободная, незапрограммированная динамика → импровизация → рождение новых элементов → развитие → новая организация, т. е. новые элементы роли. Не правда ли, похоже на то, что писал К. С. Станиславский о структуре роли как партитуре – непрерывной линии физических и элементарно-психологических задач? Каждая предыдущая ролевая задача в ходе решения создает следующую. Каждый ролевой элемент, обладая энергией, оказывает влияние на все элементы и является на какое-то время или состояние роли «главным». Понятие партитуры как совокупности линий поведения действующих лиц спектакля вполне соотносимо с содержанием отдельно взятой роли, так как она включает целый «ансамбль» субролей. Например, роль профессионала может включать следующие суброли: знаток, умелец, творец, исполнитель, мастер и т. д. В том случае, если эти суброли находятся в созвучии, в гармонии не только друг с другом, но и с личностью исполнителя, роль будет «звучать» в соответствии с партитурой. Но каждый музыкант знает, что практически невозможно исполнить произведение в строгом соответствии партитуре. Уже только потому, что композиторы обычно предусматривают ad libitum (пер. с итал. – свободно, вволю), агогические отклонения, импровизации и т. д. для проявления эмоций исполнителем, создания творческих возможностей для исполнителя и атмосферы для творческого восприятия, фантазии слушателей.
Синергетический подход по определению отрицает предопределенную иерархию элементов структуры и ее содержания. Роль – самоорганизующая система, так как она организовывает психику исполнителя в ходе ролевой импровизации, таким образом, детерминируя ее амплификацию. Не случайно большинство актеров стремятся играть сложные характерные роли, такие, в которых они смогут почувствовать себя иными, такие, которые помогут им открыть иные стороны своего Я, своего таланта. Применяя для работы с ролью термин «организм роли», К. С. Станиславский как раз и подразумевает существование целостной, самоорганизующей ролевой системы, способной к развитию и существующей для развития.
В системе Станиславского отмечается и следующее: роль включает понимание ее значения, предназначения, содержания и динамики действий. Понятно, что отделить эти компоненты друг от друга можно только умозрительно, например, на этапе подготовки актера к исполнению роли, или создании имиджа политика. Но в некоторую структуру роли они вполне укладываются. Значение роли – ответ на вопрос «Что эта роль значит для меня?», «Что я могу сделать в этой роли?», т. е. данный компонент в большей степени относится к Я-концепции. Предназначение роли – ответ на вопросы: «Что эта роль значит для дела?», «Что эта роль значит для общества?», т. е. этот компонент в большей степени соотносится с коммуникативной сферой личности, с ее мотивацией, установками, направленностью. Содержание – это непосредственно те элементы (когнитивные, эмоциональные, волевые), которые наполняют роль, определяют ролевые позиции личности, ее действия. Составляя синергетическое базовое содержание роли, эти компоненты определяют динамику ролевых действий и взаимодействий.
Исходя из определения роли как специфической деятельности, подразумевающей направленность, мотивацию, установку, совокупность способов, динамику, структуру роли необходимо рассматривать в контексте социального действия и поведения личности (деятельностный подход). Опираясь на эти позиции, приходим к выводу, что структура роли должна включать следующие элементы:
1) ролевую стратегию (способ пристройки к партнеру по общению);
2) ролевую задачу (цель, которой необходимо достичь в проблемной ситуации);
3) ролевую программу (систему целенаправленных, упорядоченных действий);
4) ролевые действия (средства достижения цели);
5) ролевую компетентность (знание об условиях действий);
6) ролевую свободу (возможное и недопустимое при исполнении роли);
7) ролевой настрой (психоэмоциональное состояние, соответствующее ситуации взаимодействия).
При этом не представляется возможным распределить данные компоненты по какой-либо иной структурной композиции, кроме трехуровневой: фундаментальный уровень (уровень готовности к ролевому действию и взаимодействию – 1, 2, 3, 5), исполнительский уровень (непосредственно ролевого действия – 4, 6, 7). Далее, естественно, должен быть рефлексивный уровень, который предусматривает динамику во всех компонентах (элементах) роли и соответственно включает ее продукты. И вновь отметим практическую направленность такого структурирования роли. Каждый уровень – определенный этап или составляющая работы с проблемами, связанными с ролевыми и межролевыми деструкциями, диктующий определенное содержание и технологии психотерапевтической работы.
Особый акцент в рамках деятельностного подхода к определению структуры роли следует сделать на исследуемом как в науке, так и в искусстве феномене – стиле ролевого действия (поведения), который вырабатывается в эмпирике и детерминируется психическими, личностными характеристиками субъекта. Так определяет наука. В искусстве стиль, как феномен, также больше связывают с личностью исполнителя, автора. Свой стиль, это – прерогатива творца. Он не нарабатывается рутинным трудом, он создается посредством творческих усилий. И хотя понятие стиля весьма многозначно, основное его содержание концентрируется в семантическом пространстве: отличная по ряду признаков, особенная линия и форма воплощения, методы и приемы работы, деятельности, общения. Обратившись к контекстам, в которых используются одновременно термины «стиль» и «роль», чаще можно встретить следующие: «Исполнение роли в таком стиле привносит в ее содержание некоторые ранее не замеченные особенности», «Стиль исполнения данной роли актером… Позволяет ему подчеркнуть…», «Спектакль, поставленный режиссером в… стиле, позволяет актерам избежать стереотипов при исполнении ролей», «У актера выработался свой стиль игры роли…» Исходя из этого, можно предположить, что стиль является ролеобразующим элементом. Ведь именно он определяет выбор особенностей речи и поведения, костюма и грима, особенности взаимодействия с партнерами по сцене. Конечно, чаще режиссер определяет общую линию, форму, т. е. стиль всего спектакля, но наиболее яркие актерские индивидуальности вполне могут на это повлиять. Стиль ролевого исполнения создается в процессе жизнедеятельности человека и может иметь отношение не к каждой конкретной роли, исполняемой или выполняемой им, а к его воплощениям во всех ролях. Так, например, директивный стиль, приемлемый при исполнении роли руководителя и одобряемый им и его окружением, в этом случае может распространяться и на другие роли, исполняемые человеком: супруга, друга. Он может стать и маской, скрывающей истинные черты личности, и чертой личности, определяющей ее поведение в самых разных ролевых воплощениях и ситуациях.
В контексте деятельностного подхода роль можно рассматривать и как процесс, конечно, если строго не разделять понятия роли и ролевого действия. К процессуальной структуре роли обращался еще К. С. Станиславский, сравнивая роль с цветком: зерно роли, стебель – действия; листья – смыслы, позиции, волевые стремления, заданные задачей; бутон – воплощение, цветок – впечатление; созревшие зерна – мысли и эмоции, порожденные актером и зрителями. Этот подход к структурированию роли перспективен тем, что он впервые включает в роль не только процесс создания роли и ролевое действие, но и результаты ролевого взаимодействия, в которое вовлекаются и зрители со своими реакциями. Роль является атрибутом творческой деятельности не одного человека, ее исполнителя, а многих людей. Так, к примеру, в нее включаются представления о роли того, кто ее исполняет, которые формируются на основе прошлого многомерного опыта исполнителя, представления тех, с кем человек взаимодействует в ролевом пространстве, и представления тех, кто наблюдает, воспринимает. То есть психологическое пространство роли распространяется не только векторно, но и между всеми создателями, включает психические реальности всех ее содеятелей, объединяет их настоящее, прошлое и будущее.
В структуру роли, в качестве фундамента, как ученые, так и деятели искусства зачастую включают творческие хотения авторов, их мотивы (как осознанные, так и неосознанные), пробуждающие стремление действовать именно в данной роли, действовать не просто как личность, а как личность в роли, выполняя действия, относящиеся к определенной ипостаси. Термин «ипостась» трактуется по-разному. Как лик, как способ существования сущности, как отдельный образ единой сущности, как предназначение. Гипотетически можно рассматривать структуру роли и в этом ключе, особенно, если обратить внимание на то, что способ существования – в большей степени связан с деятельностной сферой личности, образ единой сущности – с Я-концепцией, образом Я, а предназначение – с когнитивной сферой личности.
Напомню, что слово «драма» происходит от греческого δραω, т. е. действую. К. С. Станиславский предлагает актерам формулировать структуру роли в терминах действия: надо сделать, надо доказать, надо проверить, надо убедить… Опять видится довольно много перспектив в плане психокоррекционного и консультационного метода.
Как структурную единицу роли в деятельностном подходе можно рассматривать и динамику, так как она осуществляется от одного состояния (ситуации, позиции) до другого (скорее всего, желаемого и предвкушаемого) и, собственно, определяет содержание и результат роли. При этом как существующее состояние является частично гипотетическим, так и желаемое. То есть и в состояниях также присутствует динамический компонент. Давайте попробуем с этих позиций рассмотреть роль руководителя. В нее включаются представления, позиции, эмоции исполнителя в настоящем, представления о том, что должно получиться в результате ролевого перевоплощения и само ролевое воплощение, которое трансформирует и то, что было, и то, что хочет получить руководитель в результате, и то, что он делает, как переживает в процессе. И все эти элементы отличаются одним – динамичностью. Несколько иначе рассматривает динамику роли А. Демидова. Она считает, что роль развивается следующим образом: идея – развитие – штамп [26]. Поразмыслив над этим, взяв за аксиому то, что для живого творческого состояния в роли штамп – это неприемлемо по определению, надо отметить, что роль должна развиваться постоянно, расцвечиваясь новыми красками, сторонами, не доходя до штампов. Следовательно, для практической работы с ролевыми деструкциями важно, чтобы исполнитель роли как можно реже как опирался, так и нарабатывал штампы как свои (даже если ранее они были результативными), так и чужие. Более значимо выработать лабильность и свободу ролевого воплощения, если так можно выразиться, ролевой динамики. Структура роли вполне может быть соотнесена и рассматриваться как структура художественного произведения, так как одно из определений роли – создаваемый актером, режиссером, исполнителем художественный образ. Подходов к структурированию художественного произведения множество, от дуалистического (содержание и форма) до поликомпонентного, предполагающего равенство всех компонентов произведения, а также наличие внутренних подструктур каждого компонента. Обращаясь к миру художественного, невольно хочется воспользоваться терминологией художественного способа познания мира. Поэтому, рассматривая структуру роли как структуру художественного произведения, возьмем за основу понятие «композиция» – лат. «составление, связывание, соединение». Для музыканта композиция – создание произведения, для художника или архитектора – способ соединения разрозненных частей будущего художественного произведения в художественное целое, для писателя – способ построения литературного произведения, для драматурга – определенная последовательность сцен, эпизодов, реплик или монологов внутри одной роли, столкновений и отношений между ролями. С понятием композиции связывают такие термины, как стиль, форма, ритмика, динамика, сюжет. К композиции сюжета относятся такие элементы, как завязка, развитие, кульминация и развязка, при чем в основе композиции находится конфликт. Отмечается, что зачастую художественное произведение обладает довольно сложной композицией, содержит несколько параллельных или пересекающихся конфликтов, например. Представляется, что и структуру роли композиционно составляют несколько взаимосвязанных и конфликтующих субролей, каждая из которых имеет свою структуру – композицию. Возникает вопрос о том, что является ядром этого сложного взаимодействия субролей или центром, определяющим гештальт роли. Обратимся к мнению актеров. Денис Никифоров так говорит о поиске основы, исполняемой им роли контрразведчика: «Еще в начале работы мы обсудили с Аней (Анна Гресь, режиссер фильма. – Прим. авт.) все детали. Пришли к выводу, что главное внимание будет сосредоточено на том, что я лично называю "чу". Наш фильм о ребятах из контрразведки, которые читают книгу жизни между строк. Например, мне нужно было сыграть – "Рощин почувствовал далекую вибрацию…". Очень сложно передать всю гамму чувств, которая соответствовала бы этому состоянию, а моя роль полностью на этом построена. После пяти месяцев работы шпионские навыки майора меня так накрыли, что я в жизни начинаю действовать, как он». И далее: «Больше ничего ТАКОГО в эту роль я не привнес. Остальное – моя внешность, мои эмоции, жесты. Правда, иногда пробовал расслабиться и пошалить…» [42]. В этих словах явно выделяются все три обозначенных ранее пласта роли, а также выделяется тот элемент, который стал для исполнителя определяющим, «ролеобразующим». Роль может иметь в своей основе идею, а может – трюк. Может быть направлена к чему-то и выполняться ради чего-то, следовательно, имеет в основе мотив и цель.
Довольно широкое значение термина «композиция» – сочинение, построение и произведение – позволяет констатировать, что, с одной стороны, роль сочиняется, придумывается, с другой – выстраивается, исполняется и с третьей – воспринимается и рефлексируется. Таким образом, в структуре роли вполне можно выделить три пласта. Условно назовем их – предикторакционный, действенный, рефлексивный. Первый пласт содержит результаты активности авторов роли, проявленной в направлении представления о цели роли, ее содержании, поисков себя в роли и роли в себе. Второй пласт – формы и способы действий в роли, направленные интеракции, коммуникации. Третий – результаты восприятия экспектаций, реакций коммуникантов на свои действия в роли и результаты рефлексии и саморефлексии. Отсюда следует, что психокоррекционная и психотерапевтическая работа с ролевыми деструкциями, в том числе и ролевыми конфликтами, должна содержать приемы когнитивного, поведенческого, психоаналитического и экзистенциального направлений.
Теперь вернемся к пространству ролевого конфликта и обратим внимание на его структуру, отметив <=> области, в которых возникает напряжение, чаще обусловленное необходимостью выбора.

Рис. 5. Пространства ролевого конфликта
Кстати, возможно, что именно по тому, как делается выбор, по тому, какие выборы в целом чаще совершает человек, и можно определять суть его внутриличностного конфликта? Но, об этом несколько позже. Опять опережая в целях обоснования идеи о художественной сущности конфликта, обращаю ваше внимание на то, что все пространства «<=>», т. е. противоречия ролевого конфликта являются также и сущностью художественного образа, основным свойством которого является противоречивость, инициирующая на уровне эмоций – переживания, на уровне когниций и, в дальнейшем, действий – выбор. Выбор связан с самоопределением в конкретной области – действий, принципов, суждений. Проблема выбора определяется как самая сложная в психологическом консультировании и не только. Вспомните… «Быть или не быть? Вот в чем вопрос…» Казалось бы «выбор» – не психологическая категория, точнее, не полностью психологическая. Этическая, например… Философская, например… Конечно, есть уверенность в том, что в ней есть психологические аспекты. С чем они больше связаны? С восприятием? С необходимостью принятия решения, а значит, направленностью размышления? С потребностью или мотивом? Какова структура выбора? Простая – «субъект – вариант – объект» или более сложная «субъект – несколько вариантов – несколько объектов»? В рамках теории поля – куда более всего «притянет», т. е. сила притяжения определяет выбор? Мы же скорее видим то, что хотим или предполагаем увидеть, чем то, что на самом деле существует. Но тогда опять все «завязано» на восприятии и факторах, которые его обусловливают. В рамках когнитивной теории: выбор определяет референтное когнитивное пространство, т. е. убеждение, принцип? А что, если человек располагается в пространстве выбора, не ориентируясь ни на убеждения, ни на рефлексию, ни на высшие общечеловеческие принципы? Если он выбирает «по наитию»? Или просто «потому что!» Вероятно именно поэтому психология выбора пока не получила должного внимания, несмотря на явную и научную, и практическую необходимость. Слишком много гипотез, каждая из которых имеет право на то, что бы быть подтвержденной. И слишком мало валидных методов, которые могут убедить в достоверности полученных результатов. А раз недостаточно одних – надо обратиться к другим. Например, художественным работам на эту тему.

Ил. 1. В. А. Драчинский. Выбор
Разные, но во многом похожие варианты… Вероятно, ощущение одной и той же проблемы. Вероятно, разное эмоциональное отношение к одной и той же проблеме…

Ил. 2. Е. Купалянц. Легкий выбор
Почему «легкий»? Потому что один и «свой», «родной». Потому что разумный, рациональный (судя по семантике синего цвета М. Люшера, В. Кандинского). Значит, для того, чтобы выбор был легким, он должен быть, как минимум, рациональным?

Ил. 3. А. Тенегин. Выбор жизненного пути
Конечно, гораздо вернее было бы выяснить у автора работы о том, какая жизненная ситуация или какие идеи, или какие эмоции вызвали в его художественной реальности данный образ. Но… Л. С. Выготский вполне доказательно убеждает в том, что восприятие художественного произведения есть повторный акт его создания. Только в психической реальности того, кто его воспринимает. Следовательно, каждый из нас имеет свою версию «Выбора жизненного пути». Правда, вполне можно обратить внимание на образы, посредством которых автор выражает содержание выбора: символ лестницы, центр композиции и два весьма похожие варианта, но с разным содержанием на разных горизонтальных уровнях образа, наличие общей «цели» в виде «зерна», композицию цветов в виде базового сочетания оранжевого и синего, т. е. конфликта «эмоционального распространения во вне» и «рационального осознания внутри». Можно заметить и некую «шахматную доску» – символ игры. Прямо по Г. Гессе! Каждый обнаружит и общее и свое. В результате – выбор между своим и общим? Опять нравственный конфликт? Значит, конфликт выбора – это конфликт нравственности?
Оставим данную сентенцию без ответа и обратим внимание на вторую картину Артема Тенегина «Конфликт души и тела». Явно, что тело представлено в разных цветовых воплощениях, которые могут меняться в зависимости от «струн» души. Общие для всех, достаточно понятные символы. Но в целом образ ринга. Вечная «фрейдовская» борьба, в которой побеждает…? Много возможных вариантов… Борьба и есть борьба. Именно она порождает энергию развития.

Ил. 4. А. Тенегин. Конфликт души и тела

Ил. 5. В. К. Щетинин. Право выбора
Как яркая, открытая дверь активности (красный цвет) и творчества (зеленый цвет), ведущий к рациональному, но сотворенному собой «синему» выходу. Я этот образ «раскодирую» так. А вы? С какими ощущениями в ситуации выбора, какими мыслями и действиями это связывается в вашем восприятии?

Ил. 6. В. Горбунов. Губа не дура



