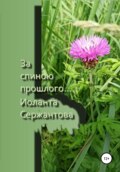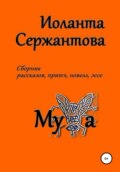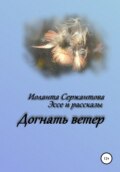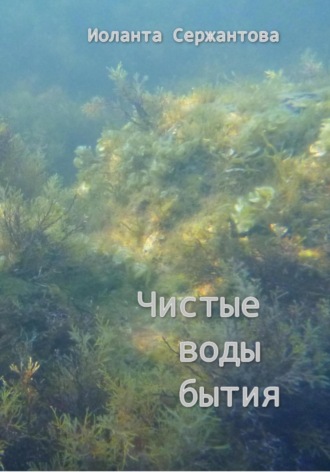
Иоланта Ариковна Сержантова
Чистые воды бытия
То решать не нам…
Всё чаще и чаще, по дороге из недавнего детства в небытие, на бегу и при неслучайном, как водится, случае встречи со старыми знакомыми, на вопрос: «Где наши все?» они скучнеют из-за того, что эта фраза вырывает их из суеты самообмана:
– Где? Ты про кого? Если про Пашку, то он уже не с нами…
– Давно?
– Давненько.
– А Серёга?
– Накануне… ну, ты, понимаешь, звонил из больницы, мы долго разговаривали…
А под конец он сказал, что если не ответит, то это уж всё.
– А Шурик?
– Хотели пообедать вместе.
– Ну, и?!
– Не проснулся.
– Почему?! Что случилось-то?!
– Я не спрашивал. Да и какая теперь разница.
– Чего мне-то не сообщили?
– Не знаю. Не до того было, наверное.
– Сам был… там?
– Нет. Я хочу помнить его живым.
Пытаясь сменить тему, я принимаюсь возмущаться тому, что никто из друзей за делами и бездельем не удосужился поздравить меня с юбилеем, на что он резонно заметил:
– У некоторых из наших его не было вовсе…
Посмотрев друг на друга обречённо, мы договариваемся о встрече. «Но только чтобы без отговорок», – решаем мы, но видим друг друга в следующий раз только лишь на похоронах. На чьих? То решать не нам.
Праздник нового дня
Едва ночь засобиралась уходить и переодевшись в домашнее, поскромнее платье, задула свечи звёзд, утро принялось основательно готовиться к празднику грядущего дня, и перво-наперво затеяло варить кисель на малом огне рассвета, ибо всякой хозяйке ведомо, что кислый мучнистый студень или же взвар, коли осталось ещё сушёных яблок, нужно ставить на плиту первым, дабы поспел и остыл к обеденному часу.
Крахмал облаков сбился в пышные рыхлые мутные комья, и ветру пришлось растирать их со тщанием, дабы придать небесам той бездонной однородности и гладкости, кой хороша в спокойные, тихие, ясные дни. Впрочем, как бы ни был огонь мал, всё одно – временами кипело, брызгало розовыми каплями через края горизонта, заляпывая в «розовый-гвоздичный» стволы, заливая полупрозрачным душистым лаком света срезы пней, ровно застилая их сквозной камчатной10 тканью.
Скомканные скатерти сугробов, что сдёрнуло накануне солнце, да позабыло постирать,лежали тут же, но вида не портили. Чего не бывает в хозяйстве. Без минутного беспорядка порядка не видать.
Заодно с облаками, ветер посшибал с чубов веток вязанные шапки гнёзд, да в самый снег, сыграв на крыло тем, склонным к праздности пернатым, что заместо гнёзд обустраивают ямки промежду кочек в траве или прямо так, на голой земле. Тут уж подержанное лукошко окажется весьма кстати. Многие птицы, как люди, любят на всё готовое, а иным за песнями недосуг, к примеру, как соловьям, а которым и дела ни до чего нет, – как сложится, так тому и бывать…
К полудню, когда солнце выкрутило свету, сколь смогло, день пировал и праздновал себя, не таясь. Всякий, живущий в том дне, щурился от удовольствия и причинённой бытностью радости, а со стороны леса раздавался стук деревянных ложек по блюдам и тот деликатный хруст, когда, стесняясь показаться простушкой, девица впивается-таки в куриную ножку ровными своими зубками, прикрывшись от посторонних вышитым собственноручно платком.
Натянув облако до подбородка, будто одеяло, солнце светилось, дивясь на результаты своих трудов и тому, как приятно делать ему то, что дОлжно. Ровно так, как это и должно быть у других.
Москвичи
Когда нас представили друг другу, то это не было похоже на первую встречу чужих людей. Чувство, всколыхнувшееся в моей душе, оказалось сродни тому, почти забытому, что я испытал некогда в детстве, когда бабушка, указав на незнакомого мне мальчика, стоявшего в её кухне, подле святая святых – припудренного мукой стола, на котором лежало тесто, с ласковой улыбкой произнесла:
– Знакомься, это твой троюродный брат.
Я рассматривал мальчика, как новую, нечитанную ещё книжку с неведомым сюжетом, финалом, и, что самое главное, – я не был свободен в выборе – «перечитывать» эту книгу или поставить на полку, позволив пыли укрыть от меня её название и даже самый верхний обрез.
Признание родства принуждает искать и находить повод для каких-то совместных занятий. Отсутствие простительного, понятного вполне отчуждения незнакомых друг другу людей обезоруживает более чувствительного, играет с ним злую шутку. Он как бы лишается права защищать своё «я» от вторжения, и обязывает уступать, делиться, сносить насмешки. Даже если ты не дрожишь за своё барахлишко и готов разделить его между первым и вторым встречным, всё же, разламывая шоколадную конфету, хочется протянуть бОльшую часть тому, кто приятен, тому, к которому без сожаления пододвинешь коробку с единственным любимым конструктором… Особенно когда тебе пять-семь лет от роду.
С тем троюродным, мы по сей день как-то не очень, нет ожидаемого, искомого, безусловного тепла и искренности, несмотря на несомненное родство. Но в противопоставление к этому случаю, однажды в Москве, после концерта, на котором я пел своё – искреннее и безыскусное, произошла ещё одна встреча, что свела с людьми, без которых я не мыслю своего прошлого.
… Когда нас представили друг другу, я почувствовал, что вижу перед собой не незнакомца, но родного человека. Как минимум – двоюродного брата. Он очевидно был готов поделиться всеми игрушками своей взрослой жизни, а тут – мне «всего лишь» негде было переночевать, и он без лишних слов согласился приютить меня.
– Я только позвоню родителям. Предупрежу. – объяснил он, выискивая глазами ближайшую телефонную будку.
Сашка, так звали моего нового друга, работал в редакции журнала «Советская культура». Протягивая руку для первого пожатия, он сказал:
– Александр, но ты зови меня Сашкой, как называют меня близкие.
Вот так запросто, не сомневаясь, не задерживая наше случайное знакомство в кислом от неопределённости болоте необходимости «дать время, дабы перерасти во что-то большее», этот парень с первого мгновения причислил меня к близким, к друзьям. Хотя, как оказалось позже, завоевать его доверие было очень нелегко.
Родители Саши приняли меня так, будто бы я был их потерянным и вновь обретённым сыном. Приятие и симпатия Сашки была порукой тому, что мне можно открыть не только двери дома, но и сердце.
Честное слово, я был до такой степени оглушён добротой и радушием этой семьи, что совершенно незаметно для себя стал называть Сашкину маму – мамой, а отца по имени, как давнего, старшего, задушевного друга. И при этом оказались совершенно не важны: ни отсутствие родства, ни разница в возрасте, ни то, что мы вообще знакомы всего несколько часов.
Единственным человеком, который не разделял восторгов домочадцев, была Сашкина бабушка. Она с подозрением присматривала за мной, почти шпионила, что, в противовес здравому смыслу, не умаляло гостеприимства семейства, но напротив, наделяло его ещё бОльшей ценностью. Ну, не нашлось у Сашкиной родни за пазухой камней, что можно было бы бросить по моему адресу. Не искалось.
Меня уложили спать на роскошном кожаном диване, а «только до утра», как-то незаметно растянулось на неделю. Мама Саши, подсушивая кусочки солёного хлеба на сухой сковороде, посоветовала не торопиться за обратным билетом, вместо того наказала «не опаздывать к ужину» и вручила запасную связку ключей.
Где ж затерялось оно, подтверждение притчи во языцех – о высокомерии и разумной до безосновательности, привычной настороженности москвичей? Не было его! Не в этот раз. Не со мной. Не от них.
Закончив свои дела, я заходил к Сашке на службу, и он делился со мной причудами классиков, что забегали в редакцию на чай о пяти звёздах.
Мы гуляли по улицам и переулкам Москвы, и не могли наговориться. Про что? Не помню, да и какая теперь разница. Мы были такими счастливыми, именно это и запомнилось очень хорошо.
Мы переписывались, перезванивались, и во время моего очередного приезда в столицу, ночами я вновь вдыхал вкусный запах кожаного дивана, а на завтрак запивал сладким чаем солёные сухари.
Увы, всё в этом мире кончается когда-нибудь.
Сперва не стало строгой и подозрительной бабушки, после ушла Сашкина мама, потом и он сам. Последним покинул этот мир его папа, – хороший, добрый друг. Перед Новым годом я непременно кладу под ёлку конверт с открыткой, подписанный его рукой, но только после боя Курантов решаюсь перечитать её в очередной раз. Вздыхаю. Закрываю глаза и заставляю себя хотя ненадолго поверить в то, что все ещё живы, а грущу лишь потому, что вижу, будто теперь маму… Саши, которая машет мне с перрона, утирая слёзы свободной рукой.
…Неведомо отчего, но на ум часто приходит фраза о том, что «Человек создан для счастья, как птица для полёта»11. Слышанная тысячи раз, она только теперь обрела смысл. Думаю, всякий раз, когда сосуд очередной прописной истины наполняется исконным своим значением, мы становимся взрослее. Ещё немного…
Не насовсем
В печи золотистым шёлковым платком полощется пламя. Сквозь его прозрачную ткань видны самоцветы углей, рассыпанные по бархату золы. Укромность теней и само тёплое дыхание печи, что сделаются вскоре надолго ненужными, тянутся до тонкой струны души, и касаясь её, прислушиваются к строю, что одинаков во все времена.
В той незатейливой музЫке и сожаление об минувшем, и предвкушение нового, и запоздалый стыд из-за неумения сокрыть поспешность, желанность преувеличенной надеждой радости, что сбывшись, увянет срезанным цветком.
Невозможно свыкнуться с неотвратимостью увядания, проще не думать, забыться трудом, иль, окутав себя паутиной праздности, тянуть жизни сладкий сок через травинку с надменностию видавшего виды, кой скрывает неподдельный детский испуг.
Чудилось ещё, будто бы шёлк пламени касается углей, словно полуденный зной, что крадётся вслед за ветром и дотрагиваясь придорожных камней, согревает их в ладонях жарким своим дыханием.
Тем же часом, за окном, среди вишен… Несмотря на мороз, да что солнцу нездоровится вдругорядь, деревья нарядились разноцветными шарами синиц и снегирей. Клочья снега холодной ватой зажатые перстами ветвей, неловкие от мороза, роняют снег наземь. Но достанет его и марту, и апрель, коль будет в том надобность, отыщет его вдоволь на дне оврагов.
Да не насовсем тот снег, и не только он один.
Чистые воды бытия…
Снег не падал, но парил в воздухе, так что чудилось, будто он поднимается, возвращая ночи снежинки, как упавшие некогда звёзды. Те долго набирались в горсть земли, кажется, с конца лета, и разглядывала их она, как дети рассматривают морскую гальку, – нос к носу с собственною тенью. Ходят, не замечая озноба от запечённых солнцем плеч, выбирают особенные, глаже прочих голыши, один взгляд на которые вернут их позже в объятия бриза, даже когда просохнет, облупится лак воды, оставив пудру мелкой соли в уголках губ и морщинках подле глаз. Ведь то только кажется, что все они на одно лицо.
Разложив тесно на прилавке берега, исплакавшаяся волна брызжет на камешки, будто торговка, что с несчастным лицом кропит мокрым пучком петрушки свой первый редис. Ей будто жаль расставаться с выпестованным с семечка овощем. И гладит она красные красивые шары с обвисшими ниточками корней и задорным чубом ботвы на прощание, сменяв на монеты, от которых одна лишь радость, что пойдут они на сладости внукам. Ей-то уж и не надо ничего, кроме как видеть,что идёт в рост, набирается сил и красок, взрослеет… А кто то будет или что, – котёнок, человек, либо этот редис, ей уже без разницы.
Счастлив тот, кто дорос, дОжил до эдакой-то любви ко всем, ко всему на свете.
Ночь-полночь. Низкие облака полностью закрывали небо. Единственно – ржавая по краям луна зияла прорехой, светлым пятном, что колыхалась, мерцала и казалось колодцем, полным жемчужной, чистой воды бытия.
То ненадолго…
Синицы копошатся по-мышиному под юбкой сосны, прыгают коридорами просторных нор сугроба, но всё одно жмутся ближе к стволу, где теплее, подальше от залы простора, понавдоль которой по-гусарски прохаживается февральский ветер. Оттуда же, из глубин, синицы подают голос, и не веря себе, соловеют, ибо под сурдиной снега звук округляется, а лишаясь простоты и прямолинейности, делается изысканным, приятным даже для привыкших к соловьиным трелям с коленцами.
Насладившись нечаянным своим талантом, ошалев от него, устремляются синицы на вольный воздух, отдышаться на снег, высыпаются словно семечки из белоснежной сердцевины яблока, да тут же, опалённые морозом, прячутся обратно. Ненадолго оно, это желание – прийти в рассудок, всякому приятнее казаться лучше и себе, и другим, пустить пыль в глаза, хотя снежную, хотя иную, – то по сезону и обстоятельствам. Взбираясь на этажи веток, принимают синицы снежные ванны, лакомятся мороженым, сдобренным полезными для шевелюры семенами чертополоха, что доставил услужливый ветер к столу. Не обошлось и без горсти семян хмеля. Но во хмелю не все веселы, бывает, что и буйны, а потому можно-таки, лучше, обойтись без него.
…А и мышковал в ту пору, как водится, лис с длинным, в половину себя, пушистым хвостом, что развевается соскользнувшей с шеи горжеткой, не касаясь, впрочем, скованной настом тропы. Обескуражен заправский хитрец странными голосами и неправильной суетой из мышиных нор. Лишённый бодрости, как надежды, струсил он, потрусил прочь, в поисках простых и понятных собственно мышиных звуков, к коим приучен с малолетства.
Те ж нелепые птицы, привалившись к стволу крылом, млеют от своего недавно обретённого совершенства. Да то ненадолго – пока не растает снег…
– Слыхал? Синицы поют дикими голосами.
– А казались так милы, покуда не принялись чудить.
В мечтах…
Несмотря на безветрие, лес постоянно находился в движении. Как только некий, потревоженный солнцем сугроб сползал с ветви вперёд спиной, будто дед с печи, та ветка тут же разминала затёкшую шею и плечи, после чего полегоньку распрямлялась, задевая при этом соседние дерева.
– Прошу прощения… – сипела ветка, но её словно не слышал, не слушал никто, ибо со всех сторон раздавались подобные же этому скрипы, вкупе со смущённым, даже несколько боязливым уханьем снега с высоты.
– И чего ж пугаться-то так? – изумлялась ветка столь очевидно выказанному страху очередной горсти снега, рухнувшей под ноги дерева, на котором она росла, – чай не мышь, не из норы выбрался, недавно ещё летал по небу, кружился, куражился, красовался перед округой, грозил заполонить, засыпать её вровень с горизонтом, а теперь что? На попятную?
– Так то когда было… – таял от стыда снег.
– А вот и вчера, и третьего дня, и перед Святками! – злорадно упрекала памятливая ветка. – Да по всю зиму, почитай, безотвязно ты тут.
– Ну, уж прямо… – насупившись возражал снег.
– И не один! – возмущалась ветка, – Со всею роднёй, судя по всему! Куда не глянь, всё одно – снег!
Солнце, что неизменно, – зримо иль скрытно участвует при всём, рассмеялось при этих словах, приложив к губам платочек облака, и осмелевший, ободренный малой тенью снег враз нашёлся, чем ответить ветке:
– А как ещё, в зиму-то? Иначе никак!
– Ну, не знаю… – растерялась ветка, – Не первый год живу на свете, но чтобы эдак-то, помногу дён мело, такого не припомню…
– Всё когда-то случается впервые… – резонно возразил снег.
– Это да… – неожиданно легко согласилась ветка.
И… долго после беседовали они. Рассуждая о былом, как об теперь, о том, что в настоящую пору, и про то несбывшееся будущее, в котором уверен всяк, покуда не наступило оно на пятки и не сделалось минувшим, да таким, что без красок, коими наделяет всякое прошедшее память, не обойтись никак. Не таковское оно всё, в мечтах…
Кора деревьев звонко лопалась мыльными пузырями от мороза в ночи, а лес, каждое из его дерев, что застоялись за зиму, топтался, высвобождая подле себя немного свободного места, дабы было куда ступить весне.
С драгоценной улыбкой зари…
Ветер резко распахнул бушлат ночи, оборвав блестящие пуговки звёзд, из-за чего стало видно тельняшку рассвета на крепкой, широкой, просторной груди неба, что словно открытая всему миру и честная перед собой душа.
И тут же солнце алмазным, разительным сиянием принялось веселить округу, простирая тонкие лучи, будто объятия, навстречу новому дню, невольно принуждая к улыбкам без видимых причин, да наигранной рассеянности, под которой прячут обыкновенно искреннюю, детскую, стыдную от того радость, что жив.
Окрылённый эдаким рассветом день скользнул над землёю незаметно, уступив место сумеркам, в тени которых, при свете ночника луны ветер выбирал в лесу одну из полых или со многими дуплами свистулек стволов, коих не счесть, и принимался дудеть. Кажется, он перебрал их все, и вздыхая протяжно по которому уж разу, упрямился, выискивая тот самый голос, в котором послышится, а лучше – явственно прозвучит одновременно и радость, и печаль, и осуждение, и бесконечная, безусловная любовь, которой желается немалому числу, но так, чтобы навечно, без отдачи.
Увы, лишь для малой части выражение той любви – потребность, без коей себя не мыслят, остальное большинство дорожат собою пуще, нежели прочих.
А ветер всё искал и искал, да не сдюжил, наконец утомился и стих.
Так вот же она, странность естества – не разглядеть очевидного. Сколь ветер не тщился, а любой, играющий гамму жизни, узнал бы в том извечно одном звуке ноту «Соль» самой первой октавы, той, что напротив пюпитра с истрёпанными до конфетти по краям нотами, где записаны причудливые в своей простоте мелодии бытия.
– Соль – это вы про соль жизни? Избито, пожалуй!
– А это уж как вам будет угодно. Истина всегда изранена непониманием. Но то лишь до известной поры.
…Ночь щедро делится с округой покоем не всегда, но нынче, разделённая с одной стороны залысиной простёртого горизонта, а с другой – искусным, чёрным кружевом зимнего леса, она прислушивается к неспешной, неловкой музыке ветра, к смеху во сне лисят из норы, издали похожим на плачь… И она благосклонна ко всем, ибо дарует надежду утра с его сияющей, драгоценной улыбкой зари.