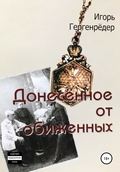Игорь Алексеевич Гергенрёдер
Участник Великого Сибирского Ледяного похода. Биографические записки
Второй Райх
Немецкое слово Reich (империя) произносится: «Райх». О концлагерях в гитлеровском Третьем Райхе знают все. Но такими ли были лагеря для пленных в кайзеровской Германии – в Райхе Втором?
Почитаем о привлекающем внимание человеке, который ехал в бричке по донской степи. Это «мужчина в пиджаке городского покроя и сдвинутой на затылок серой фетровой шляпе», возле «его ног лежал желтый саквояж и мешок, прикрытый свернутым пальто». Казак Степан Астахов, персонаж «Тихого Дона», возвращается домой из германского плена. Рассказывает, как попал в него:
«– Ранили в двух местах, а казаки… Что казаки? Бросили они меня… Попал в плен… Немцы вылечили, послали на работу…»
На вопросы, как жилось в плену, отвечает:
«– Вначале скучал, а потом привык. Мне хорошо жилось. – Помолчав, добавил: – Хотел совсем остаться в Германии, в подданство перейти. Но вот домой потянуло – бросил все, поехал».
Выясняется, «что Степан будет по окончании службы жить на хуторе, дом и хозяйство восстановит. Мельком упомянул он, что средства имеет».
Пленный вернулся из кайзеровской Германии со средствами на восстановление дома и хозяйства.
О русском пленном в Германии написал Иван Шмелёв. Рассказ назван – «Чужой крови». Пленник Иван отдан в работники германскому крестьянину Брауну. Иван думал: «голодом морить будут. Нет, ничего кормили. Даже вечером ели с салом, а в праздник крошила немка соленую свинину. Ел Иван во дворе, – немцы в доме. Приносила обед тонкая, золотушная Лизхен, говорила пискляво: «Драстуй», а Иван отвечал: «Данкашен, майнэ фройлайн!»
Пленному выдавалось жалованье. «Справил себе Иван крепкие башмаки на гвоздях, куртку и синюю кепку: ходил герр Браун в какой-то «ферайн», сам выбрал. Да еще выдал Ивану жалованья остаток. В праздник как-то вырядился Иван в немецкое платье, закурил сигаретку и пошел по деревне. Смотрели на него немки из садиков, смотрели крадучись-жадно, а часто встречавшаяся розовенькая, тоненькая Тереза кивала ему светловолосой головкой. Сказал ей Иван, молодцевато козыряя:
– Гутен таг, майнэ фройлайн!»
Всё умеющий труженик, Иван становится своим в семье: «Другой год кончался, как работал Иван на немца. В работу втянулся, говорил чужой речью, и уже сажали его немцы с собой обедать».
Пленный наблюдает быт немецких крестьян, с самым живым интересом относится к нему: «Пел Иван немецкие песни, ловко умел ругаться и даже заходил в кирку. Даже один езжал в город. Говорили про него в Грюнвальде:
– Русский Иван – золотой парень, парень – сила. Из него выйдет хороший немец».
Крестьяне не бросаются словами, и слова Брауна имеют цену:
«Сказал немец к концу второго года:
– Кончится война, на родину не езди».
И таких, как Браун, российские газеты с 1914 года называли заклятыми врагами, называли гуннами.
Никто из историков до сего дня не указал, на какую ложь пошёл царь 2 августа 1914, повторив сказанное Александром I о нашествии Наполеона: «Я никогда не подпишу мира, пока хоть один вражеский солдат будет попирать русскую землю!»
Ложь о том, будто немцы в 1914 году напали на Россию, перейдя её границу, так и осталась в массовом сознании, укрепляясь фактом нападения гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941. Между тем цепь событий, разворачиваясь, потянулась к этому дню от 30 июля 1914 года, когда был объявлен Высочайший указ о всеобщей мобилизации.
В интернете есть фотографии: убогие крытые соломой жилища, приютившиеся на голых, без деревца, пространствах, крестьяне, кормильцы семей, которые отсюда уходят на войну, отдав единственную, может быть, лошадь. В своих жилищах крестьяне чёрный хлеб ели не досыта, повседневной пищей была пшённая так называемая «ройка», ложка которой без глотка воды «вставала в горле». Их посылали умирать за Сербию, чьи крестьяне жили в каменных домах, окружённых плодовыми деревьями, и не обедали без виноградного вина. Кричать о долге спасать братскую Сербию пристало таким, как Завалишин, которые ели московского молочного телёнка, кавказских фазанов, ладожских сигов, пили вино «орианда».
Что им русский мужик?
Иди и гибни безупрёчно.
Умрёшь не даром, дело прочно,
Когда под ним струится кровь.
Нашими, мол, станут проливы Босфор и Дарданеллы. Станут ли? Действительно Англия и Франции позволили бы России заполучить их, удержись она в войне до победы?
Получила Россия то, что получила. Лишилась Германии как союзника, друга, предназначенного судьбой. Будь они вместе, какая это была бы мировая мощь! Как рос бы в России уровень жизни населения, оставайся немцы его составляющей! Их можно уподобить пересаженному органу. Те, кому следовало заботиться о том, чтобы он прижился, – немцы Александр III, Николай II – поступали наоборот, и произошло отторжение. Не знак ли вины Николая II – страшный конец его и семьи?
Сколько раз сказано, как Ленин и его партия на германские деньги разлагали русскую армию, как проиграл Керенский, как был совершён Октябрьский переворот, развернулся красный террор, разгорелась Гражданская война, сколько рассказано о неисчислимых преступлениях, о сталинизме и прочем, прочем…
Но надо задуматься, поразмышлять, что всего этого (всего-всего-всего этого!!!) не было бы, не согласись Николай II 30 июля 1914 года объявить всеобщую мобилизацию.
О ком никто не пишет
Открывая в 1970-е годы «Огонёк», отец считал портреты Брежнева. В одном номере насчитал девять. Перелистывая следующий номер, воскликнул: «Одиннадцать!» Когда население, сказал он, зажато, когда ему лгут, правитель не может быть просто деловым человеком, он обязательно – идол!
Отца интересовало, как при «идолах» обстояло дело с порядком в их странах. Однажды он сказал, размышляя вслух: «Муссолини придавил мафию или это оказалось ему не по зубам?» Но то были теоретические вопросы, а отцу не давала покоя повседневность. Мы с ним нередко прогуливались, и его выводили из себя разбитый уличный фонарь, сломанная скамейка, повреждённое деревце. «Так изо всего раздражаться – никаких нервов не хватит», – говорил я ему, но он, разумеется, оставался самим собой.
Его библиотекой пользовались желающие почитать, нередко кто-нибудь не возвращал книгу, отец сетовал, огорчался, но продолжал давать книги. Он обёртывал их бумагой, чего люди не понимали, полагая, что книга «в плохом состоянии». Если же кто-то из любопытства снимал обёртку, то, видя, что книга новенькая, удивлялся.
У отца было отличное зрение, до восьмидесяти лет он читал без очков. Вообще он не был обижен здоровьем, семидесяти лет мог с места вспрыгнуть на стул. Регулярно занимаясь гимнастикой, он не сутулился, не толстел, был «лёгок на ногу», подтянут. В старости его рост составлял 174 см. Волосы, когда-то тёмные, стали белым-белы, но лысины не появилось.
Когда я глядел на него, в сознании возникали фразы Гарсиа Маркеса о его герое-полковнике: «Это был крепко свинченный, сухой человек», «его глаза были полны жизни».
Отец продолжал сотрудничать с газетами, писал о том или ином учителе, о местном шахматисте, о садоводе, а мне думалось: так ли замечательны эти люди, их жизнь, по сравнению с ним и его жизнью?
Герою Маркеса никто не писал, но о нём, был он или не был, написал Маркес и сделал известным на весь мир.
О жизни описанного Маркесом полковника знали все в его городке, а о прошлом моего отца со всем разнообразно интересным в нём не знают. Не подозревают, что пятнадцати лет от роду он пошёл воевать за свободу, стал участником Великого Сибирского Ледяного похода.
Отец в отглаженной матерью рубашке, заправленной в брюки, выходил на улицу, и я мысленно повторял: «Тот, о ком никто не пишет».
К счастью, никто не знал его мыслей о стране. В начале 1980-х в газетах набросились на Рональда Рейгана, который заявил, что СССР – империя зла. «Империя лжи – точнее!» – сказал мне отец.
В 1980-е годы я жил уже не с родителями, а в Кишинёве, где женился. Родилась дочь, и мы с женой в 1986-м привезли её в Новокуйбышевск. Мой отец брал внучку на руки, носил её по комнате; он был очень доволен.
Мы неизменно приезжали и в последующие годы, я регулярно переписывался с отцом.
Его возраст давал себя знать, развивался атеросклероз, начались головокружения. Осенью 1990 года отец упал в квартире, сломал несколько рёбер, они благополучно срастались. 11 декабря (28 ноября по ст. ст.) ему исполнилось 88 лет. Были перебои с подачей горячей воды, и, когда он, моясь в ванне, захотел добавить горячей воды, она не потекла. Он открыл кран полностью, и вдруг горячая вода хлынула. Он не успел вовремя завернуть кран, получил сильный ожог. 30 декабря 1990 года А. Ф. Гергенредер скончался в больнице от ожога, поразившего «двадцать процентов туловища» (свидетельство о смерти).
Тогда о нём написали. Журналистская организация Новокуйбышевска опубликовала в городской газете «Знамя коммунизма» извещение о смерти члена Союза журналистов СССР Гергенредера Алексея Филипповича и выразила соболезнование семье и близким покойного.
Он немного не дожил до развала СССР. Я в детстве слышал от него, как ему преподавали историю России, он передавал своими словами, что говорили о поездке послов к варягам. Послы им сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите к нам и правьте нами».
Сколько было опровержений в советское время! Один автор написал, что варягами называли русские племена. Ну, никак не хотелось, чтобы считали, что русскими правили иноземцы. О правлении немцев вообще не говорится.
Но вот перед нами история Советского Союза. Он пребывал в безваряжском состоянии, и развалили его сугубо русские люди.
Берлин, 24 июня 2019 года© И. Гергенрёдер