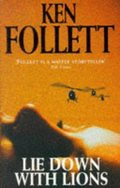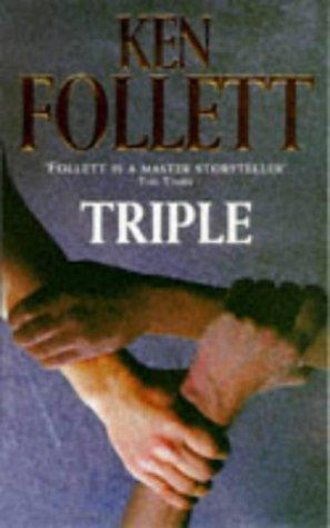
Кен Фоллетт
Трое
Но основное внимание Дикштейна привлекал путь по морю: из Ла-Манша через Бискайский залив, вдоль Атлантического побережья Испании, через Гибралтарский пролив и еще тысячи миль по Средиземному морю.
Мало ли что может случиться на таком долгом пути.
Доставка по суше носит непосредственный характер и ее можно держать под постоянным контролем: выходящий в полдень поезд приходит точно к половине девятого следующего утра; машина на автотрассе постоянно находится в поле зрения других автомобилей, включая и полицейские; самолет поддерживает постоянную связь с землей. Но море – непредсказуемая стихия со своими собственными законами, и путешествие может занять и десять дней, и двадцать, по пути могут случиться штормы, ураганы и поломки двигателя, из-за чего придется зайти в непредусмотренный расписанием порт и изменить направление движения. Попробуй захватить самолет, и через час ты окажешься на телеэкранах всего мира; при захвате же судна никто не узнает об этом и через несколько дней, и через неделю, а может быть, и вообще никогда.
Море представляло Пирату массу возможностей.
Дикштейн обдумывал ситуацию с растущим энтузиазмом, предчувствуя решение проблемы. Захватить «Копарелли»… и что потом? Перегрузить груз в трюмы пиратского судна. На «Копарелли», скорее всего, будут и свои краны. Но доставить груз по морю будет довольно нелегко. Дикштейн взглянул на предполагаемую в распечатке дату доставки: ноябрь. Плохо. Их могут застигнуть шторма – в ноябре даже Средиземное море становится неласковым. Что в таком случае? Захватить «Копарелли» и гнать его прямиком в Хайфу? Будет практически невозможно тайно снять груз с судна, какие бы меры предосторожности не принимал Израиль.
Дикштейн глянул на наручные часы. Уже далеко за полночь. Он начал раздеваться, чтобы пойти спать. Ему придется узнать все досконально о «Копарелли»: тоннаж, состав команды, нынешнее местонахождение, кому принадлежит судно и, если удастся, схему. Завтра он отправляется в Лондон. Все, что касается судов, можно найти у «Ллойда».
Ему надо выяснить кое-что еще: кто следит за ним по всей Европе? Во Франции, должно быть, работает немалая команда. Сегодня, когда он покинул клуб на Рю Дик, за спиной у него держалась какая-то бандитская рожа. Он подозревал, что за ним увязался хвост, но рожа исчезла – совпадение или же еще одна команда? Зависит от того, принимает ли участие в этих играх Хассан. В Англии ему придется заняться и этими изысканиями.
Сняв трубку, он позвонил портье. Когда тот ответил, он попросил разбудить его в половине восьмого.
Наконец у него определилась цель: «Копарелли». Еще нет четко разработанного плана действий, но он уже представлял, что делать. Какие бы ему ни встретились трудности, комбинация «неядерного» груза и морского путешествия была очень соблазнительна.
Потушив свет, он закрыл глаза, и перед ним проплыла последняя мысль: «Какой удачный день сегодня…»
Давид Ростов всегда был тем еще ублюдком, – думал Ясиф Хассан, – и годы его не изменили. «В сущности, вы ничего не понимаете…» – мог он сказать с покровительственной улыбкой; и еще: «Мы не нуждаемся в ваших людях – небольшая группа куда лучше»; и еще: «Сидите в машине и не высовывайтесь»; а теперь еще: «Посидите на телефоне, пока я смотаюсь в посольство».
Откровенно говоря, отношение Ростова можно понять. Не потому, конечно, что русские умнее арабов, но КГБ, вне всякого сомнения, крупнее, богаче, сильнее и куда более профессиональная организация, нежели египетская разведка.
Хотя Ростов должен помнить, прикинул Хассан, что именно арабы первыми засекли Дикштейна; этого бы расследования не состоялось, не заметь я его.
Тем не менее, он хотел завоевать уважение Ростова; он мечтал, чтобы русский проникся к нему доверием: вел с ним разговоры о развитии событий, интересовался его мнением. Он докажет Ростову, что он толковый профессиональный агент, не хуже Ника Бунина и Петра Тюрина.
Звякнул телефон. Хассан торопливо снял трубку.
– Алло?
– Другой здесь? – Это был голос Тюрина.
– Вышел. Что случилось?
Тюрин помедлил.
– Когда он вернется?
– Не знаю, – соврал Хассан. – Передайте мне ваше сообщение.
– О’кей. Клиент направился в сторону Цюриха.
– В Цюрих? Продолжайте.
– На такси он доехал до банка, вошел в него и спустился в подвальное помещение. В этом банке есть личные сейфы. Вышел он оттуда с чемоданчиком.
– И потом?
– Направился к торговцу машинами в предместье и купил подержанный «Ягуар», уплатив наличными.
– Понимаю, – Хассан предугадал, что сейчас последует.
– Он направился в Цюрих на машине, выехал на автотрассу Е17 и увеличил скорость до ста сорока миль…
– И вы потеряли его, – докончил Хассан, чувствуя в равной мере удовлетворение и беспокойство.
– У нас такси и посольский «Мерседес».
Хассан представил себе карту Европы. Он мог направиться в Испанию, Францию, Германию, Скандинавию… в другую сторону он мог поехать в Италию или Австрию… Словом, он исчез.
– Хорошо, возвращайтесь на базу. – Он повесил трубку прежде, чем Тюрин спросил, имеет ли он право отдавать приказы.
Он по-прежнему размышлял, что им теперь делать, когда вернулся Ростов.
– Ну, что? – спросил русский.
– Ваши люди потеряли Дикштейна, – скрывая улыбку, поведал Хассан.
Лицо Ростова потемнело.
– Как?
Хассан рассказал ему.
– И что они теперь делают? – спросил Ростов.
– Я предложил им вернуться сюда. И думаю, они уже едут.
Ростов хмыкнул.
– И я думал, что нам сейчас предпринять, – продолжал Хассан.
– Первым делом снова найти Дикштейна. – Ростов говорил рассеянно, потому что рылся в папке, что-то разыскивая.
– Да, но кроме того?
Ростов повернулся к нему.
– Переходите к делу.
– Думаю, мы должны найти человека и выяснить у него, что он передал Дикштейну.
Ростов выпрямился, размышляя.
– Да, в самом деле, – задумчиво согласился он. Хассан был польщен.
– Мы должны найти его…
– Это вполне возможно, – прервал Ростов. – Если мы на несколько дней возьмем под наблюдение ночной клуб, аэропорт, гостиницу «Альфа» и здание Евроатома.
Хассан смотрел на Ростова, изучая его высокую стройную фигуру, бесстрастное непроницаемое лицо с высоким лбом и коротко стриженными седеющими волосами. Я прав, подумал Хассан, и ему придется признать это.
– Вы правы, – сказал Ростов. – Я должен был подумать об этом.
Глава шестая
Оксфорд менялся куда медленнее, чем населяющие его люди. Можно предугадать происшедшие в нем перемены: он несколько расширился, на улицах стало больше машин и магазинов с невиданным прежде разнообразием витрин, на тротуарах появилось больше прохожих. Но главное, что определяло лицо города, все же осталось: кремовая окраска старинных каменных стен колледжей, высокие проемы арок и проходов, сквозь которые порой можно увидеть на удивление зеленое покрытие газонов и пустынные мощеные внутренние дворики.
Студенческая поросль предстала перед ним совершенно новым поколением. И на Ближнем Востоке, и в Европе Дикштейн привык видеть мужчин с волосами, падающими на уши, с оранжевыми и розовыми шейными косынками, в колоколообразных брюках и сапожках на высоких каблуках; конечно же, он не ждал, что встретит облик поколения 1948 года – твидовые пиджаки, грубошерстные брюки, фирменные оксфордские рубашки и галстуки от «Халла». Но он не был готов к тому, что предстало его глазам. Многие ходили просто босиком или в сандалиях на босу ногу. Мужчины и женщины носили брюки, которые, с точки зрения Дикштейна, слишком вульгарно подчеркивали формы. Встретив несколько женщин, чьи груди свободно колыхались под легкой тканью цветных блузок, он пришел к выводу, что лифчики окончательно вышли из моды. Вокруг было обилие синего цвета – не только джинсы, но и рубашки из джинсовой ткани, куртки, юбки и даже плащи. А волосы! Вот что действительно поразило его. У мужчин растительность не только закрывала уши, но порой грива волос спадала до середины спины.
Удивляясь и поражаясь, он прошел через центр города и миновал его пределы. В последний раз он шел по этой дороге двадцать лет назад. Стали возвращаться разные мелочи из времен, которые он провел в колледже: знакомство с удивительными звуками трубы Луи Армстронга; его старания избавиться от неистребимого акцента кокни; удивление, почему все, кроме него, так любят выпивку; стремление набрать книг больше, чем успевал их прочитать, так что стопка фолиантов на его столе постоянно росла.
Он попытался понять, сильно ли его изменили годы. Не очень, подумал он. Тогда он был испуган и искал себе укрытие от мира; теперь такой крепостью для него стал Израиль, но вместо того, чтобы обитать в ней, он вынужден покидать ее и драться, чтобы сберечь свое убежище. Тогда, как, впрочем, и теперь, он придерживался умеренно социалистических взглядов, зная, что общество далеко от идеалов справедливости, но сомневаясь, что его можно улучшить. Становясь старше, он обретал знания и умения, но не мудрость. В сущности, он знает больше, но понимает куда меньше, чем раньше.
Тогда он был в какой-то мере счастлив, решил он. Он знал, кто он такой и что должен делать. Он представлял, какая жизнь его ждет и как он должен будет себя вести в ней; и хотя его взгляды в принципе остались такими же, как и в 1948 году, теперь он был более уверен в них. Тем не менее, в юные годы Дикштейн надеялся, что к нему еще придет счастье, которое пока ему не встретилось, но, по мере того, как шли годы, его надежда слабела. И эти места болезненно напомнили ему о том, что прошло. И особенно этот дом.
Он остановился, рассматривая его. Совершенно не изменился: все такая же бело-зеленая окраска стен, садик перед входом, все такие же заросли. Открыв калитку, он прошел по дорожке к парадным дверям и постучал в них.
Надо ли было сюда приходить? Эшфорда могло не быть дома, он мог уже к этому времени скончаться или просто уехать на каникулы. Дикштейну стоило бы первым делом позвонить в университет и проверить. Но если расспрашивать надо было бы осторожно и между делом, так уж лучше рискнуть и потерять немного времени. Кроме того, ему захотелось по прошествии стольких лет посмотреть на старые места.
Дверь открылась, и женщина на пороге спросила:
– Да?
Дикштейн похолодел от потрясения. У него невольно приоткрылся рот. Его качнуло, и он ухватился за стенку, чтобы обрести равновесие. Он не мог скрыть изумления.
Это была она, и ей по-прежнему было двадцать пять лет.
– Эйла…
Она смотрела на странного невысокого человека в дверях. Он выглядел типичным преподавателем с кафедры в своих круглых очках, в старом сером пиджачке и коротко стриженными волосами. В нем не было ничего необычного или странного, когда он предстал на пороге, но, подняв на нее глаза, он буквально посерел.
Нечто подобное уже случилось с ней однажды, когда она шла по Хай-стрит. Почтенный пожилой джентльмен, уставившись на нее, снял шляпу и остановил ее со словами: «Я бы сказал, что мы вроде бы не знакомы, но все же…»
Сейчас явно была та же самая ситуация, и поэтому она тут же поправила:
– Я не Эйла. Я Сузи.
– Сузи!
– Говорят, я выгляжу точно, как моя мать в этом возрасте. Вы, очевидно, знали ее. Не зайдете ли?
Человек стоял на том же месте. Видно, он приходил в себя от удивления, но лицо его по-прежнему заливала бледность.
– Я Нат Дикштейн. – с легкой улыбкой представился он.
– Очень приятно, – ответила Сузи. – Не хотите ли… – И только тут до нее дошли его слова. Настала ее очередь изумляться. – Мистер Дикштейн, – едва не завопила она. Сузи повисла у него на шее и расцеловала его.
– Значит, вы помните, – спросил он, когда Сузи освободила его, обрадованного и смущенного.
– Конечно! Вы все время возились с Езекией. Вы были единственным, кто понимал, что она говорит.
Он снова слегка улыбнулся.
– Езекия, ваша кошка… я и забыл.
– Да заходите же!
Он зашел вслед за ней в дом, и она закрыла двери. Взяв его за руку, она протащила его сквозь квадратный холл.
– Просто потрясающе. Пойдемте на кухню, я там пытаюсь состряпать пирожные.
Она усадила его. Он медленно огляделся, порой чуть заметно кивая, узнавая старый кухонный стол, камин и вид из окна.
– Давайте выпьем кофе, – предложила Сузи. – Или вы предпочитаете чай?
– Лучше кофе. Спасибо.
– Я предполагаю, что вы хотите увидеть папу. Утром он читает лекции, но скоро будет к ленчу. – Она засыпала кофейные бобы в ручную мельничку.
– А ваша мать?…
– Она умерла четырнадцать лет назад. От рака. – Сузи глянула на него, ожидая услышать автоматический ответ: «Мне очень жаль». Он не вымолвил ни слова, но на лице его ясно отразились испытываемые им чувства. Почему-то она сразу как-то прониклась к нему симпатией за такую реакцию. Сузи завертела ручку мельнички, и ее треск заполнил помещение.
– Профессор Эшфорд по-прежнему преподает… я все пытаюсь вспомнить, сколько же ему лет. – Дикштейн решил возобновить разговор, когда она кончила молоть кофе.
– Шестьдесят пять, – сказала она. – Он совершенно не меняется. – Шестьдесят пять – это жуткая древность, но папа совсем не выглядит старым, с удовольствием подумала она: ум его по-прежнему остер, как нож. Она решила выяснить, чем Дикштейн зарабатывает себе на жизнь. – Разве вы не эмигрировали в Палестину? – спросила она его.
– В Израиль. Я живу в кибуце. Выращиваю виноград и делаю вино.
Израиль. В этом доме его всегда называли Палестиной. Как папа отреагирует на встречу со старым другом, который ныне отстаивает все то, против чего отец неизменно выступал? Но она знала ответ на этот вопрос: никак, ибо политические взгляды отца носили теоретический характер, не выражаясь в практических действиях. С какой целью приехал Дикштейн?
– Вы в отпуске?
– По делам. Мы, наконец, решили, что наше вино достаточно хорошо для экспорта в Европу.
– Просто здорово. И вы продаете его?
– Изыскиваю возможности для этого. Расскажите мне о себе. Держу пари, что вы явно не профессор университета.
Замечание это несколько смутило ее, и она залилась краской до ушей: не хотелось, чтобы этот человек воспринимал ее недостаточно умной для преподавательской должности.
– Почему вы так думаете? – холодно спросила она.
– Вы такая… обаятельная. – Дикштейн отвел глаза в сторону, словно тут же пожалев о вырвавшихся у него словах. – И во всяком случае, очень молоды.
Она неправильно поняла его. Он совсем не хотел обидеть ее. Самому неловко от своих слов.
– Я унаследовала от отца способности к языкам, но не его академический склад ума, так что работаю стюардессой на авиалиниях, – сказала она, подумав, в самом ли деле у нее не академический склад ума, в самом ли деле она не могла бы преподавать. Она залила в кофеварку кипящей воды, и запах ароматного кофе наполнил кухню. Она не знала, что говорить. Подняла глаза на Дикштейна и увидела, что он в упор смотрит на нее, погруженный в свои размышления. Внезапно она смутилась, что было довольно непривычно для нее. О чем она ему и сказала.
– Смутились? – переспросил он. – Наверно потому, что я глазел на вас, словно вы картина или что-то вроде. Я все пытаюсь осознать тот факт, что вы не Эйла, что вы та самая маленькая девочка с ее старой серой кошкой.
– Езекия умерла вскоре после того, как вы уехали.
– С тех пор многое изменилось.
– Вы дружили с моими родителями?
– Я был одним из студентов вашего отца. И на расстоянии восхищался вашей матерью. Эйла… – И снова у него появился рассеянный взгляд, словно он хотел услышать какие-то другие голоса. – Она была не просто красива… она была потрясающей.
Сузи посмотрела ему прямо в лицо. Подумала: он любил ее. Но не стала останавливаться на этой мысли: это была, скорее, интуитивная догадка, и она сразу же предположила, что может ошибаться. Тем не менее, это объясняло его неожиданную реакцию, когда он увидел ее на пороге.
– Моя мать, в сущности, была хиппи… вы знали это? – спросила она.
– Я плохо понимаю, что вы имеете в виду.
– Она хотела быть свободной. Она бунтовала против ограничений, которым должна подчиняться арабская женщина, хотя в доме у нее царила раскованная, достаточно либеральная атмосфера. Она вышла замуж за моего отца, чтобы удрать с Ближнего Востока. Конечно, она выяснила, что западное общество тоже по-своему подавляет женщину – так что она продолжала нарушать большинство его правил. – Разговаривая, Сузи припомнила, как, став женщиной и начав понимать, что такое страсть, она осознала, что ее мать была склонна к беспорядочным связям. В свое время это ее потрясло, но теперь такие чувства как-то не посещали ее.
– И поэтому она была хиппи? – удивился Дикштейн.
– Хиппи верят в свободную любовь.
– Понимаю.
И по его реакции она поняла, что ее мать не испытывала тяги к Дикштейну. Она не одарила его любовью. Почему-то это навеяло на нее печаль.
– Расскажите мне о своих родителях, – попросила она. Она разговаривала с ним, словно с ровесником.
– Только, если вы нальете кофе.
– Я совсем забыла о нем, – рассмеялась она.
– Мой отец был сапожником, – начал Дикштейн. – Он прекрасно подбивал подметки, но бизнесменом был никудышным. Все же тридцатые годы были очень благоприятными для сапожников в лондонском Ист-Энде. Люди тогда не могли позволить себе часто покупать новую обувь, так что из года в год они ремонтировали старую. Мы никогда не были богаты, но все же у нас было чуть больше денег, чем у окружающих. И, конечно, вся семья постоянно давила на отца, чтобы он расширил свое дело – открыл вторую мастерскую, нанял помощника.
Сузи протянула ему чашку с кофе.
– С молоком, с сахаром?
– Только с сахаром, без молока. Спасибо.
– Так, продолжайте. – Он был из другого мира, о котором она ничего не знала: ей никогда не приходило в голову, что времена депрессии могли стать благословением для сапожников.
– Торговцы кожей считали моего отца очень трудным покупателем – им никогда не удавалось всучить ему ничего, кроме высшего сорта. Если встречался второсортный материал, они говорили между собой: «Даже не пытайтесь предлагать его Дикштейну, он вам его тут же вернет». Так, во всяком случае, мне рассказывали. – На его лице снова мелькнула легкая улыбка.
– Он еще жив? – спросила Сузи.
– Умер перед войной.
– Что с ним случилось?
– Видите ли… Тридцатые годы были временем расцвета фашистского движения в Англии. Каждый вечер они устраивали шумные митинги на открытом воздухе. Ораторы сообщали, что евреи правят миром, высасывая кровь из простого народа. Эти ораторы и организаторы митингов являлись уважаемыми представителями среднего класса, но толпы состояли из откровенных бандитов и шпаны. После митингов они маршировали по улицам, били стекла и задирали прохожих. И наш дом, конечно, стал заманчивой целью для них. Мы были евреями, у моего отца была мастерская, и тем самым он – кровопийца, и, в полном соответствии с их пропагандой, мы жили немного лучше остальных соседей.
Он замолчал, уставившись куда-то в пространство. Сузи ждала, когда он продолжит повествование. Рассказывая, он вроде бы съежился – скрестил ноги, плотно обхватил локти руками, опустил плечи.
– Мы жили над мастерской. И каждую эту проклятую ночь я просыпался, ожидая, когда они пойдут мимо нас. Меня не покидало чувство жуткого страха, главным образом, потому, что я видел, как испуган мой отец. Порой они ничего не делали, просто проходили. Обычно они орали свои лозунги и призывы. Часто, очень часто, они били у нас стекла. Пару раз они врывались в мастерскую и все там крушили. Я думал, они вот-вот взберутся по лестнице. Я прятал голову под подушку, плакал и проклинал Бога за то, что он сподобил меня родиться евреем.
– Разве полиция ничего не делала?
– Что она могла? Если они оказывались поблизости, то останавливали погромщиков. Но в то время им было чем заниматься. Коммунисты были единственными, кто помогал нам сопротивляться, но мой отец не хотел их помощи. Конечно, все политические партии выступали против фашистов, но только красные готовили заточки, палки и строили баррикады. Я пытался вступить в партию, но меня не приняли – слишком молод.
– И ваш отец?
– Он как-то пал духом. После того, как мастерскую разгромили второй раз, у него уже не осталось ни денег, ни энергии на ее восстановление. Он погрузился в скорбь, видя, что все потеряно. И умер в 1938 году.
– А вы?
– Я быстро взрослел. Вступил в армию, как только представилась такая возможность. Попал в плен. После войны поступил в Оксфорд, потом бросил его и уехал в Израиль.
– У вас есть там семья?
– Моя семья – это весь кибуц… но я никогда не был женат.
– Из-за моей матери?
– Может быть. В какой-то мере. Вы очень любопытны.
– Простите.
– Не стоит извиняться. Я редко говорю на такие темы. Вся эта поездка полна воспоминаниями о прошлом. Есть даже такое слово… запах памяти.
– Оно напоминает запах смерти.
Дикштейн пожал плечами.
Наступило молчание. Мне очень нравится этот человек, подумала Сузи. Мне нравится, как он говорит и как молчит, его большие глаза и его старый пиджак, мне интересны его воспоминания. Я надеюсь, что он немного побудет у нас.
Она собрала кофейные чашки и загрузила их в посудомоечную машину. Звякнула упавшая ложка, которая залетела под холодильник.
– Вот черт! – вырвалось у нее.
Дикштейн встал на колени и заглянул в щель.
– Теперь она уже там навечно, – махнула рукой Сузи. – Эта махина слишком тяжелая, чтобы ее передвигать.
Правой рукой Дикштейн приподнял холодильник за угол, а левой стал шарить под ним. Опустив его на пол, он выпрямился и преподнес ложку Сузи.
Она уставилась на него.
– Вы кто – Капитан Америка? Да он же жутко тяжелый.
– Я много работал на земле.
– В самом деле? – она улыбнулась. Он походил скорее на клерка, чем на землепашца.
– Конечно.
– Продавец вина, у которого в самом деле грязь под ногтями после виноградника. Странно.
– Только не в Израиле. Мы слишком… преданы, я бы сказал… земле.
Глянув на часики, Сузи удивилась, что прошло столько времени, а она и не заметила.
– Папа будет с минуты на минуту. Вы поедите с нами, не так ли? Но я боюсь, что у нас есть только сандвичи.
– Что может быть лучше?
Она нарезала французскую булку и стала делать салат. Дикштейн вызвался помыть лук, и она вручила ему передник. Спустя несколько минут она заметила, что он, улыбаясь, смотрит на нее.
– О чем вы думаете?
– То, что я вспомнил, может вас смутить.
– Все равно расскажите.
– Как-то я зашел к вам около шести часов, – начал он. – Вашей матери не было дома. Я хотел одолжить кое-какие книги у вашего отца. Вы сидели в ванночке. Отец же говорил по телефону с Францией, не помню уж по какому поводу. Пока он говорил, вы стали плакать. Я поднялся наверх, вытащил вас из ванны, вытер насухо и надел на вас ночную рубашку. Вам, должно быть, было лет пять или около того.
Сузи засмеялась. Она внезапно представила себе Дикштейна в заполненной паром ванной, который наклоняется и без усилия поднимает ее из горячей воды, всю в мыльных пузырях. Но она не ребенок, а взрослая женщина с влажными грудями и хлопьями мыльной пены меж бедер, а руки у него сильные и уверенные, когда он прижимает ее к груди. И тут открылась кухонная дверь, вошел ее отец, и видение исчезло, оставив по себе лишь волнующее чувство какой-то странной вины.
Нат Дикштейн подумал, что годы должны были куда больше сказаться на профессоре Эшфорде. Он был сейчас совершенно лыс, если не считать венчика белых волос, окаймлявших его тонзуру. Он несколько прибавил в весе, и его движения обрели некоторую замедленность, но в глазах по-прежнему поблескивали искорки, говорившие об интеллектуальном беспокойстве.
– А у нас неожиданный гость, папа, – встретила его Сузи. Едва только глянув на него, Эшфорд, не колеблясь, воскликнул:
– Никак, молодой Дикштейн! Ну, будь я проклят! Мой дорогой друг!
Дикштейн пожал ему руку. Хватка у него была крепкой и уверенной.
– Как поживаете, профессор?
– Превосходно, дорогой мой мальчик, особенно, когда тут моя дочь и присматривает за мной. Ты помнишь Сузи?
– Мы провели в воспоминаниях все утро, – улыбнулся Дикштейн.
– Я вижу, она уже напялила на тебя передник. Довольно быстро, даже для нее. Я ей втолковываю, что таким образом она никогда не обретет себе мужа. Скидывай его, дорогой мой мальчик, идем пропустим по рюмочке.
Сокрушенно улыбнувшись Сузи, Дикштейн сделал то, что ему было сказано, и последовал за Эшфордом в гостиную.
– Шерри? – спросил тот.
– Спасибо, немного. – Дикштейн внезапно вспомнил, что пришел сюда с определенной целью. Он должен получить от Эшфорда кое-какую информацию, да так, чтобы тот ничего не понял. На пару часов, если можно так выразиться, он избавился от служебных обязанностей, но теперь пора снова приниматься за работу. Но мягко и осторожно, сказал он себе.
Эшфорд протянул ему маленький стаканчик с шерри.
– А теперь скажи мне, чем ты занимался все эти годы?
Дикштейн попробовал шерри. Напиток был терпким, как и любили в Оксфорде. Он рассказал профессору версию, которую уже изложил Хассану и Сузи: он ищет рынок сбыта для израильского вина. Эшфорд задавал наводящие вопросы. Бросают ли молодые люди кибуцы ради больших городов? Не размыли ли время и процветание общинные идеалы кибуцников? Ассимилируются ли европейские евреи среди африканских и левантинских соплеменников, существуют ли межобщинные браки?
Прежде чем Дикштейну представилась возможность задать свои вопросы, Сузи позвала их на кухню к ленчу. Ее французские сандвичи так и таяли во рту. Она открыла бутылку красного вина и присела выпить с ними. Теперь Дикштейн понимал, почему Эшфорд прибавил в весе.
За кофе Дикштейн обмолвился:
– Пару недель назад я столкнулся с сокурсником – и надо же, в Люксембурге.
– С Ясифом Хассаном? – спросил Эшфорд.
– Откуда вы знаете?
– Мы как-то поддерживали с ним связь. Я знаю, что он живет в Люксембурге.
– Вы часто виделись с ним? – спросил Дикштейн, думая про себя: мягче, мягче.
– За все это время несколько раз. – Эшфорд помолчал. – Надо сказать. Дикштейн, что те войны, которые вам дали все, отняли у него все, что ему принадлежало: его семья потеряла все свое состояние и вынуждена жить в лагере беженцев. Можно понять, что он испытывает к Израилю.
Дикштейн кивнул. Теперь он был почти уверен, что Хассан принимает участие в этих играх.
– Я провел с ним очень мало времени – спешил к самолету. Что он вообще собой представляет?
Эшфорд нахмурился.
– Я нашел его несколько… рассеянным. Внезапно срывается с места по каким-то делам, отменяет встречи, странные телефонные звонки в любое время суток, таинственные отлучки. Возможно, так и должен себя вести обездоленный аристократ.
– Возможно, – кивнул Дикштейн. По сути, таково было типичное поведение агента, и теперь он был на все сто процентов уверен, что встреча с Хассаном и привела к его разоблачению. – Вы видели из моего выпуска еще кого-нибудь?
– Только старого Тоби. Ныне он в отделении Консервативного фронта.
– Еще кофе, Нат? – спросила Сузи.
– Нет, спасибо. – Он встал. – Я помогу вам убрать посуду, а потом я должен возвращаться в Лондон. Очень рад, что встретил вас.
– Папа все уберет, – улыбнулась Сузи. – Так мы с ним договорились.
– Боюсь, что мне этого не избежать, – согласился Эшфорд. – Она не терпит тяжелую работу, так что ее приходится выполнять мне. – Замечание удивило Дикштейна, потому что, по всей видимости, оно не соответствовало истине. Может, Сузи не обхаживала его денно и нощно, но было видно, что на ней лежат все обязанности по дому.
– Я прогуляюсь в город вместе с вами, – сказала Сузи. – Только плащ накину.
Эшфорд подал Дикштейну руку.
– Я был искренне рад увидеться с тобой, дорогой мой мальчик, искренне рад.
Сузи вернулась в плотной куртке. Эшфорд проводил их до дверей и помахал вслед, улыбаясь.
Когда они шли по улице, Дикштейн болтал, не переставая, только чтобы иметь предлог смотреть на нее. Куртка подходила к ее черным джинсовым брюкам, и на ней была рубашка кремового цвета, которая выглядела как шелковая. Как и ее мать, она умела одеваться, подчеркивая прелесть блестящих черных волос и нежный оттенок смуглой кожи. Дикштейн предложил ей руку, чувствуя себя старомодным кавалером, но хотел ощущать ее рядом. Она унаследовала то же гипнотическое физическое обаяние, присущее ее матери: в ней было нечто, заставлявшее мужчин испытывать наслаждение обладать ею, наслаждение, в котором было не столько физическое влечение, сколько жадность – это прекрасное создание принадлежит мне, и я его никому не отдам. Дикштейн был достаточно взрослым человеком, чтобы понимать, насколько обманчиво может быть такое чувство, и он понимал, что Эйла Эшфорд не могла бы дать ему счастья. Но в дочери, казалось, было то, чего не хватало ее матери – от нее исходило тепло. Печально, что он больше не увидит Сузи. Может, со временем…
Ну-ну. Вряд ли.
Когда они подошли к зданию вокзала, он спросил:
– Вы когда-нибудь бываете в Лондоне?
– Конечно, – сказала она. – И буду там завтра.
– Зачем?
– Чтобы пообедать с вами.
Когда мать Сузи умерла, отец стал для нее всем в жизни и прекрасно соответствовал этой роли.
Ей минуло одиннадцать лет: достаточно взрослая, чтобы знать о существовании смерти, но слишком молода, чтобы она слишком подействовала на нее. Папа был спокоен и мягок с ней, давая ей успокоение. Он отлично понимал, когда ее надо оставить в покое и дать выплакаться, а, когда надеть на нее лучшее платье и отправиться с ней на ленч. Не испытывая никакого смущения, он поведал ей о менструациях и весело покупал с ней новые лифчики. Он определил ей новую роль в жизни: она стала подлинной хозяйкой дома, давая указания уборщице, собирая белье для стирки и заказывая запасы шерри на воскресенье. К четырнадцати годам в ее ведение перешли и все семейные финансы. Она заботилась об отце куда лучше Эйлы. Она выбрасывала поношенные рубашки и заменяла их точно такими же, и отец даже ничего не замечал. Она поняла, что может жить, чувствовать себя в безопасности и быть любимой даже без матери.
Он хотел, чтобы она оставалась в Оксфорде, где получила сначала среднее образование, потом бы университетское, после чего она могла стать преподавателем. Что означало – ей всю жизнь придется заботиться о нем. Она заявила, что недостаточно сообразительна для такой карьеры, испытывая смутное чувство, что просто ищет себе оправдание – и нашла работу, которая позволяла ей надолго отлучаться из дома, в силу чего она обхаживала отца только время от времени.
Возвращаясь домой из рейсов, она думала, что жизнь ее катится по наезженной колее и вряд ли удастся когда-нибудь сойти с нее.
Только что кончилось любовное приключение, которое, как и вся ее жизнь, стало утомлять привычностью и рутинностью. Джулиану было под сорок, он преподавал философию, специализируясь на досократовской Греции, был умен, всецело предан ей и совершенно беспомощен. На все случаи жизни у него были лекарства – каннабис, чтобы заниматься любовью, амфетамин для работы и «Могадон» на ночь. Разведен, детей не было. На первых порах она сочла его интересным: очаровательным и сексуальным. Когда они оказывались в постели, он предпочитал, чтобы она оказывалась сверху. Он таскал ее по любительским театрикам в Лондоне и взбалмошным студенческим вечеринкам. Но все быстро сошло на нет: она поняла, что и сексом он не очень интересуется, что и таскает ее с собой, поскольку хорошо смотрится рядом с ней, и что ему нравится ее общество лишь потому, что она откровенно восторгается его интеллектом. Как-то она поймала себя на том, что гладит его рубашки, пока он готовится к лекциям; все пошло по проторенной колее.