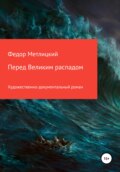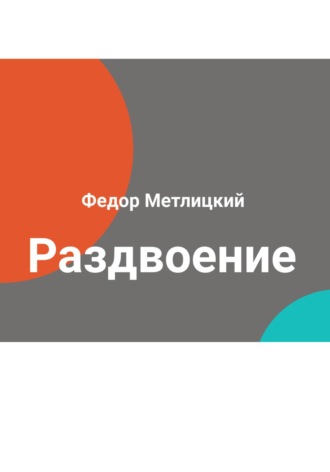
Федор Федорович Метлицкий
Раздвоение
12
Известия о военной операции подавались роботом в погонах бесстрастно. Атаки на линии фронта подавляются успешно, на сегодня уничтожены столько-то танков и орудий противника, более пятисот националистов. А сколько убито наших, никто не знает.
Иванов подумал: если он говорит о пятистах убитых каждый день, то убиты уже сотни тысяч. И это в конце нового столетия! Вернулось средневековье, когда убийства и пытки с расчленением тел были обычным делом.
Противника робот представлял бесчеловечным, бьющим исключительно по гражданским объектам, старательно обходя наши военные объекты. И делал вид, что у нас потерь нет.
____
Сын должен был прилететь, и было неизбежно, что его тут же возьмут на боевую подготовку.
Родители бродили по комнатам, словно стали ненужными друг другу. Лицо сына отпечаталось внутри мучительной болью и страхом.
Иванов сидел за компьютером, мысли не шли. За смарт-окном не было дневной яркости, словно ясное и голубое закрылось темной хмарью с просветами, бледными и не дающими радости. На сером асфальте расползались черные пятна, крыши лоснились водою в пасмурном свете.
Весь его мир, созданный детской аурой родного дома, напитанный, пусть кое-как, культурой цивилизаций, литературой великих страдальцев, тоскующих о колокольных высях, – все это уперлось в тупик.
Неужели все это превратится в пыль, как в революцию, прошедшую грязными сапожищами по коврам роскошных будуаров со старым хламом статуэток и безделушек, цветастых до ряби в глазах штор, вычурных диванов и кроватей в кабинетах и спальнях, по закрученным усам, цилиндрам и тросточкам богатого и среднего класса.
Да, старый хлам уйдет. Но не может быть, чтобы ушла старая культура, основанная на гуманизме. Разве может уйти чистое детство, первая любовь, безмятежная родственность мира, спасающая от одиночества и смерти.
И может быть, уйдет навсегда и его сын. Страшная война современными средствами, покрывающая огнем площади и целые города, оставляла мало сомнений.
13
Центральная площадь колыхалась угрожающе и победно. Над головами красные полотнища «Мы за вечный мир!», «Своих не сдаем!», «Фашизм не пройдет!» и еще что-то похожее. Как будто на площади было большинство, «засланное» из параллельного мира.
У людей, сошедшихся вместе по разнарядке, смутно ворочались сомнения, и потому убеждали себя: вроде бы то, что в Отечественную. А вроде бы – геополитика, пусть в верхах разбираются.
Отечество в опасности!
В истории бывают моменты, когда об истине лучше помолчать. Нет нейтральной площадки. Те, кто сомневается, или против, не могут высказаться прямо, вынуждены принимать ту или иную сторону. Правда, кто это установил, неизвестно.
Грузный чиновник, без сомнений, командным голосом грозил:
– На санкции их мы ответим своим беспощадным!
Маленький коллектив «Вершин» обязали принять участие в митинге. Правильный Паша Семенов выкрикнул:
– Что бы то ни было, мы за страну!
Он был возбужден, в чудесном порыве единения. В единстве – всегда правота, как бы не глушили сомнения. Огромная родина, огромное время – в единстве.
Женя Гольц, политолог, решал: что-то обрывалось в нем, что связывало страну, друзей во времена, когда вместе шатались студентами. Нежданно простодушный Семенов вызвал отвращение. Но – сын его шел на фронт.
Игорек кривлялся, вышел на линию, отделявшую толпу от тротуара:
– Командовать парадом буду я!
Гольц радовался: его сыновья в безопасности – один в Китае, другой давно жил в Лондоне, там он учился. В нем было твердое спокойствие: что натворили безумные власти! Все – в тартарары.
А было – так дискусионно, любовно! Влекло лишь стремленье туда, где летела свободная мысль, что уничтожала презреньем завистливых неандертальцев.
На сцене появилась певица, бойкая упертая дама в мехах, звучным голосом запела:
Оркестранты войны
Для огня рождены,
Для сражений без всяких идиллий,
Где под крики химер дирижер Люцифер
Управляет полетом валькирий.
Иванов, специалист по параллельному миру, удивился:
– Да это же песня – оттуда! Как она сюда попала?
Песня была похожа на сатиру. Или это новый фашизм, поднимающий дух?
Интересно, есть ли у нее сын? – подумал Иванов. – Если бы он был на передовой, что бы он запела? Посмотрел бы я, как она будет отправлять своего сына под пули и разрывы снарядов.
Так давай, полководец, давай
Оркестрантов твоих поднимай…
Нет. Наверно, у нее нет детей.
14
В страшном сдвиге эпохи соратники, все еще товарищи, сидели в офисе «Вершины знания». Переставшие пить – не молодые, и не модно в нынешнем веке, они впервые просили водку.
Пили из стаканов, заедая тем, что быстро собрали – 3-D сосисками и сок. Было грустно, говорили нехотя.
Политолог Женя Гольц говорил тихо, как бы в пустоту, сглатывая слова:
– Они, конечно, хотят, чтобы была демократия на планете, свобода мыслить, объединяться, хоть в альянсы, торговые связи, – на всех континентах.
Правильный Паша Семенов добродушно возражал:
– Очень хитро – чтобы колонизировать весь мир. А народы хотят жить по-своему! Чтобы не лезли грязные руки ему в душу.
– Ты только это и знаешь, – проворчал Гольц. – А что делать?
И убежденно заговорил, сглатывая слова:
– В вашем разнополярном мире есть диктатуры, запрещающие даже мысль. Азиатские страны еще живут по законам шариата, делают обрезания девочкам, не учат дочек, держат взаперти, и сбагривают замуж в тринадцать лет за приглянувшегося родителям богатого старика, чтобы скинуть с себя ответственность.
Чиновник Ухов, как всегда, сдержанный, держал свой стакан и не пил. Скупо выдал:
– Развалить мир не так трудно. Станет расхристанным, дай только полную свободу. И в нем легко будет рыбку ловить любому ловкачу.
Игорек Тюлин посмеивался.
– Вот незадача – взять планету в ежовые рукавицы – плохо, отпустить до полного раздрызга – еще хуже. Куда податься бедному нищему обывателю?
Ему, наверно, все равно, рушатся связи или нет, он ко всему приспособится.
Пашка Семенов надувался удовлетворением:
– Слава богу, отъехало все утонченное, нервное. Нужно очистить культуру от всего иностранного. Вернуть нашу историю, с ее широтой и нравственностью.
Игорек поддакнул:
– Пусть, наконец, вылезут на экран мужики с бородищами. Пусть ухают, машут плетками.
Лицо Жени Гольца стало неприятным.
– Это потому, что нам наложили санкции на иностранные фильмы и книги. Вот и пытаемся заместить своим, посконным.
Заспорили о новом мире, который возникнет на очищенном от старья месте. Женя Гольц гнул свое:
– Говорят: грядет совершенно новый мир. Отменяется старая мировая система отношений, старая культура, ковыряющаяся в личных страданиях литература. Кто их отменил? Две слишком пристрастные цивилизации! Чтобы видеть истину, нужно как можно дальше отстраниться от их распрей. Так и в культуре, литературе, и в любом деле. Закон остранения. Тогда можно понять, что человечество оставляет, а что ему обуза.
Пашка поморщился.
– Это что-то от утонченного и нервного, которое уже отъехало.
Иванов, угнетенный своей бедой, заговорил мрачно:
– А может быть, все проще? Близость апокалипсиса никого не остужает, наоборот, разжигает. Наверно, правильно некоторые авторы пишут: наслаждение и смерть зачаровывают свою жертву, повергая в оцепенение. Воробушек, кому угрожает сокол, сам бросается к нему в клюв, чтобы избавиться от ужаса. Желание и есть страх. Человечество устало, слишком пресыщено, и больше не способно получать удовольствие. И только близость смерти еще способна дать его.
Разговоры казались пустыми. Приятели замолкли. Глаза Гольца были грустными. Чиновник Ухов замкнулся в себе, тянул водку маленькими глотками. Правильный Паша Семенов с удовольствием закусывал и добродушно глядел на товарищей.
Один Иванов был целиком в своей тревоге, не слышал в себе неприязни ни к кому, только слегка царапали особые мнения друзей. Чуждые убеждения ничего не значили перед человеческой бедой.
Что с нами случилось? Почему дружба исчезает в неприязненности, как будто идеология независимо от нас заслоняет человеческое тепло, нажитое годами молодости? Почему нельзя любить и дружить независимо от устроения мозгов? Или отчуждение возникает еще раньше, скрыто, и проявляется лишь, когда надо выбирать, с кем ты.
Наверно, с некоторыми уже не придется собираться вместе, нас уже ничего не связывает.
15
Родители встретили сына со страхом. Вон как вырос – ужас! – таких и берут в армию.
Он с увлечением рассказывал об учебе в знаменитом старинном университете. Об университетской библиотеке, в которой можно полистать манускрипты далеких времен, до начала книгопечатания.
Иванов узнавал в нем себя молодого, всеядного и мечущегося, но уже в чудесном пузыре мировой культуры, не позволяющей уйти в тупые убеждения.
Он рвался в Королевский парк, где любил гулять, когда был еще ребенком.
Снова зашли под высокие своды великолепных вековых дубов, кипарисов и голубых елок. Был конец лета, деревья и растения оделись в яркой красную и желтую листву.
Было людно, тихо играла музыка. Пары гуляли с собачками в ошейниках, мигающих красными лампочками.
Словно и не было тени, нависшей над всеми.
Они забрели в лабиринт, на красную кирпичную пыль дорожек, скрытых подстриженными кустами над головой. Лабиринт оказался маленьким и совсем не запутанным. Однажды в детстве сын спрятался в нем от отца, и вдруг понял, что он один, и нет выхода. Закричал, Иванов испуганно бросился к нему, поднял на руки, и тот стиснул отца, захлебываясь слезами.
На детской площадке сын попытался зачерпнуть маленьким экскаватором песок, но длинные колени на позволяли двигаться. Потом полез на гимнастические снаряды, с увлечением отжимался. С замиранием следил отец за тем, как он старается крутиться на турнике.
Следил за ним со странным чувством, что видит его в последний раз. Только теперь понял, сколько он значил. Раньше было только легкое беспокойство, когда его не было: не простудился бы, не попал бы под колеса…
____
Иванов вспомнил…
Когда мы в Королевском парке резвились на спортивных снарядах, ему стало тяжело, я потрогал его лоб, он так и пышет жаром. Мы поспешили домой.
У него была очень высокая температура, постоянно кашлял, болела голова, апатия, сонливость и вялость.
Когда он потерял сознание, все сузилось на нем одном.
В клинике определили свиной грипп. Было страшно, ведь пандемия давно закончилась! Шесть дней он был без сознания, била лихорадка, и мы с мамой не отходили от него…
Однажды он открыл глаза. Мы заплакали.