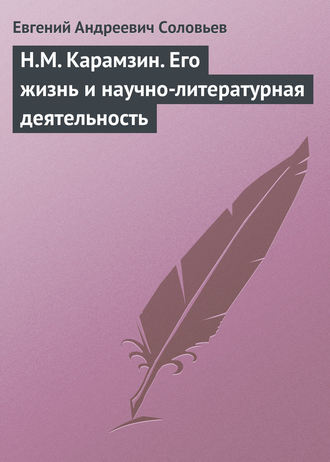
Евгений Андреевич Соловьев
Н.М. Карамзин. Его жизнь и научно-литературная деятельность
Сначала выслушаем собственное его признание о том, что давало ему смелость взяться за такое большое дело. Однажды на вопрос молодого казанского литератора Каменева, каким образом усовершенствовал он себя в русском языке, Карамзин отвечал:
«Родившись в деревне, воспитывался в Симбирске и читал много книг русских. Приехавши в Москву, учился в доме профессора Шадена немецкому и французскому языкам, начал переводить, сочинять и, к счастью, познакомился с Петровым (молодым человеком, которого под именем Агатона оплакивал). Он имел вкус моего свежее и чище; поправлял мои маранья, показывал красоты авторов, и я начал чувствовать силу и нежность выражений. Вознамерясь выйти на сцену, я не мог сыскать ни одного из русских сочинителей, который бы был достоин подражания, и, отдавая всю справедливость красноречию Ломоносова, не упустил я и заметить штиль его… вовсе не свойственный нынешнему веку, и старался писать чище и живее. Я имел в голове некоторых иностранных авторов; сначала подражал им, но после писал уже своим, ни от кого не заимствованным слогом. И это советую всем подражающим мне сочинителям, чтобы не всегда и не везде держаться оборотов моих, но выражать свои мысли так, как он кажется живее».
В другой раз он сказал Каменеву: «до издания „Московского журнала“ много бумаги мною перемарано, и не иначе можно хорошо писать, как писавши прежде худо и посредственно».
Знаменитая реформа, как мы видим из последних слов, происходила по мере того, как упражнялся и совершенствовался сам Карамзин. Конечно, он имел предшественников, и даже нескольких высокоталантливых, например, Ломоносова, Новикова, Петрова. Что же он сделал? Новые введенные им слова немногочисленны и представляют из себя большей частью удачный перевод с французского, например, развитие (développement). Гораздо важнее, что Карамзин выкинул массу церковнославянских тяжелых оборотов и переменил самый строй фразы, приблизив ее к французской, вместо немецкой и латинской, как то сделал Ломоносов. Вместе с тем под влиянием Петрова он дал право гражданства на литературу разговорному языку. По этому поводу он высказал несколько ценных мыслей, например:
«Жаль, что переводчик (драмы „Граф Ольсбах“) употребляет слова сие и оное, что на театре бывает всегда противно слуху. Употребляем ли мы сии слова в разговорах? Если нет, то и в комедии, которая есть представление общежития, употреблять их не должно. Чем слог театральной пьесы простее, тем лучше».
«Не употребляя во зло прав издателя, я осмелюсь только заметить два главные порока наших юных Муз: излишнюю высокопарность, гром слов не у места, и часто притворную слезливость».
«Поэзия состоит не в надутом описании ужасных сцен натуры, но в живости мыслей и чувств. Если стихотворец пишет не о том, что подлинно занимает его душу; если он не раб, а тиран своего воображения, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, несвойственными ему идеями; если он описывает не те предметы, которые к нему близки и собственною силою влекут к себе его воображение, если он принуждает себя или только подражает другому (что все одно), то в произведениях его не будет никогда живости, истины, или той своеобразности в частях, которая составляет целое, и без которой всякое стихотворение (несмотря даже на многие счастливые фразы) похоже на странное существо, описанное Горацием в начале эпистолы к Пизонам. Молодому питомцу Муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот, нежели разрушение мира, всеобщий пожар натуры и прочее в сем роде».
Хотя сам Карамзин и нарушал постоянно собственные правила, но все же высказывать мысли подобные приведенным было делом очень полезным в его время. Успех его пропаганды словом и делом был скорый и несомненный. Молодое поколение приняло сторону «Московского вестника», все стали подражать языку и слогу Карамзина, даже его выражениям. Впоследствии для поддержания карамзинской реформы был основан и знаменитый кружок «Арзамас» с В. Жуковским и Пушкиным во главе.
Кроме «Писем русского путешественника» мы находим в «Московском вестнике» и знаменитую «Бедную Лизу», – повесть, по поводу которой было пролито столько слез. Успех «Бедной Лизы» был необычайный. И могли ли не восхищаться этой повестью в то блаженное время, когда мужчины мечтали о нежных, милых пастушках, а дамы в фижмах и пудре помешались на любви к буколическим Дафнисам и Терсисам? Лиза, бедная крестьянка, была если не пастушкой, то по крайней мере цветочницей, что по понятиям аркадской академии почти одно и то же. Нежные и мягкие сердца сострадали к Лизе, оплакивали ее обманутую фатом Эрастом любовь, проклинали ее соблазнителя и ходили «проливать слезы» на Чистые Пруды, где утопилась бедная Лиза.
Перед нами поразительная по своей странности картина нравов наших прадедов и прабабок. Чем эта «Бедная Лиза», – повесть с самым обыденным сюжетом, самыми обыденными красками и далеко не важно написанная, – могла так поразить чувствительные струны их сердец? Почему люди, видевшие вокруг себя столько страдания, сами заставлявшие страдать, – люди, выросшие в обстановке крепостного права, жестокой государственности, легкомысленных нравов, губивших так много лиц, смотрели на всю свою обстановку с полным равнодушием и ходили плакать на Чистые Пруды? Ведь маменька, проклинавшая Эраста, назвала бы его поступок простою шалостью, раз в роли соблазнителя явился ее сынок. А между тем искренне проливали слезы, искренне проклинали. И кто такая была бедная Лиза? Крестьянка, цветочница; за поступок, совершенный ею, по обычаю прошлого века, ее следовало отправить или на конюшню, или на скотный двор – и, происходи дело в действительности, ее непременно отправили бы в одно из вышеуказанных мест, а то и в оба сразу. Но тут – слезы!.. «Тысячи любопытных ездили и ходили на Чистые Пруды искать следов Лизиных», – свидетельствует сам Карамзин.
Причина заключалась, разумеется, в том, что искусство было само по себе, а жизнь сама по себе. Можно было любоваться хорошеньким личиком крестьянской девушки на картине и звать ее хамкой, бить ее по щекам, когда она являлась в качестве дворовой. Можно было сострадать человеку в повести и топтать в грязь его достоинство в действительности. Искусство было не общественной силой, а, если так можно выразиться, лишь собранием звуков, вызывающих известное настроение – веселое или меланхолическое. Все служило мелодии, все выражалось в мелодии. Плакали на Чистых Прудах не из-за Лизы, а из-за собственного меланхолического настроения, вызванного мелодией Карамзина.
После двух лет издания Карамзин, несмотря на заметный успех журнала, совершенно неожиданно заявил публике, что более «Вестник» появляться не будет. Что за причина такого странного происшествия? Теперь уже мы не можем не видеть здесь давления сверху. Всего вероятнее, что Карамзину было прямо приказано прекратить издание, тем более, что как раз в это время шло следствие по его делу за дружбу с Новиковым и Плещеевым, за связь с «Дружеским обществом» и масонами, за заграничное путешествие наконец. Лично он выпутался совершенно счастливо, но «Вестник» погиб… Впрочем, такова обычная судьба журнала. А жалко. «Московский вестник» был несомненно живой, интересный орган, приучавший публику к чтению, что во всяком случае значит кое-что.
Глава V
Издание сборников. – «Вестник Европы»
Прощаясь с публикой в последней книге своего журнала, Карамзин писал между прочим:
«Между тем у меня будут свободные часы, часы отдохновения; может быть, вздумается мне написать какую-нибудь безделку; может быть, приятели мои также что-нибудь напишут: – сии отрывки или целые пьесы намерен я издавать в маленьких тетрадках, под именем… например „Аглаи“, одной из любезных граций. Ни времени, ни числа листов не назначаю; не вхожу в обязательство и не хочу подписки; выйдет книжка, публикуется в газетах – и кому угодно, тот купит ее».
«Таким образом „Аглая“ заступит место „Московского журнала“. Впрочем, она должна отличаться от сего последнего строжайшим, т. е. более выработанным слогом; ибо я не принужден буду издавать ее в срок. Может быть, с букетом первых весенних цветов положу я первую книжку „Аглаи“ на алтарь граций; но примут ли сии прекрасные богини жертву мою или нет – не знаю. „Письма Русского Путешественника“, исправленные в слоге, могут быть напечатаны особливо, в двух частях: первая заключается отъездом из Женевы, а вторая – возвращением в Россию. Драма кончилась и занавес опускается».
Начавшийся 1793 год был тяжел для Карамзина. В марте умер Петров, составление сборника затягивалось, полиция продолжала подозрительно смотреть на русского путешественника. Карамзин уехал в деревню и, точно влюбленный, отдался своей «Аглае», первая книга которой появилась лишь зимой. Сборник – прототип всех наших будущих альманахов – был составлен умелой рукой человека, знавшего, что не надо слишком далеко уходить от понимания публики, чтобы нравиться ей. Здесь мы находим несколько восторженных фраз о пользе просвещения, много стихов, несколько рассказов. Кроме хорошего языка, «Аглая» ничем не отличается от «Невинного развлечения» и ему подобных журналов.
Любопытно, между прочим, стихотворение Карамзина, озаглавленное «Послание к Дмитриеву». Здесь мы находим полное изложение его житейской философии. Он согласен с тем, что жизнь совсем не так хороша, как она представляется в юности. Приходится мириться с ее несовершенствами, потому что:
– с Платоном
Республики нам не учредить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном
Сердец жестоких не смягчить.
И как может быть иначе, когда
Гордец не любит наставления
Глупец не терпит просвещения —
а гордецы и глупцы – сила жизни.
Что же делать? Остается одно:
Плакать бедных смертных долю
И смертный свет предать на волю
Судьбе и рока…
Утешение все же можно найти, но вот какое:
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной тению лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б без страха и надежды
Мы в мире жить с собой могли,
Гнушаясь издали пороком…
«Аглаи» вышло два сборника; после них Карамзин издал свои «Аониды», где помещал различные стихотворения, называя поэзию «цветником чувствительных сердец». О стихах Карамзина можно вообще сказать, что, читая их, вы не ощущаете никакого восторга, точно так же, как его не ощущал сам автор, когда писал их. Карамзину было чуждо именно то, что мы называем вдохновением, оттого и самый язык его не имеет энергии. При чтении вы чувствуете недостаток гармонии и глубокого чувства. Лиризм его самый бледный; раз он касается природы, все дело ограничивается цветистыми лугами, соловьем и малиновкой… Поэты родятся, а Карамзин не был рожден поэтом.
В издании «Аглаи», «Аонид», «Писем» прошло целых восемь лет, не внеся в личную жизнь Карамзина ничего нового. Он продолжал держать себя в стороне, отдавать большую часть времени литературным работам. От тяжелой современности Карамзин уходил в творчество по программе своего знаменитого четверостишия:
Ах, не все нам реки слезные
Лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов.
На самом деле было от чего уходить. Конец царствования императрицы Екатерины (1793–1796 гг.) и все царствование Павла Петровича были как бы продиктованы ужасом, навеянным на европейские правительства казнью Людовика XVI, революцией, победоносными войнами республиканцев. От свободы печати не осталось и тени. Новиков был брошен в крепости навеки, масонов раскассировали, знаменитый Шешковский дни и ночи занимался допросами воображаемых государственных преступников, Радищева едва не казнили. При Павле Петровиче дело пошло еще хуже и может лишь издали представляться комическим. Целые полки ссылались на поселение, всякое сношение с заграницей было запрещено, даже музыкальные ноты не допускались в Россию, подвергали страшным наказаниям всякого, нарушившего правила благочиния, правила бесчисленные и мелочные, вроде того, что надо было ложиться в таком-то часу, носить кафтан, а не фрак. Круглая шляпа, как революционная, подверглась изгнанию; вместо слова «отечество» приказано было говорить «государство». Люди боялись показываться на улицах, чтобы не очутиться в Сибири.
«Гнушаясь издали пороком», Карамзин старался держать себя как можно незаметнее. Впрочем, его не оставляли совершенно в покое. По рассказу Бантыш-Каменского, на него было несколько скверных доносов как на безбожника. Но, к счастью, доносы остались без последствия.
По отрывкам из его писем читатель может составить себе представление о меланхолии, в которой он находился все это время.
Например: «голова моя все как-то не свободна: то заботы, то неудовольствия, то… Бог знает что; однако ж все сбираюсь и, выдав книжки три „Пантеона“ (NB. для подспорья кошельку своему), верно что-нибудь начну или начатое кончу. Только цензура, как черный медведь, стоит на дороге; к самым безделицам придирается. Я „кажется“ и сам могу знать, что позволено и чего не должно позволять; досадно, когда в безгрешном находят грешное». Или, от 11 октября 1798 года: «Я, как автор, могу исчезнуть заживо. Здешние цензоры при новой эдиции «Аонид» поставили + на моем послании к женщинам. Такая же участь ожидает и «Аглаю», и «Мои безделки», и «Письма русского путешественника», то есть вероятно, что цензоры при новых изданиях захотят вымарывать и поправлять, а лучше все брошу, нежели соглашусь на такую гнусную операцию; и таким образом через год не останется в продаже, может быть, ни одного из моих сочинений».







