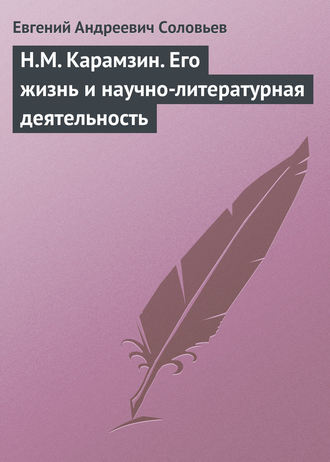
Евгений Андреевич Соловьев
Н.М. Карамзин. Его жизнь и научно-литературная деятельность
Он посещал театры, музеи, академии. Был ли он хотя раз на заседаниях национального собрания? Кажется, нет: это было не его дело. По поводу революции он отделывается мудрым размышлением: «всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан и в самом несовершеннейшем надо удивляться порядку, гармонии, благоустройству. Всякие насильственные потрясения гибельны и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провиденью: Оно, конечно, имеет свой план: в его руке сердца государей и – довольно»…
В общем, парижские впечатления Карамзина сводятся к очень немногому.
«Париж есть город единственный. Нигде, может быть, нельзя найти столько материй для философских наблюдений, как здесь; нигде столько любопытных предметов для человека, умеющего ценить искусства; нигде столько рассеяний и забав. Но где же и столько опасностей для философии, особливо для сердца? Здесь тысячи сетей расставлены для всякой его слабости… Шумный океан, где быстрое стремление волн мчит вас от Харибды к Сцилле, от Сциллы к Харибде! Сирен множество, и пение их так сладостно, усыпительно… Как легко забыться, заснуть! Но пробуждение едва ли не всегда горестно – и первый предмет, который явится глазам, будет пустой кошелек. Однако ж не надобно себе воображать, что парижская приятная жизнь очень дорога для всякого: напротив того, здесь можно за небольшие деньги наслаждаться всеми удовольствиями по своему вкусу. Я говорю о позволенных, и в строгом смысле позволенных удовольствиях иметь хорошую комнату в лучшей отели; поутру читать разные журналы, газеты, где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное; и между тем пить кофе, какого не умеют варить ни в Германии, ни в Швейцарии; потом кликнуть парикмахера, говоруна, враля, который наскажет вам множество забавного вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафайете, намажет вам голову прованскими духами и напудрит самою белою легкою пудрою; а там, надев чистый простой фрак, бродить по городу, зайти в Пале-Рояль, в Тюльери, в Елисейские поля, к известному писателю, к художнику, в лавки, где продаются эстампы и картины, – к Дидоту, любоваться его прекрасными изданиями классических авторов, обедать у ресторатора, где подают вам за рубль пять или шесть хорошо приготовленных блюд с десертом; посмотреть на часы и расположить время свое до шести, чтобы осмотреть какую-нибудь церковь, украшенную монументами, или галерею картинную, или библиотеку, или кабинет редкостей, явиться с первым движением смычка в опере, в комедии, трагедии, пленяться гармониею, балетом, смеяться, плакать – и с томною, но приятных чувств исполненною душою отдыхать в Пале-Рояле за чашкою баваруаза, взглядывать на великолепное освещение лавок, аркад, аллей в саду, – наконец возвратиться в свою тихую комнату и заснуть глубоким сном с приятною мыслью о будущем. – Так я провожу жизнь и доволен»…
Покинув Париж, Карамзин отправился в Англию, но мы уже не будем следить за его путешествием. В сентябре 1790 года он вернулся в Россию.
Таковы прославленные «Письма русского путешественника», десятки раз издававшиеся, прочтенные несколькими поколениями, умилявшие столько сердец. Что можем найти в них мы? Легкий и приятный слог, легкий и приятный рассказ, несколько мимоходом записанных глубоких мыслей, немало метких отзывов о произведениях искусства, столько же красиво, сколько и риторически нарисованных картин природы – и все. С более серьезными требованиями к этой книге обращаться нельзя. Она не ведет нас ни в историю своего времени, ни в настроение тогдашнего общества. ум автора скользит по поверхности жизни и как бы боится заглянуть в ее таинственную глубину.
Глава IV
«Московский журнал» и сборники
Возвратясь в Петербург осенью 1790 года, в модном фраке, с шиньоном и гребнем на голове, с лентами на башмаках, Карамзин введен был И. И. Дмитриевым к Державину и умными, любопытными рассказами обратил на себя его внимание. Державин одобрил его намерение издавать журнал и обещал сообщать ему свои сочинения.
Благодаря знакомству с Державиным, Карамзин вступил в высшее общество, где чувствовал себя как нельзя лучше, несмотря на незначительные свои доходы и невысокое происхождение. Но он не оставил, разумеется, и прежних дружеских связей и первым делом навестил своего «Агатона» Петрова. «Наконец, – пишет он, – я возвратился – спешил обнять поверенного моей души, воображал его приятное удивление, его радость… но сердце мое замерло, когда я увидел Агатона. Долговременная болезнь напечатлела знаки изнеможения на бледном лице его; в тусклых взорах изображалось душевное и телесное ослабление; огонь жизни простыл в его сердце темном и мрачном. Едва мог обрадоваться моему приезду, едва мог пожать руку мою: едва слабая, невольная улыбка блеснула на лице его подобно лучу осеннего солнца». Петров быстро угасал, по-видимому, от чахотки, с которой напрасно боролся его юный организм.
Но сам Карамзин был полон силы, надежд и веры в себя. Он решился издавать журнал, рассчитывая таким путем не только удовлетворить свою страсть к литературе, но и обеспечить свое существование. О службе, бывшей тогда в обычае, он и не помышлял и отказался даже от легкой должности секретаря, предложенной ему Державиным при себе. Как бы то ни было, перед нами первый кровный литератор, всегда рассчитывающий только на свое перо.
Характерно объявление, напечатанное Карамзиным, где он сообщает публике о своем намерении издавать журнал. Вот что писал он:
«С января будущего 91 года намерен я издавать журнал, если почтенная публика одобрит мое намерение. Содержание сего журнала будут составлять:
1) Русские сочинения в стихах и прозе, такие, которые, по моему уверению, могут доставить удовольствие читателям. Первый наш поэт – нужно ли именовать его? – обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни. И другие поэты, известные почтенной публике, сообщили и будут сообщать мне свои произведения. Один приятель мой, который из любопытства путешествовал по разным землям Европы, – который внимание свое посвящал натуре и человеку, преимущественно пред всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал, – намерен записки свои предложить почтенной публике в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей.
2) Разные небольшие иностранные сочинения, в чистых переводах.
3) Критические рассматривания русских книг, вышедших, и тех, которые вперед выходить будут, а особливо оригинальных.
4) Известия о театральных пьесах, представляемых на здешнем театре, с замечаниями на игру актеров.
5) Описание разных происшествий, по чему-нибудь достойных примечания, и разные анекдоты, а особливо из жизни славных новых писателей.
Материалов будет у меня довольно; но если кто благоволит присылать мне свои сочинения или переводы, то я буду принимать с благодарностью все хорошее и согласное с моим планом, в который не входят только теологические, мистические, слишком ученые, педантические, сухие пьесы. Впрочем все, что в благоустроенном государстве может быть напечатано с указного дозволения, – все, что может нравиться людям, имеющим вкус, тем, для которых назначен сей журнал, – все то будет издателю благоприятно.
Журналу надобно дать имя; он будет издаваем в Москве, итак, имя готово: «Московский Журнал».
В начале каждого месяца будет выходить книжка в осьмушку, страниц до 100 и более, в синеньком бумажном переплете, напечатанная четкими литерами на белой бумаге, со всею типографическою точностию и правильностию, которая ныне в редких книгах наблюдается. Двенадцать таких книжек, или весь год, будет стоить в Москве 5 руб., а в других городах с пересылкою 7 руб.».
Свое объявление Карамзин заканчивает характерным для того времени обещанием: «Имена всех подписчиков будут напечатаны». Очевидно, что каждый подписчик или, как тогда назывался, «субскрибент» считал себя в некотором роде меценатом и полагал, что, уплачивая 5–7 руб. за журнал, совершает нечто филантропическое в отношении русской литературы.
Несомненно, что, берясь за издание журнала, Карамзин делал шаг очень смелый. Опыт его предшественников мог дать ему очень мало. В сущности, к чему сводился этот опыт?
В начале XVIII столетия в Москве явились «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти», выходившие под строжайшей цензурой большей частью самого государя Петра I. Это была первая русская газета, наполненная официальными реляциями послов отечеству и императору служащих. «Санкт-Петербургские ведомости», основанные в 1721 году, были не лучше, а сравнительно еще жиже, чем «Ведомости». С 1727 года начался первый русский журнал в нашем смысле слова, под названием «Исторические, генеалогические и географические примечания к „Санкт-Петербургским ведомостям“. Редакцию к примечаниям взял на себя немец Миллер, который ввел нечто новое, именно «Прибавления к примечаниям». В этих «прибавлениях» помещались сведения о всяких диковинных вещах, происходящих на свете, и они пришлись публике как нельзя более по вкусу. С довольно большими перерывами «Прибавления» выходили вплоть до 1755 года, когда тот же Миллер, расширив программу, заменил их «Ежемесячными сочинениями, к пользе и увеселению служащими». Самое заглавие уже указывает на содержание сочинений. Тут сообщалось и о разведении капусты, и о ходе семилетней войны, и об излечении мозолей, и о родившихся уродцах. В 1758 году Миллер, видя успех дела, сделал еще шаг вперед, и «Ежемесячные сочинения» превратились в «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие». Здесь помещались статьи из лучших иностранных журналов, стихи Сумарокова и Хераскова, исследования самого Миллера. Публика приохочивалась к чтению, и Миллер имел уже несколько сот субскрибентов. Это вызвало конкуренцию. Сумароков, «почитавший себя не ниже г-на Вольтера», завел собственный журнал «Трудолюбивая пчела», где бранил все, что попадалось под руку, особенно почему-то Миллера. Перебранив всех и вся в течение года и наговорив лично самому себе бесчисленное множество самых беззастенчивых комплиментов, Сумароков бросил журнал и вернулся к стихам и драмам. Одновременно с «Пчелой» выходили «Полезное с приятным» и «Праздное время, в пользу употребленное», – наполнявшиеся тем, что теперь мы называем «смесью». Все это выходило в Петербурге; в Москве на поприще журналистики подвизались Херасков («Полезное увеселение»), Богданович («Невинное упражнение») и Сенковский («Доброе намерение»), к которому как нельзя лучше приложимо изречение: «добрыми намерениями вымощен ад».
Журналисты невыносимо ссорились между собой, ссорились до того, что журнал Миллера был закрыт в 1765 году по распоряжению Екатерины II, «дабы не было соблазну». Целых 4 года вплоть до появления на сцену Новикова в России не было ни одного журнала и не издавалось ни одного альманаха. В 1769 году читатели с восторгом прочли первый номер новиковского «Трутня». Резкая и сильная сатира, нападавшая уже не на личностей, а на недостатки общественной жизни, – сатира, стремившаяся выполнить завет Кантемира – насмешкой исправляй людей, – обрадовала всех. Сатирические журналы размножились, как грибы после дождя, за сатиру взялась сама Екатерина, работая во «Всякой всячине». Кульминационного пункта сатирические журналы достигли в «Живописце» Новикова, но после этого началось их падение. Феерический период царствования приближался к концу, императрица стала высказывать опасения, не слишком ли далеко она зашла с вольными типографиями, комиссиями об уложении и некоторым подобием свободы печати. Стали поворачивать назад настойчиво, но незаметно. К этому же времени Новиков переселился в Москву, сблизился с масонами. Петербург осиротел и вместо богатой сатирической литературы остался при скучном «Санкт-Петербургском вестнике», – органе полуофициальном, чьей единственной красотой были стихи Державина. «Вестник» просуществовал лишь полтора года и был возобновлен лишь в 1786 году, но успеха не имел. Кроме него издавались еще несколько журналов, ничем не замечательных, и единственный любопытный факт, который надо отметить, это тот, что в период 1786–1790 годов журналы появились в провинции. Даже в Тобольске сосланный за продерзости Сумароков издавал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» – разумеется, под пером самого издателя.
Так жила и прозябала русская журналистика вплоть до Карамзина. Она имела лишь одно славное имя – Новикова и один действительно хороший журнал – «Живописец».
Программу «Московского вестника» мы уже знаем. Она была выполнена с полным умением. Посмотрим на содержание хотя бы одной только первой книжки.
Здесь в начале мы находим стихотворение Хераскова «Время» и знаменитое «Видение Мурзы» Державина, поэму самого Карамзина («Послание к Филлиде»), сказку Дмитриева, очень хорошенькую, особенно по языку. Здесь же появились первые «Письма русского путешественника», критический разбор поэмы Хераскова «Кадм и Гармония», «Путешествие в Африку» Вальяна и трагедия Лессинга «Эмилия Галотти». Словом, стихи и проза, критика и библиография, разные статьи и анекдоты нашли себе место в первой же тоненькой книге «Московского журнала». Последующие были не хуже и число субскрибентов быстро возросло до 300 человек, с которыми можно было вести дело, так как за материал издатель не платил ничего. В этом же журнале Карамзин начал свою знаменитую и общеизвестную реформу русского языка.







