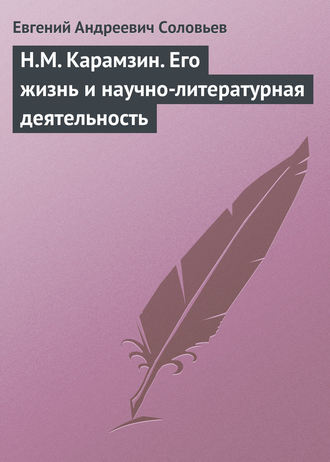
Евгений Андреевич Соловьев
Н.М. Карамзин. Его жизнь и научно-литературная деятельность
Все это по преимуществу упражнение в стиле, так как для большинства своих характеристик Карамзин не имел ровно никакого основания. Но такое раскрашивание входило в его программу. «Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон – вот образцы, – пишет Карамзин и продолжает: – Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю, нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и пр. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословные князей, их ссоры, междоусобия, набеги половцев – не очень любопытны, соглашаюсь, но зачем наполнять ими целые тома? Что не важно, то сократить, но все черты, которые означают свойства народа русского, характер наших древних героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные, надо описать живо, разительно».
Карамзин смотрел на свою работу прежде всего как беллетрист и литератор. Вот и еще одно из любопытных его признаний.
«Галерея наша, – говорил он, – открылась бы Ольгою и Гориславою, а средние времена представили бы нам изображение греческой княжны Софии, супруги князя Иоанна (которой Россия обязана первыми искрами просвещения); матери царя Ивана Васильевича, имевшей слабости, но весьма умной; первой супруги его, прекрасной и любезной Анастасии; Марии Годуновой, которой добродетель обуздывала иногда Бориса в жестокостях его подозрительного характера, и трогательной, невинной Ксении. Правда, что русские летописцы, в которых должно искать материалов для сих биографий, крайне скудны на подробности; однако ж ум внимательный, одаренный историческою догадкою, может дополнить недостатки соображением, подобно как ученый любитель древностей, разбирая на каком-нибудь монументе старую греческую надпись по двум буквам… угадывает третью, изглаженную временем, и не ошибается… Новейшая Русская История имеет также своих знаменитых женщин: наименуем из них Наталию Кирилловну… Софию… Екатерину I. Не знаю, дозволит ли политика в наше время философу-историку свободно и торжественно судить царствования Анны и Елисаветы, но умный живописец-автор может в легких чертах представить их личные характеры с хорошей стороны и без лести. Наконец не на одном троне, сочинитель должен искать лиц для исторических портретов: он вспомнит, например, сию графиню Головкину, которая добровольно променяла столицу на Сибирь и год жила в землянке с мертвым телом супруга. Такое геройство супружеской любви давно бы прославлено было в целом свете, если бы русские умели и любили хвалиться добродетелями русских».
Смысл этих строк ясен: фактов мало, те, которые есть, не особенно интересны, но если «раскрасить» и разгадывать целые подписи по двум уцелевшим буквам, то такую историю не совестно будет показать даже иностранцам.
По поводу указанного излюбленного приема Карамзина у г-на Милюкова вырывается немало жестких слов.
«Итак, – говорит он, – не историческое изучение, не разработка сырого материала истории, а художественный пересказ данных, уже известных, – вот та заманчивая задача, которая рисовалась перед воображением Карамзина до начала работы. „Нет предмета столь бедного, чтобы искусство уже не могло ознаменовать себя приятным для ума образом“, – повторяет Карамзин. Под „бедным предметом“ надо разуметь здесь русскую историю, а приятно ознаменует себя в этом предмете „История государства Российского“.
На самом деле, у Карамзина искусство на каждой странице приятно себя знаменует; что же касается до установления необходимой связи события – то в этом случае дело обстоит далеко не так благополучно. Чтобы не быть голословным, возьмем несколько характерных примеров. Роль народа в «Истории» Карамзина почти такая же, как в патриотических драмах. Народ является на сцену и начинает галдеть без всякого толку. На ступенях крыльца показывается «великий муж», сердце которого пылает любовью к отечеству. Муж произносит несколько слов, и народ с криком: «идем, бежим!» немедленно же устремляется, куда ему указано. Карамзин не только не заинтересовался народом, но даже психология московской толпы, игравшей такую роль при Елене Глинской, Иване Грозном, Федоре Годунове, Лжедмитрии, Шуйском, – разработана у него по-лубочному. А ведь в то время толпа устраивала то и дело суды Линча над нелюбимыми ею людьми. Могущество ее чувствовалось при Михаиле Федоровиче, Алексее, Софии и было уничтожено лишь Петром Великим. Не видеть исторической роли московской толпы в XVI и XVII веках – значит страдать значительною близорукостью. Роль была сыграна, роль большая, серьезная, но у Карамзина везде великие мужи, а толпа только галдит, как в знаменитой сцене избрания Годунова у Пушкина, написанной почти дословно по Карамзину. Наш историограф быстро успокоился на мнении, что славяне смиренномудры и кротки, и отказался приписать им, когда бы то ни было, активную роль в истории.
Без внимания к народу, его поэзии, его религиозным исканиям, без исследования промышленности, торговли и финансов – можно ли установить какую-нибудь необходимую связь между событиями?
Даже как психолог Карамзин делает громадные скачки. Каким образом добродетельный Иван IV его VIII тома становится сразу кровожадным тираном IX? Историк утверждает, что это чудо. Чудеса же, как известно, никакому анализу не подлежат.
Мне кажется, что после сказанного можно признать «Историю» Карамзина почти непригодной для нашего времени. Значительно мягче должны мы будем отнестись к ней, перенесясь за 80 лет назад.
Хотя Карамзин и преследовал главным образом литературные цели, однако чисто научная работа постепенно увлекала и его. Мы уже видели, что он сделал несколько важных открытий и ознакомил науку со многими новыми документами. Он же исправил массу неточностей у своих предшественников.
Вся его важная работа изложена в примечаниях, занимающих добрую треть всего сочинения.
«Нет никакого сомнения, – пишет г-н Милюков, – что Карамзин приступил к своему историческому труду без предварительной специально-исторической подготовки. Тем, чем он стал, как критик и ученый, он сделался уже во время самой работы, и конечно первенствующая роль в этой выучке принадлежит немецкой школе. На первых же порах Карамзин столкнулся с авторитетом Шлецера, ученые приемы которого должны были оказать на него самое решительное влияние. Можно проследить, как совершенствуются технические приемы Карамзина под влиянием немецкого образца, шаг за шагом контролирующего его собственную работу.
Его примечания оставляют вообще несомненно более выгодное впечатление, чем сам текст «Истории», и это объясняется не столько критическим талантом автора, сколько его ученостью. В этом отношении надо отдать справедливость историографу: он усердно хлопотал о подборе новых исторических материалов, в значительной степени обновил фактическое обоснование рассказа и надолго сделал свою «Историю» необходимою для всякого исследователя хрестоматией источников русской истории».
Самая риторика Карамзина, которая так отталкивает нас, принесла долю пользы и заставила раскупить 3 тысячи экземпляров в 25 дней, – факт, до той поры неслыханный.
Но не надо забывать в то же время, что взгляды Карамзина были значительно ниже, старообразнее взглядов многих и многих его современников. Его взгляды оказываются официальными, и, следовательно, ценность их относительна.
Глава VIII
Гражданские убеждения Карамзина. – Последние годы его жизни
Я уже упоминал выше об отношениях Карамзина к Великой княгине Екатерине Павловне, впоследствии королевы Вюртембергской. По ее просьбе он написал свою знаменитую «Записку о древней и новой России», обсуждение которой заставляет нас вернуться несколько назад, именно к 1811 году. В это время при дворе господствовало еще либеральное настроение, хотя мрачное и злое лицо Аракчеева все чаще и чаще начинало появляться в кабинете государя. Но Сперанский был еще в силе, хотя все его коренные проекты лежали под спудом и составляли предмет лишь платонического внимания. В это-то время Карамзин представил свою «Записку» Великой княгине, а через нее – самому государю.
Есть основание полагать, что Карамзин был только отголоском общего московского мнения о новых и постоянных преобразованиях царствования Александра и редактором стародворянской, противной Сперанскому партии. Взгляды Карамзина в «Записке» на самом деле стародворянские, немного даже славянофильские. С ними стоит ознакомиться поближе.
Заметив, что настоящее бывает следствием прошедшего, Карамзин приглашает императора обратиться к этому прошедшему и посмотреть, какие уроки премудрости преподает оно. Первый урок тот, что уже в девятом и десятом столетиях Россия была самодержавной страной, обильной, великой и славной благодаря крепкой и единой власти князя. Рюрик, Олег, Святослав, Владимир – не князья-дружинники, не предводители смелых ватаг авантюристов, а самодержцы во вкусе XV и XVI столетий. «Они заплатили своим подданным славою и добычею за утрату прежней вольности, бедной и мятежной». Карамзин забывает дружину, забывает, что такой храбрый генерал, как Святослав, уже по самому характеру своему не мог быть гражданским царем, и возвращается к точке зрения Ломоносова, Эмина, Екатерины II, которые в каждом Всеволоде, Мстиславе или Изяславе видели чуть ли не византийского императора. усилиями упомянутых первых самодержцев Россия стала не только обширным, но, в сравнении с другими, и самым образованным государством. К несчастию, однако, она разделилась. «Открылось жалкое междоусобие малодушных князей, которые, забыв славу и пользу отечества, резали друг друга и губили народ, чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городок к своему уделу». Попытки восстановить единодержавство были слабы, недружны, и Россия в течение двух веков «терзала собственные недра, пила слезы и кровь собственные». «Удивительно ли, – спрашивает Карамзин, – что при таких обстоятельствах варвары покорили наше отечество?» Положение дошло до того, что, казалось, Россия погибла навеки. Но – «сделалось чудо. Городок, едва известный до XIV века, от презрения к его маловажности, возвысил главу и спас отечество – да будет честь и слава Москве! В ее стенах родилась и созрела мысль восстановить единовластие в истерзанной России, и хитрый Иоанн Калита есть родоначальник ее славного воскресения, беспримерного в летописях мира».
Начался процесс собирания земель. Но «глубокомысленная политика князей московских не удовольствовалась собиранием частей в целое: надлежало еще связать их твердо, и единовластие усилить самодержавием, т. е. искоренить все следы прежнего „вольного духа“. Московские князья с успехом выполнили и эту задачу. Что же представляла из себя Россия, завещанная московскими князьями своим преемникам?
«Самодержавие укоренилось; никто, кроме государя, не мог ни судить, ни жаловать – всякая власть была излиянием монаршим. Жизнь, имение зависели от произвола царей, и знаменитейшее в России титло было уже не княжеское, не боярское, но титло слуги царева. Народ, избавленный князьми московскими от бедствий внутреннего междоусобия и внешнего ига, не жалел о своих древних вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву; довольный действием не спорил о правах; одни бояре, столь некогда величавые в удельных господствах, роптали на строгость самодержавия; но бегство или казнь их свидетельствовала бодрость оного. Наконец царь сделался для всех Россиян земным Богом».
Преступление Бориса задержало торжественное развитие самодержавства и повело к ужасам Смутного времени. Эти ужасы были тем «ужаснее», что «самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений государя».
Для вторичного спасения отечества нужно было новое чудо, и оно явилось сначала в образе Минина и Пожарского, потом – Михаила Федоровича. Самодержавие, уничтожив врагов внешних и внутренних, принялось за устройство государства. Для него, значительно уже выросшего, потребовались новые формы и большая часть их была заимствована у Европы: «Вообще, – говорит Карамзин, – царствование Романовых – Михаила, Алексея, Федора – способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах, от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям; но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении. Сие изменение делалось тихо, постепенно, едва заметно, как естественное возрастание без порывов и насилия: мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым».
В последних строках уже скрывается осуждение царствований Петра I и Екатерины II. На самом деле, к деятельности Петра Карамзин относится довольно скептически: очевидно, что к этому времени он успел совершенно отделаться от юношеского энтузиазма, который возбуждала в нем когда-то могучая личность Преобразователя.







