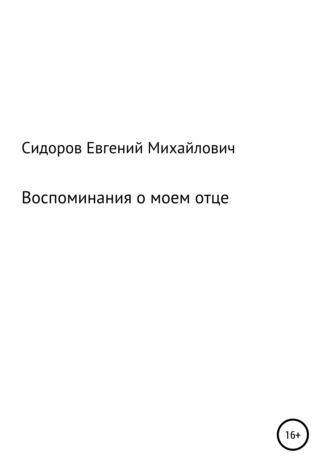
Евгений Михайлович Сидоров
Воспоминания о моем отце
То и дело в Мурманск приходили суда с военнопленными. Немцев конвоировал один солдат, а наши освобожденные военнопленные шли понуро в сопровождении усиленного конвоя. Такая картина воспринималась очень тяжело. Когда я первый раз увидел это зрелище, я был крайне расстроен, я мучился несколько дней, потому что не мог найти этому хоть какого-то логичного объяснения.
Вскоре мы закончили ремонт и пришли в Полярное за пополнением запасов. В Полярном базировались подводные лодки и ОВР. Там же находился штаб флота и знаменитый циркульный дом, в котором жили подводники. Перед этим домом стояла статуя Сталина, а на вершине скалы огромными буквами было написано, что в 1930 году здесь был Сталин и образовал Северный флот. Обе эти достопримечательности сводили с ума политработников, которые эксплуатировали их в три смены. Между ними происходили теоретические диспуты, напоминающие споры средневековых иезуитов. Они выясняли, можно ли статую Сталина называть памятником, коль скоро он еще жив. Сошлись на том, что в данном случае больше подходит слово «монумент».
В Полярном часто попадались навстречу английские матросы с помпончиками на бескозырках и крупного телосложения адмирал. Это еще действовала союзническая военно-морская миссия, которая во время войны обеспечивала взаимодействие наших флотов при проводке конвоев с запада в СССР.
Во время войны в Полярном всегда было много союзных моряков. Однажды руководитель Британской миссии обратился к нашему комфлоту А.Г.Головко с просьбой открыть в Полярном дом терпимости для иностранных моряков, поскольку они не привыкли испытывать неудобства по этой линии, и нигде в мире их не ставили в такие жесткие условия как в Полярном. Головко ответил, что это не в его силах, но, понимая затруднения моряков и идя им навстречу, он готов открыть еще один банно-прачечный комбинат.
Из Полярного мы вышли на боевое траление. Тралили мины у Айновских островов на входе в Печенгский залив. По программе практики должен был дублировать командира отделения мотористов, но получилось так, что мой шеф, Миша Маков, попал накануне выхода в море в госпиталь. И я все лето выполнял все его обязанности, записанные в книжку-боевой номер. В соответствии с расписанием по тральной тревоге, я оставался в машинном отделении один. Другие мотористы обслуживали тральную лебедку, а я крутился в машинном отделении и выполнял все требования машинного телеграфа, а они при постановке или подъеме трала были непрерывными. То даешь малый вперед, то – полный назад, то, вообще, стопоришь дизель. А кроме главного дизеля еще крутится не менее двух дизель-генераторов, насосы, компрессора и т.д.
Мин было очень много, и то и дело их мирепы подрезались тралом, и мины всплывали, покачивая на волне своими зловещими рогами. Всплывшую мину расстреливали из Эрликона, зенитной пушечки-автомата, которую американцы называли «пом-пом». Американские словечки были на тральщике в ходу, поскольку команда принимала тральщик из постройки в Майами, и три месяца находилась в США. Об американцах матросы говорили с теплотой и искренне удивлялись их заморским нравам. Например, им было непривычно, когда притиснутая где-нибудь в углу кубрика девушка-рабочая, в ответ на поцелуй или похлопывание по мягкому месту, говорила «спасибо».
После траления мы заходили в порт Лиинахамари, который еще совсем недавно был захвачен нашим десантом с моря. Весь берег был утыкан ДОТами и танковыми башнями. Заходили мы на остров Вайгач с его птичьими базарами для смены постов СНИС (служба наблюдения и связи) и в Титовку для вывоза демобилизованных пехотинцев. Как они радовались!
На этой высокой ноте я и закончу свои зарисовки военного времени.
* * *
В Харьков к родителям я приехал 3 сентября 1945 года в день победы над Японией, который последнее время не отмечается. Война с Японией была довольно странной. Во-первых, не кончился срок действия договора о ненападении. Во-вторых, накануне вступления нашей страны в войну с Японией на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Этим американцы намекнули нам, что обойдутся в своей войне с Японией и без нас. В-третьих, император Японии Хирохито капитулировал, сославшись на то, что бог отвернулся от Японии, раз ее закидывают атомными бомбами, а мы продолжали боевые действия, пока не овладели Порт-Артуром, Сахалином и Курилами. Эти три тезиса смущали меня и тогда, но все заглушало победное шествие и реванш за поражение в 1905 году.
Надо сказать, что в те времена люди не меньше, чем сейчас, отдавали свои мысли политике. У многих эти мысли были заняты тем, как бы добиться процветания и могущества государства, а не получить награду лично себе. Личное часто отодвигалось на задний план, о социальной справедливости и в голову не приходило думать. Однако, народ чутко понимал, где дело идет честно, по совести, а где аморально, какой бы ни был уровень. Сейчас же всех волнуют лишь вопросы социальной справедливости, а что будет с державою, им наплевать. В этом я и сейчас отдаю предпочтение старым приоритетам.
Итак, Победа и встреча с родителями после более, чем двух лет разлуки. Настроение было отличное. Все, в том числе и мои предки, были достаточно молоды. Жили мои родители недалеко от Госпрома в маленькой двухкомнатной квартире. Служба у папы шла хорошо.
Командовал ВВС Харьковского Военного Округа генерал-лейтенант Пятыхин, получивший звание Героя еще во время финской войны. К концу же войны он стал перерожденцем. Растолстел, в его характере появились спесивость и барство. Он стал загребать немецкие трофеи. Из Германии тогда самолетами возили барахло и распределяли между руководством. В конце концов он на этом и погорел. В большой компании генералов за чрезмерную любовь к немецкому барахлу он был уволен из армии.

Командование ВВС ХВО.
Самым сильным впечатлением о Харькове были огромные разрушения в городе. Во время войны город переходил из рук в руки несколько раз. Там шли уличные бои, результат которых был на лицо. Кроме того, при первом нашем отступлении по указанию Хрущева минировались, как и в Киеве, наиболее привлекательные на вид здания в предположении, что немцы уж их-то займут под свои штабы. Эти мины подрывались по радио, дистанционно, так что вандализм был обоюдный.
В Харькове было много зелени и тепло. Народу для такого большого города было немного. Видны уже были ощутимые результаты восстановительных работ.
В отпуске я подружился с папиным шофером, Мишей Карнаухом. Он был одесситом, имел звание старшины, которое заработал будучи стрелком-радистом на самолете ИЛ-2. Эта должность более всех военных должностей претендует на название «смертник», т.к. истребители всегда заходят штурмовику в хвост, и стрелок-радист со своим пулеметом в плексигласовом фонаре противостоит пушкам и пулеметам более маневренного истребителя. Миша был неунывающим и остроумным парнем. Он ждал демобилизации и скучал «за Одессу».
Однажды в воскресенье мы всей семьей отправились на аэродром встречать дирижабль «Победа», совершавший какой-то пропагандистский полет. Дирижабль опоздал из-за встречного ветра и, пока его ждали, я успел наслушаться устных мемуаров трижды Героя Советского Союза, Ивана Никитовича Кожедуба. Он приехал на аэродром на двух «Виллисах» , из которых высыпали репортеры харьковских газет. Оказалось, что Кожедуб совершал турне по родным местам. Выйдя из машины, он сразу же приступил к мемуарам о том, когда и с какой стороны он делал налеты на этот аэродром. При этом он, как все летчики, расставлял руки наподобие крыльев и изображал виражи.
Отпуск пролетел мгновенно, и я уехал в Ленинград.
В марте 1946 года папе присвоили звание генерал-майора инженерно-авиационной службы. Для военного человека это большое событие, свидетельство признания его заслуг перед армией, какая-то гарантия дальнейшего роста. Мы все были очень рады за папу.

Первый снимок в генеральском звании.
Весна 1946 года мне запомнилась еще двумя событиями.
Первым событие было то, что я попал в строевой расчет для участия в параде на Красной площади в Москве. Нас привезли в Москву за две недели до парада, и мы каждый день дважды отправлялись на химкинский речной вокзал и отрабатывали там движение в строю. Возила нас на репетиции колонна голубых студебеккеров, которую мы называли «стадо беккеров». Мы до автоматизма отработали все приемы и перестроения, но этого оказалось мало. Командование морского батальона просило нас проявить лихость, удаль и артистизм. Наш любимый командир роты, Максим Евсеевич Кузьмин, обращался к нам с такой речью: «Братцы! Ножку! Ножку дайте! И ручку! Вперед до бляхи, назад до отказа! Если нужно – сделайте каменные лица! Как статуэтки! Египетские! А если нужно – сделайте пару конских улыбок! И дайте ножку! Не подведите старика!» А мы были не против. Так интереснее.
Генеральная репетиция была на центральном аэродроме. Принимающий парад, маршал К.К.Рокоссовский, обратил внимание на то, как здорово идут моряки и какими вымученными солдатиками выглядят шедшие за нами курсанты училища имени ВЦИК (мы их называли «кремлевскими курантами»). На Красной площади мы еще прибавили жару и получили первое место и похвалу любимого нами К.К.Рокоссовского. Никогда бы не подумал, что от шагистики можно получить такое удовольствие.

Тренировка на Химкинском речном вокзале. Шестой слева автор.
Первую годовщину Дня Победы мы отмечали в одной компании, и там я познакомился с Ритой Ададуровой – своей будущей женой. Это было второе памятное событие весны 1946 года.
Мне уже было 20 лет, и я стал приглядываться к девушкам, но все было не то. Мне не нравились вертлявые, крашеные, мещанки и дуры. А тут я встретил свой идеал. Не хочется вскользь говорить о своем сердечном друге, я напишу о ней отдельно. Может быть, мы напишем с ней вместе, если удастся ее уговорить.
* * *
На корабельную практику в этот раз мы поехали на Черное море. Наш эшелон шел в Севастополь, а часть курсантов, в том числе и я, должны были в Харькове пересесть в пассажирский поезд до Новороссийска. В Харьков мы прибыли в 6 часов утра, когда мы все еще крепко спали. Вдруг легко открылась тяжеленная дверь теплушки, и раздался знакомый бас: «Сидоров здесь есть?» Это был папа. Он отпросил у начальства меня и моего друга Жору Калинина погостить дома до вечера. Дома мы отмылись от дорожной грязи, наелись, выпили по рюмочке, погуляли по Харькову, а вечером отправились дальше.
В Харькове я узнал, что папу переводят в Москву, и в следующий отпуск мне нужно будет ехать туда, а не в Харьков. В это время у нас жила тетя Зина, мамина сестра. Она развелась со своим Ляно, который в последнее время стал давать волю рукам, и приехала с детьми к нам в Харьков. Так мы с ней рассчитались за гостеприимство во время войны. Папину квартиру ей не оставили, но дали приличную комнату, и она прожила в Харькове более сорока лет, до самой смерти.
Все лето я плавал на трофейной румынской подводной лодке, которая базировалась в Поти. Было трудно, но интересно. На лодке служили матросы, которые всю войну провоевали на Черном море. Какие это были чудесные люди! В экипаже царил дух дружбы, добродушной подначки и преданности кораблю. Почти половина экипажа состояла из кавказцев: грузин, азербайджанцев, армян и дагестанцев. Плавать они не умели и боялись. Однако, без купания на лодке нельзя было обойтись, поскольку в подводном положении на лодке была такая жара и духота, что люди порой доходили до обморочного состояния. Форма одежды на вахту ограничивалась плавками. Командир специально давал команду к всплытию после обеда, чтобы грязные и потные матросы могли хоть немного освежиться. Кавказцев спускали в воду на веревках, что не давало им потонуть, хотя они сильно к этому стремились. Ни о какой межнациональной розни, а тем более дедовщине, никто никогда не слышал.
Матросы рассказывали о боевых действиях подводных лодок, о том, как под Новороссийском моряки сначала остановили свою пехоту, которая взяла разгон бежать до Турции, а потом и немцев. Я уже рассказывал о взаимоотношении матросов и солдат на Севере. Нечто похожее было и здесь. Во время увольнения на берег в Батуми катерники и подводники лупили матросов с линкора «Парижская коммуна» (он же «Севастополь»), обзывая их «союзниками». Дело в том, что линкор большую часть войны бездействовал в Батуми, куда его спрятали от авиации.
В Поти строился мол. Работы вели заключенные-женщины. Они были, как на подбор, красавицы. Прозвище у них было «шоколадницы». Это были девушки, добровольно уехавшие в Германию из оккупированных областей нашей страны. Считалось, что они соблазнились на обещанный им немцами шоколад и шелковые чулки. Правда это или нет, не знаю, но так о них говорили в народе.
По пляжу ходили толпы беспризорников, которых звали «дети костра и солнца». По субботам во время аврала, матросы приглашали парочку мальчишек почистить трюмы в таких местах, куда нормальный мужчина залезть не сможет. Потом этих ребят откармливали на неделю вперед.
Из Поти я поехал в отпуск уже в Москву.
Папа работал заместителем главного инженера Дальней Авиации.
Командовал Дальней Авиацией главный маршал авиации Голованов, а главным инженером был папин однокашник по академии Виктор Георгиевич Балашов. Жили папа с мамой в гостинице на Чапаевской улице, поскольку квартиру они тогда еще не получили. Вскоре после моего приезда папа вынужден был поехать в командировку. Он пригласил меня поехать вместе с ним. Иначе у нас не оставалось времени пообщаться во время моего отпуска. Мы полетели на транспортном самолете ЛИ-2 сначала в Саратов, а потом в Харьков.
В Саратове папа должен был рассосать пробку, образовавшуюся на авиационном заводе, который отремонтировал несколько сотен самолетов, а принимать их, облетывать и отправлять с завода не хватало людей. До папы туда летал генерал-полковник Громов (заместитель Голованова), но с задачей не справился. Папе досталась более сложная ситуация, поскольку положение усугубилось. За прошедшие десять дней к скопившимся самолетам добавилось много новых, вышедших из ремонта.
1946 год был самым голодным. К военной разрухе добавился сильный неурожай. Авиационная промышленность тоже переживала тяжелые дни. Получилось так, что в ходе войны она обеспечила количественное и качественное превосходство нашей авиации над немецкой, а с окончанием войны мы оказались на бобах. Бомбардировщика, равного «летающей крепости» у нас не было. Не было не только в наличии, но и в чертежах самолета, способного поднять атомную бомбу. Реактивных истребителей у нас тоже не было, хотя робкие попытки по их созданию у нас велись. Реактивный истребитель, разбившийся вместе с Бахчиванджи, оказался единственным и последним. А у американцев и особенно у англичан на конвейере уже стояли доведенные до ума реактивные истребители. В силу всех перечисленных причин Саратовский авиационный завод оказался без военных заказов. Там стихийно началась конверсия, о которой сейчас столько говорят. Завод стал штамповать алюминиевые миски, ложки, раскладушки и прочее. Баловаться с ценой, как это делают сечас, тогда было невозможно. Мирная продукция давала заводу выручки раз в сто меньше, чем от самолетов. Рабочие ничего не зарабатывали. Люди ходили как тени, еле волочили ноги. Тогда дирекция завода взмолилась и попросила загрузить завод хотя бы ремонтом самолетов.
Вот уж, действительно, пришла крайняя нужда. Я знаю, как наши заводы не любят заниматься ремонтом и, вообще, сервисом, на чем западные фирмы зарабатывают самые большие деньги. Военные сразу загрузили завод работой. С конвейера стали выходить десятки самолетов. Весь заводской аэродром ими заполнен. Папина задача состояла в том, чтобы испытать эти самолеты, принять их и разослать к местам базирования. Он собрал летчиков, прибывших из частей за самолетами, посоветовался с ними, и уже через два часа начался конвейер приемки и испытаний. Через каждые пять минут с аэродрома взлетал отремонтированный самолет, делал круги над аэродромом и, если все было в порядке, улетал в свою часть. Не выдержавшие испытаний самолеты возвращались на аэродром. Через три дня мы уже могли лететь в Харьков, а заводские военпреды были вооружены методикой испытаний. Больше пробок из отремонтированных самолетов на заводе на возникало.
Упомянутое мною совещание с летчиками проходило в заводской гостинице, где мы остановились, и я на нем присутствовал. Я видел, как кровно были заинтересованы летчики, надолго застрявшие в голодном Саратове, вырваться к себе домой. Я слышал, как папа ставил перед ними задачу и направлял ход совещания. Это была для меня хорошая школа. Я перенял у папы манеру вести совещания.
Расскажу немного о Саратове образца 1946 года. Центр города не изменился с дореволюционных времен. Каменные здания купеческой архитектуры: биржа, банк, дума и др., возвышались над двухэтажными домами, требующими ремонта. Впечатляли здания театра и городского рынка. От центра к Волге тянулся парк Липки – чудесный уголок плохо озелененного Саратова. Через Волгу был перекинут большой и красивый мост. На юг от центра города вдоль Волги и вдоль трамвайных путей расположились бесчисленные заводы: комбайновый, шарикоподшипниковый, нефтеперегонный, авиационный и др. Возле заводов стояло по нескольку трех-пятиэтажных домов архитектуры первых пятилеток, метко названной стилем «баракко». Как теперь стали говорить: «Социальная сфера явно отставала от производственной».
В связи с провалом нашего соперничества с американцами в области авиации, а также в связи с тем, что реальность получения атомной бомбы была гораздо выше реальности получения бомбардировщика, способного поднять ее в воздух, Сталин разгневался. Начались оргвыводы.
Посадили в тюрьму главкома ВВС главного маршала авиации Новикова, Начальника главного штаба ВВС маршала авиации Ворожейкина, главного инженера ВВС генерал-полковника Репина, наркома авиапрома Шахурина и других авиационных деятелей. Курировавший авиацию член Политбюро ЦК ВКПб Г.М.Маленков тоже попал в немилость и был изгнан из Кремля в Ташкент. Правда, его Сталин вскоре помиловал и вернул в Кремль, а вот авиационные деятели, чтобы выйти на свободу, были вынуждены дожидаться смерти вождя.
Военным инкриминировали забвение перспективы, а также то, что они пошли на поводу у промышленности, всегда настроенной на количество, а не на качество. Авиапром обвинили в том, что ни одного подходящего проекта самолета у него не было подготовлено для смены старых самолетов. Сейчас бы по этим меркам нужно было сажать все правительство подряд.
Несколько по другому поводу был арестован маршал авиации С.А.Худяков.
Я обещал кое-что добавить о Тегеранской конференции. Так вот, после Тегеранской конференции, на которой Сергей Александрович присутствовал, органам контрразведки стало известно, что во время конференции кто-то сболтнул лишнее англичанам, и те стали обладать некими сильно охраняемыми сведениями. Стали анализировать, кто из делегации мог это сделать. Сталин, Молотов и Ворошилов отпадали автоматически, ввиду своей непогрешимости. Оставались Штеменко, Худяков и Кузнецов. Подозрение по характеру сведений пало на Худякова, и он оказался на Лубянке.* (Сноска: Автор, видимо, путает. С.А.Худяков был в Тегеране в качестве личного пилота Сталина. А консультантом он был уже на Ялтинской конференции, где поразил Рузвельта глубиной своих познаний в области авиации. Свой восторг эрудицией Худякова Рузвельт выразил тем, что подарил лично ему спортивный самолет. Самолета Худяков в глаза не видел, т.к. сразу же передарил его аэроклубу, но в немилость у Сталина впал автоматически. Сталин не любил, когда в его присутствии кто-то перетягивал внимание на себя. Арестовали же Худякова после того, как пропал высланный им в Москву с Дальнего Востока самолет с золотом императора Манчжурии Пу И. Комментарий С.Е.Сидоровой.)
Сергей Александрович Худяков был армянином из Нагорного Карабаха. Его «девичья» фамилия была Ханферянц. Сергей Александрович Худяков был его псевдоним, правда мало кто знал его настоящее имя и настоящую национальность, даже сам Сталин, с которым судьба сводила его много раз: и до революции в Баку, и во время гражданской войны на Царицынском фронте, и во время Отечественной войны. Официальной версией жизни под псевдонимом была следующая легенда. Во время гражданской войны Арменак Ханферянц командовал кавалерийским полком. Когда в бою был убит комиссар этого полка, он взял себе его имя, чтобы имя не ушло в небытие вместе с комиссаром. Арменак был должником у комиссара, потому что тот в свое время спас ему жизнь, когда он тонул в Каспии. Арменак Ханферянц не только взял себе имя Сергея Худякова, он еще и женился на его вдове и усыновил сына. Потом из кавалеристов Арменак Ханферянц уже под именем Сергея Худякова переквалифицировался в летчики. Он учился одновременно с папой в Академии имени Жуковского, только на комфаке. Жили они тоже в доме на Красноармейской улице. Жена его, Варвара Петровна, была знакома с моей мамой.
С 1937 года по 1944 год С.А.Худяков гигантскими шагами просто взлетел вверх по карьерной лестнице. Он прошел путь от майора до маршала авиации. Отличился он, в основном, на штабной работе, короткие сроки он командовал армиями на второстепенных направлениях.
Варвара Петровна в 50-60-е годы близко сдружилась с моей мамой, часто бывала у нас в гостях и рассказывала следующее.

Мама с Варварой Петровной Худяковой.
Якобы Худякова вызвал на допрос сам Берия и бросил ему в лицо:
«Ты английский шпион!». Худяков же ему на это ответил: «Ты сам английский шпион!». Возможно это заявление было не таким уж беспочвенным, тем более, что Ханферянц и Берия пересекались в Баку еще до революции, а там английское влияние чувствовалось очень сильно. К тому же Арменак работал в Баку телефонистом и много чего знал о жителях города не понаслышке, а из подслушанных разговоров. После этого заявления допрашиваемого маршала Берия вынул из письменного стола пистолет и лично застрелил Худякова. Не понятно одно, откуда у Варвары Петровны была эта информация. Подробности о порядках, царящих на Лубянке, редко доходили до родственников заключенных. Иногда им выдавали какую-то информацию как бы по секрету, но эта «утечка информации» никогда не была спонтанной, она тоже четко контролировалась чекистами с Лубянки. Возможно, и с Варварой Петровной поступили так же. Мужа ее прессовали на Лубянке четыре месяца! Потерять человеческий облик можно и за более короткий срок. Затем его расстреляли в Донском монастыре, о чем есть документальные свидетельства. К концу войны Берия давно уже занимался строительством атомной бомбы, а не ловлей «врагов народа» и английских шпионов. Поэтому было бы уместно предположить, что кто-то ей намеренно рассказал о легкой и красивой смерти мужа.
Варвару Петровну с младшим сыном, Сережей, сослали на Енисей, видимо, на поселение. Примечательны подробности ее ареста и выдворения из Москвы. Пришли за ними двое. Один откровенно глумился и наслаждался свой властью. Другой, увидев, что женщина находится в полном замешательстве, стал сам собирать ее вещи. Он велел ей взять шубу, сам отвинтил швейную машинку от деревянной подставки, все компактно упаковал. Потом на поселении Варвара Петровна продала шубу и купила корову, а швейная машинка позволила ей обшивать местное население и сводить концы с концами. Арестовали ее с сыном зимой. Сережа в это время лежал с ангиной. Везти их должны были в неотапливаемом фургоне. Солдат, который помог ей собраться, уступил свое место в теплой кабине больному мальчику, чем, скорей всего, спас ему жизнь. На поселении Варвара Петровна не только обшивала крестьян, она собирала в лесу живицу, завела огород, сама доила корову, короче говоря, совершила трудовой подвиг и сохранила сына.
После смерти Сталина Худяков был реабилитирован. Варвара Петровна вернулась в Москву. Она получила за мужа двухкомнатную квартиру на Тишинской площади и денежную компенсацию, позволившую ей купить небольшой дачный домик. Старшего сына приняли в Академию, младшего, Сережу, через некоторое время приняли в Институт международных отношений. Казалось бы, жизнь стала налаживаться. Только недаром в народе говорят «Варвара великомученица» или «Варюха-горюха». Младший сын, Сережа, женился, привел в дом жену и тещу, и они Варвару Петровну из дома выжили. Она попросила у государства себе однокомнатную квартиру. Ей дали, и она от сына уехала. Но сын с первой женой развелся и уговорил Варвару Петровну отдать свою однокомнатную квартиру его бывшей жене. Она отдала жилплощадь и вернулась в квартиру на Тишинской площади. Сын женился во второй раз. Опять стало тесно. И вдруг – о, радость! Одинокий сосед сверху, которому угрожало уплотнение, предложил ей поменяться. Он отдавал ей трехкомнатную квартиру(без доплаты!!!), а сам переезжал в их двухкомнатную. Казалось бы – подарок судьбы! Только вот Сережа все три комнаты забрал себе, а ей отвел темный угол в своем кабинете, да еще и заставил ее, пожилую больную женщину нянчиться со своим ребенком. Тогда она обратилась за помощью к старшему сыну, Володе. Володя приехал в Москву и определил ее в богадельню. В богадельне Варвара Петровна прожила около двух месяцев и умерла. Вот такие дела.
* * *
Продолжу тему кризиса в авиации.
По поводу ареста руководства папа говорил, что Берия собирает компромат на Булганина, в котором видел своего соперника. Сейчас говорят, что Сталин побаивался авторитета Жукова, и для его остравтки принялся за генералов. Мне кажется, что оба предположения одинаково допустимы, но вина генералов очевидна.
В Советском Союзе накопилось несколько экземпляров американского самолета «Боинг-29», известного в то время под названием «летающая крепость». Один самолет посадили на Камчатке и не вернули американцам. Сохранили также несколько упавших на нашу территорию б-29 из числа тех самолетов, которые совершали челночные операции по бомбежке Германии с посадкой в Полтаве.
Сталин собрал конструкторов и промышленников и сказал им: «даю вам год на то, чтобы скопировать Боинг. Если будет изменен хотя бы один винтик, сниму голову!»
Это была труднейшая задача для всей промышленности страны, потому что нужно было осваивать прежде всего конструкционные материалы: сталь, дюраль, пластмассу, резину и т.д. Из наших тогдашних материалов такой же самолет построить было невозможно. Предупреждение о невозможности «изменения винтиков» было очень своевременным. Мне известно, как наши конструкторские бюро «копировали» немецкую подводную лодку XXI серии. Они подлаживались под возможности наше промышленности, в результате чего построили совершенно другую лодку, гораздо худшую.
Промышленности предстояло впервые осваивать сенсорные устройства, системы гидравлики, колеса новой конструкции, моторы и еще много чего. И через год должен был быть готов не какой-нибудь макет, а настоящий боевой самолет. Самолет был сделан к сроку. Получил он название ТУ-4. Я побывал на первом самолете. Получилось это так. Я был в отпуске после четвертого курса. Папа все время пропадал на аэродроме в Кратово. Этот аэродром принадлежал летно-испытательному институту авиапрома. Однажды, заскочив домой, он взял меня с собой на аэродром и предоставил мне возможность наблюдать прцедуру сдачи столь важного самолета. Военных было немного. Преобладали конструкторы в кожаных тужурках, которые держались очень уверенно. По папиной просьбе инженер-майор Томан (то ли борттехник этого самолета, то ли военпред ) провел меня по самолету от хвоста до носа. Я сравнивал самолет с подводной лодкой и говорил, как выглядит то или иное устройство на лодке. При этом Томан считал, что самолет лучше подводной лодки, а я наоборот. Самолет отличался от ранее виденных мною насыщенностью электроникой и размерами. Почему-то большое впечатление на меня произвело шасси с огромными колесами.
Оказалось, что папа тоже принял участие в создании этого самолета. Он был председателем государственной комиссии по приемке моторов, которые осваивались авиамоторным заводом в Молотове (Перми). За создание ТУ-4 папа был награжден орденом Красной Звезды.
Далее события развивались следующим образом. Когда самолеты уже пошли в серию, девятку самолетов ТУ-4 было решено показать на ноябрьском параде в 1948 году. Главный маршал авиации Голованов решил лично пилотировать головной самолет, чтобы в репортаже о параде прозвучала его фамилия, как флагмана столь престижного полета. Однако, ему сказали, что в головном самолете полетит Вася Сталин, занимавший в то время пост командующего ВВС Московского военного округа. Голованов пытался воспротивиться, и тут же был отстранен от командования Дальней Авиацией, создателем которой он являлся. Его назначили командиром десантного корпуса. Голованов потребовал, чтобы ему дали возможность сначала закончить курсы «Выстрел», поскольку он в пехоте ничего не понимал, а потом уж назначать комкором. Его пожелание было удовлетворено.
На этом я, пожалуй, закончу описание кризисной обстановки в авиации, которая характеризовалась, с одной стороны, быстрым решением проблемы, а с другой, обстановкой террора, присущей культу личности.
Развивая эту тему последовательно, я забрел в своем повествовании в 1948 год. Между тем, в 1947 году произошли события, о которых хотелось бы упомянуть.
Впервые после 1936 года папа получил отпуск и поехал в санаторий в Сочи. На третий день отдыха ему стало плохо, и его срочно самолетом отправили в Москву в госпиталь Бурденко. Обследование показало, что одна почка не работает. Папу положили на операционный стол и отрезали то, что осталось у него от левой почки, а именно: оболочку с гноем внутри. Такое состояние почки было последствием его прыжков с ПО-2 под Сталинградом. К сожалению, раньше поставить диагноз не удалось. Вместо отдыха в папиной жизни случилась операция, после которой он долго приходил в себя. Полкорпуса у него было разрезано, и шов заживал плохо.
В госпитале папу навестил Голованов, что вызвало там страшный переполох.
* * *
У меня летняя практика была разбита на три части. Сначала мы в Ленинграде стажировались на дизелестроительном заводе №800, что за Невской заставой. Затем мы уехали в Полярное, и первую половину практики я плавал на подводной лодке Л-20, на которой совершил переход в Белое море. Вторую же половину практики я провел на плавбазе «Печора». Эта плавбаза была трофейной немецкой. Она была печально знаменита тем, что во время войны заходила в Карское море и являлась базой для восьми немецких субмарин, терроризировавших Северный морской путь.



