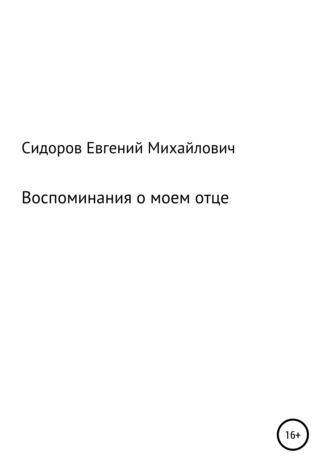
Евгений Михайлович Сидоров
Воспоминания о моем отце
После окружения немцев в Сталинграде основной задачей 16-ой Воздушной армии генерала Руденко, входившей в Донской фронт, стала воздушная блокада группировки Паулюса. Восьмая же Воздушная армия в составе Сталинградского фронта наступала в общем направлении на Ростов. И тут предстояли новые тяжелые испытания. Немецкое верховное командование распорядилось, чтобы, чтобы Паулюс ни в коем случае не пытался покинуть Сталинград, а деблокаду его войск поручили фельдмаршалу Манштейну, который сосредоточил в районах Котельниково и Тормосин крупную танковую группировку. Эти свежие танковые соединения, подстегиваемые истерическими приказами Гитлера, ринулись на помощь Паулюсу в полосе действий Сталинградского фронта. Наш фронт перешел к обороне, войска таяли на глазах, но своевременно подоспевшая 2-ая гвардейская армия Малиновского разгромила группировку Манштейна, и фронт продолжил наступление на запад.
Это сражение, конечно, стало достоянием истории, но оно недооценено историками, поскольку оно было труднейшим и важнейшим во всей Сталинградской эпопее. Все лавры и почести выпали на долю Донского фронта, который ликвидировал окруженную немецкую группировку и взял в плен Паулюса.
Взятие Котельниково явилось для Сталинградского фронта последней точкой в этой битве. После этого фронт даже был переименован в Южный. Именно после освобождения Котельникова папа попрощался с боевыми друзьями. Его поменяли местами с генералом Иваном Ивановичем Бондаренко, прибывшим на его место из Ташкента.
Когда мы уезжали из Сибири, там был мороз -50 градусов. Мама даже поморозила себе щеку. А в Ташкенте пели птички, стояла ранняя весна с мокрым снегом под ногами.
Хорошо запомнилась дорога. Мы довольно долго ехали по Турксибу. Ехали в одном вагоне, но не компактно, а все в разных концах вагона. Рядом с мамой ехал оперный певец – тенор. Он должен был в Алма-Ате на киностудии петь за кадром за артиста в кинофильме «Воздушный извозчик». Ночью он запустил руку в сумку с папиным продпайком, отломил шмат колбасы и съел его под одеялом. Мама ему не стала мешать, так как понимала, что человек в беде. Рядом со мной ехал младший лейтенант, который мне шепотом рассказал о «катюшах» – реактивных минометах, о которых я к тому времени еще не слышал, а лишь потом увидел в кинохронике. Основным контингентом пассажиров были выписанные из госпиталей раненые. Одни после ампутации ехали домой насовсем, другие либо на долечивание, либо в часть. Среди раненых большинство составляли казахи и узбеки, называли они друг друга «костыльганами». По вагонам ходили инвалиды и пели. Им в шапку кидали мятые рублевки и заказывали «Землянку». Это была самая популярная в то время песня. Многие, слушая ее, размазывали по лицу слезы.
В Ташкенте мы разместились на жительство в авиагородке. Школа моя была расположена в центре города, в часе ходьбы от дома. В школе был твердый коллектив учителей. Основные предметы преподавали старики-интеллигенты. У них не забалуешь! Ни на какие поблажки надеяться было нельзя. Десятый класс учился в третью смену, и домой я возвращался в полной темноте. В нашем классе было пять мальчиков, остальные – девицы. Слабых учеников не было, и мне, привыкшему к роли первого ученика, пришлось не только хорошо учить текущий материал, но и подтянуть слабые места, накопившиеся от пропущенных двух четвертей девятого класса и неважного преподавания в сибирских школах.

Ташкент на фоне дувала. 1943 г.
Ташкент выглядел сугубо восточным городом. По краям дорог были выкопаны канавы-арыки. Между арыками и высокими глинобитными заборами-дувалами протянулись узенькие тротуары. Вдоль арыков были насажены пирамидальные тополя и раскидистые деревья – урюк. В центре города было несколько прекрасных зданий-дворцов в восточном стиле: театр имени Навои, здание ЦК ВКП(б) Узбекистана и др. Остальные дома были преимущественно одноэтажными. Дома располагались за дувалами , и жителей не было видно. В Ташкент были эвакуированы Одесса, Ростов и Харьков. Кроме того в теплые края съехались все беспризорники и уголовники. Город был сильно перенаселен. Базары были очень богатые (гораздо лучше, чем сейчас), но цены были доступны только богачам.
Соседкой по квартире у нас была Наталья Яковлевна Парфенюк. Ее муж командовал полком на фронте, а сын учился в Ташкентском пехотном училище. Наталья Яковлевна была коммунистом с большим стажем. Она рассказывала, что, когда ее муж служил в Куйбышеве, она работала секретарем у кандидата в члены политбюро ЦК ВКП(б) Павла Петровича Постышева. В 1938 году Постышева, который подверг сомнению сталинский тезис об усилении классовой борьбы по мере развития социализма, вызвали в Москву, и он исчез навсегда.
В Ташкенте Наталья Яковлевна работала поваром в красноармейской столовой. У нее было больное сердце, и труд ее был сродни большому подвигу, поскольку ей приходилось целый день в неимоверной жаре шуровать уполовником в огромных котлах со щами и кашей. Она ни разу не принесла домой хоть какой-нибудь еды, и не давала этого делать никому, в том числе и начальству. За это ее очень ценил комиссар базы. Он говорил, что надеется только на нее, так как хозяйственникам никогда нельзя довериться.
Судьба Натальи Яковлевны была трагична. Сначала на фронте погиб ее муж, потом без вести пропал сын, а затем умерла и она сама, прямо на своем рабочем месте. И некому было помянуть ее добрым словом.
Среднеазиатский военный округ охватывал огромную территорию, и папа все время бывал в частях. Запомнились такие пункты его поездок: Чимкент, Чирчик, Сталинабад, Фрунзе, Казанджик, Красноводск. Несколько раз папа летал в иранский город Мешхед, находившийся в Советской зоне оккупации Ирана.

На Ташкентском аэродроме.
В этих поездках происходило взаимообогащение знаниями. Папа делился свежим фронтовым опытом, а сам познавал особенности эксплуатации самолетов в условиях среднеазиатской жары и песка. самолеты были плохо приспособлены не только к морозам, но и жаре.
Командующим ВВС округа был генерал-лейтенант Мичугин, у которого были две симпатичные дочки-студентки, Октябрина и Сталина.
* * *
Пятого марта 1943 года нашу семью постигло страшное горе. Погиб мой брат Алик. Его задавила машина, даже не задавила, а придавила кузовом к стене, когда он гулял во дворе. Никто никогда и не думал о такой опасности для ребенка, потому что машин в Ташкенте во время войны было не так уж и много. И этот грузовик не мчался по улице, а просто неумело разворачивался во дворе. Папа был вне себя, он бегал по городу с пистолетом и искал шофера, чтобы застрелить. Его пришлось отлавливать и успокаивать. Мама очень долго находилась в состоянии грогги, но потом обнаружили, что у нее брюшной тиф и она просто отдает концы. Эта ее реакция на гибель сына очень напоминала реакцию ее мамы на смерть Бориса. Маму положили в госпиталь.

Братья Сидоровы: Алик и Женя.
Для всех нас это было трудное время. Папа приносил домой спирт и научил меня пить его в разбавленном и неразбавленном виде. Давал он мне капельку, но эта наука мне очень пригодилась в будущем. Я уже знал, что это такое, какова технология потребления зелья и сколько мне можно его потребить, чтобы не потерять лицо. У нас многие ребята после училища, дорвавшись до спирта и не зная меры, сильно от этого страдали.
Однажды, когда мы были с папой дома вдвоем, я рассказал ему о своих токарных делах в Толмачевских мастерских. Услышав об изобретении дяди Миши, позволившем увеличить выпуск цилиндров авиамоторов на 200-300 процентов, он был поражен. Проблема цилиндров у них стояла не менее остро, и они рады были улучшить дело хотя бы процентов на 5. Но своего дяди Миши у них не нашлось. Папа мне сказал, что ни в какую школу я завтра не пойду, а должен буду явиться к начальнику местных мастерских Турчанинову и, пока не налажу шлифовку цилиндров по новому методу, из мастерских не выйду. У меня все еще было свежо в памяти, и я выточил по одной оправке для цилиндра с водяным и для цилиндра с воздушным охлаждением. Всего нужно было делать пять приспособлений, но оставшиеся отличались только размерами, и мастера Турчанинова, схватив идею на лету, сами их потом сделали. На третьи сутки я им отшлифовал по одному цилиндру каждого сорта. Времени на это ушло по 3,5 – 4 часа, вместо 12 -13 часов по старому способу. Все были крайне воодушевлены, а я ощущал приподнятое настроение от сознания того, что помог Родине в ее трудный час.
Незаметно подошло окончание школы. Мне и еще двум мальчикам из нашего класса предложили без вступительных экзаменов потупить в авиационный институт, эвакуированный в Ташкент из Харькова. При этом меня соблазняли броней от призыва в армию. Однако я направил документы в Высшее Военно-Морское Инженерное ордена Ленина Училище имени Дзержинского, которое в это время находилось в Баку. Папа мой выбор одобрил. Он говорил мне так: «Летчиком ты быть не можешь, потому что у тебя замедленная реакция. Тебя собьют в первом же бою. В авиационные инженеры тоже не ходи. Очень трудно терпеть, когда необразованные командиры относятся к тебе, как к нелетающему, а значит, к третьесортному человеку. На кораблях в этом отношении люди уравнены, потому что бок о бок несут бремя морской службы.»
Из Баку пришел вызов, и я покинул отчий дом и начал самостоятельную жизнь. Следующий раз я встретился со своими родителями уже в сентябре 1945 года, получив первый отпуск после окончания войны. К этому времени я уже окончил второй курс училища и летнюю корабельную практику на Северном флоте. В это время мои предки жили уже в Харькове. Папу назначили главным инженером ВВС Харьковского военного округа (ХВО).
Об этих двух годах, в течение которых я не видел своих родителей, у меня в памяти не осталось ничего существенного, связанного с папой. Сначала я хотел сразу перейти в своем повествовании к осени 1945 года, но мне стало жалко опустить свои воспоминания, сохранившиеся о том, что я видел в 1943-1945 годах. Ведь это были необычные годы.
Буду стараться говорить не о себе, а о том, что попадало в поле моего зрения, о том внешнем мире, который я воспринимал.
Итак, летом 1943 года поехал в Баку с вызовом из училища. Стояла необыкновенная жара. Вагоны были набиты пассажирами до предела, а ехали мы по Средней Азии, где летом прохладно не бывает. Плацкартными были вторые полки, на каждую нижнюю полку продавалось по три билета. Третьи полки старались багажом не занимать, чтобы на них спать по очереди. Дорога была одноколейной, и поезд часто и подолгу стоял на разъездах, пропуская эшелоны с бакинской нефтью. Северокавказские дороги еще не работали, и нефть из Баку шла двумя потоками: первый – по Каспию и Волге, второй – по Каспию и среднеазиатской железной дороге. Разъезды, как правило, располагались в маленьких оазисах, все население которых выходило к поезду торговать всевозможные фрукты: виноград, дыни, арбузы, абрикосы, а также кислое. Пассажиром предлагались молоко – мацони и пресные лепешки – чуреки. Цены же на эти продукты были совершенно недоступными. Поезд уходил, а товара меньше практически не становилось на импровизированном рынке. После Ашхабада к поезду стали приносить соль, которую мгновенно раскупали. На станциях военные бежали в продпункт пообедать по своему продаттестату.
В поезде ехал целый интернационал, но говорили все по-русски. Однако этот разговор был отягощен таким акцентом и таким примитивным лексиконом, что ухо просто жаждало услышать нормальную русскую речь. В поезде ехали узбеки, казахи, туркмены, армяне, азербайджанцы, старые евреи, украинцы (в основном старшины) и белорусы. Мы ехали четверо суток. За это время я познакомился с капитаном, одетым в морскую форму. Он оказался инструктором комсомола управления Военно-морских учебных заведений (ВМУЗ), которое находилось в Баку.
В Красноводске у нас приняли чемоданчики в камеру хранения, сказали, что время прибытия и отправления теплохода «Багиров» точно не определено, а предположительно будет через 4-6 суток. Капитан ушел в гостиницу, а я на морской вокзал. Там народ спал на полу вповалку, найти себе свободное местечко было трудно. К тому же все пространство было густо заполнено мухами: идешь и давишь их ногами, поскольку улетать им некуда. На улице тротуары тоже были забиты спящими. Численность табора, ожидавшего пароход «Багиров», составляла порядка пяти тысяч несчастных. Всем на пароход не сесть, а ведь за оставшиеся дни желающих сесть на борт только прибавится. Я каким-то образом исхитрился и часика два поспал, а утром пошел изучать Красноводск.
Городишко был одноэтажный, почти без зелени и без воды. В ларьке продавали теплую плохо опресненную воду поллитровыми банками по 50 копеек за банку. У меня в чемодане оставалось немного хлеба и сыра, но камера хранения была на замке до прихода теплохода. А есть хотелось по-настоящему. Оставался один вариант – идти на рынок. Ассортимент товаров на рынке был беднее, чем в придорожных оазисах, а цены просто умопомрачительные. Я взял себе стакан мацони и одну лепешку, за что заплатил 75 рублей. На оставшиеся пять дней до прихода «Багирова» у меня оставалось рублей 50.
Подкрепившись, я пошел купаться в Каспийском море. Никакой красной воды я там не увидел и решил переименовать Красноводск в Муховодск. Затем я как-то опять оказался на морском вокзале и встретил там своего шефа – капитана. Он мне шепотом сказал, что вот-вот должны открыть камеру хранения для группы офицеров, которые собираются взять свои вещи и на грузовике ехать в нефтяной порт Уфру с тем, чтобы там сесть на танкер «Нахичевань» и уже на нем следовать в Баку. Я решил ехать с ними, хотя в списке и не значился. Автомобиль ехал по дну мелководного залива километров пять. Мне стало ясно, что обратного пути нет. С разрешения старичка-капитана танкера я на «Нахичевани» добрался до Баку.
Город Баку не похож ни один другой город. Его своеобразие обусловлено древней историей, южным колоритом с морем и горами, многонациональным населением и экономикой, которую прежде всего определял нефть. После Дальнего Востока и Сибири, где застройка городов была деревянной с отдельно возвышающимися многоэтажными каменными зданиями, я попал в город со старинными каменными домами. В районе Приморского бульвара стояли красивые 4-5 этажные дома, было много зелени, среди которой выделялись олеандры, ранее виденные мною только в цветочных горшках. Ядром старого Баку являлась Крепость, игравшая в городе роль, схожую с ролью Кремля в Москве. В Крепости находилась комендатура и гауптвахта. Рядом с парадной частью города располагались кварталы, населенные азербайджанцами. Там были узкие улочки, застроенные двухэтажными домами кавказской архитектуры. На горе возвышался Арменикенд – красивый район города, населенный армянами. К северу, вглубь Апшеронского полуострова располагался Черный Город, район, где добывалась и перерабатывалась нефть.
Увольнений в город на первом курсе почти не было, и знакомство с ним происходило, в основном, в строю. Мы ходили на строевые прогулки с барабаном, в баню, на лекции в Индустриальный институт, плавать в море, на завод «Парижская Коммуна» для практических занятий по технологии металлов.
Настоящее знакомство с городом состоялось лишь во время патрулирования. В патруль я ходил раз двадцать. Нам выдавалась винтовка с патронами и красная нарукавная повязка. Патрули были одиночными. Мы ходили в отведенных секторах и проверяли документы у всех военнослужащих, в том числе у офицеров, а также у гражданских лиц призывного возраста. Подозрительных задерживали, нарушителей дисциплины записывали.
Вот тут я и увидел бакинцев в их естественной обстановке. Народ жизнерадостный, темпераментный и очень торговый. Всюду возникали «черные рынки», на которых торговали всем подряд, начиная от собственных последних штанов и кончая чачей – виноградной водкой. Старики и старухи сидели на тротуарах и торговали всякой дрянью. Пяти-шестилетние ребята на улице играли в классики, а на шеях у них висели лотки с восточными сладостями. Попрыгав, они вспоминали о деле и кричали: « Половина щиколад, половина мармелад, кому надо уманад?»
Описание города было бы неполным, если бы я не упомянул о постоянном стойком запахе керосина, который ощущался в любой части города. Море было загрязнено керосиновой пленкой и плавающими «ляпами» нефти. На плавание мы всегда ходили с керосином и ветошью, с помощью которых мы смывали эти «ляпы» с головы и рук.
Военный контингент в Баку больше всего был представлен войсками НКВД, затем следовала противовоздушная оборона и военные училища, в том числе четыре Военно-Морских.
Противовоздушная оборона была укомплектована девушками-зенитчицами, которых называли эрзачками (от немецкого слова «эрзац» – заменитель). Они тоже ходили на строевые прогулки. Их необычайно длинные колонны шли всегда в ногу легким шагом, как на танцах, ряды были ровными, а пели они лучше нас. Чаще всего они пели: «Ты мне изменила, другого полюбила. Зачем же ты мне шарики крутила, да-да?»
Надо сказать, что нас тогда не очень удивлял факт службы в армии такого количества девушек, и их маршировки с песнями мы считали в порядке вещей. Но сейчас, когда я вспоминаю эти длинные колонны в зеленой форме, мне становится не по себе. До чего же мы тогда дожили, что даже девушки были поставлены в строй, лишены индивидуальности, свободы и любви.
Один раз нас подняли по боевой тревоге, и мы заняли оборону в Черном Городе. Это продолжалось около суток. Фронт уже далеко отодвинулся от Кавказа, и мы недоумевали, отчего это у наших офицеров такие встревоженные лица. Потом выяснилось, что в этот день через Баку проезжал Сталин на Тегеранскую конференцию.
Кстати о конференции. О ней впоследствии ходило много легенд.
Сюжетом для детективных романов и фильмов послужил слух о том, что немецкая агентура готовила покушение на глав правительств трех великих держав, а наши контрразведчики это дело вовремя раскрыли и предотвратили трагедию.
По этому поводу позже родился то ли анекдот, то ли байка, то ли слух – нечто не лишенное жизненной основы. Якобы Рузвельт на заседании тройки передал Черчиллю записку. Черчилль усмехнулся, спрятал записку в карман и передал Рузвельту ответное послание. Рузвельт прочитал его, тоже усмехнулся, разорвал записку на мелкие клочки и бросил их в пепельницу. Заседание проходило в нашей резиденции, и по его окончании наши бдительные ребята собрали клочки записки, склеили их и обнаружили такой текст: «Старый орел не вылетает из гнезда». Все сразу решили, что «орел» – это иносказательно Сталин. «Не вылетает из гнезда» – значит, не покидает резиденцию. Отсюда был сделан вывод о готовящемся покушении. Прошло много лет. Умерли Сталин и Рузвельт. Черчилль доживал свой век на пенсии. И тут к нему обратились с просьбой освежить в памяти этот эпизод с записками. Особенно интриговала первая записка, текст которой остался неизвестным. Черчилль погрузился в воспоминания и вдруг расхохотался. Он вспомнил, что Рузвельт в своей записке подсказал ему, что у него расстегнута ширинка.
Еще одна легенда гласит, что Сталин хотел сделать Рузвельту хороший подарок, и велел выведать, какое у него хобби. Оказалось, что это филателия. Тогда Берии было поручено купить лучшую коллекцию советских марок у наших любителей. За ценой велено было не стоять. Сказано – сделано. После заседания тройки в советской резиденции Сталин попросил Рузвельта задержаться и сделал ему этот подарок. Рузвельт был так рад, что тут же принялся рассматривать марки. Он никак не мог оторваться от этого занятия и остался ночевать у Сталина. На другой день он во всем поддерживал Сталина, чем вызвал крайнее недоумение Черчилля.
Как коллекционер, я вполне допускаю такое поведение. Думаю, что и я повел бы себя так же как Рузвельт, получи я подобный подарок, связанный с моим хобби.
Кое-что еще о Тегеранской конференции я добавлю чуть позже.
В 1942 году, когда немцы рвались к Кавказу, в Баку было сформировано несколько бригад морской пехоты. Курсантов младших курсов нашего училища направляли в эти бригады. Морпехи вступили в бой на подступах к городу Орджоникидзе и остановили танковые колонны немцев. В 1943 году оставшихся в живых курсантов вернули в училища. В нашем классе собрались все фронтовики Дизельного факультета: Павло Дорогань, Артем Абрамов, Сергей Личак, Юрий Дербеденев, Костя Краснов и Миша Виноградов. С Мишей я спал на одной двухъярусной койке и помню, что он был очень беспокойным соседом. Во сне он бился головой и кричал: «Куда вы его несете? Он уже давно мертвый!»
Ребята рассказывали, что наша пехота во время отступления от Ростова была полностью деморализована, бежала без оглядки и полностью потеряла боеспособность. Едва наши моряки успели занять оборону, как нахлынули тучи танков, за ними пехота на машинах, а в воздухе «Юнкерсы» и «Хейнкели». Когда немцев встретили организованным огнем, они сначала удивились, а потом стали лезть напролом. Началось побоище, кончившееся тем, что немцы не выдержали и перешли к обороне. Их командующий генерал Лист погиб под Моздоком, и в газетах появились карикатуры на этого Листа с подписью: «В Моздок я больше на ездок».
Об этом подвиге моряков история скромно умалчивает. Только в мемуарах маршала Крылова перечисляются номера бригад морской пехоты, но никакой разницы между этими героями и драпальщиками из пехотных дивизий не видно и в этих мемуарах.
Через Баку в 1943 году проходила трасса движения союзнической помощи нашей стране. Грузы шли через Иран, Баку и далее.
Участие союзников в войне с Германией мы почувствовали через появление в нашем рационе кое-каких заграничных продуктов. Гороховы суп-пюре мы называли «слезы Черчилля», а консервированную колбасу – «улыбка Рузвельта». Такой сарказм был вызван тем, что союзники бессовестно отлынивали с открытием второго фронта и выжидали, когда СССР и Германия ослабят друг друга по максимуму.
Не буду останавливаться на своем житье-бытье. Опущу рассказ о вступительных экзаменах в училище, где был конкурс 17 человек на место, о первом, самом трудном, годе службы. Не буду вдаваться в эти подробности, потому что в них речь должна идти обо мне, а я поставил перед собой другую задачу: рассказать о приметах того времени.
Летом 1944 года после экзаменационной сессии мы приступили к демонтажу лабораторного оборудования и погрузке его в вагоны. Затем, получив сухой паек на дорогу, мы сели в теплушки и отправились в Ленинград. Размещение курсантов производилось из расчета: один взвод – один вагон. В теплушках ехали не только курсанты, но и преподаватели с семьями, в том числе несколько профессоров-адмиралов. Ехали мы через Ростов, Воронеж и Москву.

В теплушке.
Дорога до Ростова помнится оживленным движением воинских эшелонов и санитарных поездов. Все станции на Кубани были разбиты, а дома в станицах казались не пострадавшими. Зато Ростов был уничтожен до основания. Этот город много раз переходил из рук в руки, и страшно было смотреть на руины некогда красивого и богатого города. После Ростова мы почувствовали, что наши рюкзаки с сухим пайком заметно отощали. Хлеб раскрошился, и его надо было есть горстями. Ребята на станциях бегали на базарчики что-нибудь поменять на еду. Я тоже на станции Дрязги поменял кусок мыла на литр молока, которое тут же и выпил. На месте станции была расчищенная площадка. Ни одного целого дома в поселке не было, люди жили в землянках.
В конце концов, мы доехали до Москвы, и наш эшелон сутки простоял в Лихоборах. Я попал в команду курсантов, которая должна была отоварить хлебные карточки и доставить хлеб к эшелону. Этот хлеб предназначался для гражданского населения нашего ковчега. Так я неожиданно оказался в самой Москве. В центр мы ехали на электричке и зорко смотрели по сторонам. Нам было интересно узнать, как москвичи переживают войну. Публика была одета бедно. Многие пассажиры в электричке были с тяпками – люди ехали за город окучивать картошку. Разговоры шли вокруг положений на фронтах и новостей, услышанных по радио. Мы с интересом прислушивались к этим разговорам, поскольку сами давно не слышали радио и отвыкли от политической активности населения. В Баку этого не было, там народ разговаривал только на бытовые темы, да и то с оттенком недовольства.
Около Красных Ворот мы купили себе по порции эскимо, стоившей 14 рублей. Мы были потрясены тем, какую роскошь может себе позволить столица. Ведь ни в каком другом месте невозможно было купить хоть что-нибудь без продовольственных карточек. Вечером в Москве был салют по поводу освобождения Барановичей.
До Ленинграда мы доехали быстро, правда, несколько часов состав простоял в Тосно. Там мы воспользовались белыми ночами, и до двух часов ночи играли в футбол.
Ленинград поразил нас своей красотой и незнакомым духом благородства и гордости. Многие окна были забиты фанерой. Позолоченные шпили либо находились в чехлах, либо были закрашены чем-то черным. На стенах домов были надписи об опасности артобстрела и указатели нахождения бомбоубежищ. Во всех садах и скверах росла картошка, многие дома стояли без углов и стен, демонстрируя внутреннее убранство комнат. На площадях стояли зенитки. И все же город выглядел прекрасно, гораздо лучше, чем сейчас.* (Сноска: автор последний раз был в Ленинграде в середине 80-х годов) Всюду чистота, уважительное отношение друг к другу, какое-то чисто ленинградское достоинство в поведении при полном обнищании быта.
Линия фронта в это время проходила недалеко: по реке Нарова (сейчас стали неграмотно писать «Нарва»). В городе сохранялся комендантский час, по радио стучал метроном. Но уже вернулись в город крысы, покинувшие его во время блокады, и потихоньку начали возвращаться эвакуированные.
После разгрузки эшелона я был направлен на заготовку дров в лес около Кингисеппа. Там из лесных оврагов тянуло трупным смрадом.
Затем мы оказались на учебном корабле «Комсомолец», где проходили свою первую корабельную практику. «Комсомолец» стоял у моста Лейтенанта Шмидта, как раз на том месте, откуда «Аврора» произвела свой эпохальный выстрел. Это был крупный корабль, с водоизмещением как у хорошего крейсера, но он был весь изранен бомбами и тяжелыми снарядами.
Кормили в Ленинграде хуже, чем в Баку. Мы росли и худели.
На Неве, по которой мы каждый день ходили на шлюпках, там и сям были разбросаны полумертвые корабли. Около училища имени Фрунзе с большим креном стояла плавбаза «Свирь». У Горного института стоял крейсер «Петропавловск», купленный перед самой войной у Германии. «Петропавловском» его нарекли уже у нас, а у немцев он носил название «Лютцов». Крейсер был недостроенный, но это еще полдела. Немцы перед продажей укомплектовали его так, чтобы он не мог принимать участие в боевых действиях. Снаряды присылали к одному калибру, а оптику к другому. Но, несмотря на этот запланированный саботаж, к началу битвы за Ленинград несколько его башен удалось ввести в строй. Во время блокады «Петропавловск» по сравнению с другими кораблями вел самую эффективную стрельбу по немецким позициям. Он уничтожил немецкую танковую колонну в районе Стрельны, но и сам был потоплен в районе Канонерского завода. В месте затопления судна было мелко, и палуба находилась над водой. Матросы потихоньку заделали пробоины и однажды ночью откачали воду и увели «Петропавловск» в Неву. Уже с нового места стоянки крейсер продолжил огневые атаки немцев, и снова был потоплен.
У Адмиралтейского завода (в то время завод им. Марти) стоял дизельэлектроход «Урал». В этом месте был самый стержень реки, и при гребле вверх по течению около этого «Урала» шло яростное противоборство между гребцами и рекой. В этом месте шлюпка практически стояла на месте и только после неимоверных усилий со стороны гребцов она потихоньку начинала продвигаться вперед, сначала на сантиметры, потом чуть быстрее проходила вдоль его борта. Шаровая окраска «Урала» до сих пор стоит у меня в глазах.
Около Летнего сада стояли недостроенные крейсера «Чапаев» и «Железняков». Тогда они стояли выкрашенные суриком с деревянными гальюнами на корме, а позже на них плавали механиками мои ближайшие соратники, Илья Бурак и Лева Беляев.
Линкор «Октябрьская Революция» в полностью исправном состоянии стоял в Маркизовой Луже. Нам приходилось на нем бывать.
К военным в то время относились не просто с уважением, а с любовью, которую можно было прочитать в глазах. Особенно это было заметно в День Победы, который пришел неожиданно, хотя все его ждали. Мы смотрели на всенародное ликование из окон Адмиралтейства. В город нас не пустили, потому что вечером мы должны были участвовать в салюте. Стреляли мы из ракетниц на стрелке Васильевского острова.
Да, День Победы – это яркое ощущение искренней радости, всплеск всеобщего единения народа с горьким привкусом скорби по погибшим. Этот эмоциональный накал невозможно передать словами. Тот, кто не пережил этих чувств сам, никогда не сможет понять величия этого момента. Бодренькие песенки про то, что этот День «порохом пропах», ничего не объясняют.
Все лето 1945 года мы провели на корабельной практике. Я попал на Северный флот в бригаду ОВРа (охраны водного района) на тральщик, полученный по лэнд-лизу от США. Тральщики этого проекта у нас назывались Амиками. Эшелоном мы прибыли в Мурманск. Я еще раньше окрестил его «форточкой в Европу». Он расположен выше и по размерам меньше, чем «окно в Европу» – Ленинград. А еще он открыт круглый год. Эта «форточка» представляла собой удручающую картину. Все, что только было можно, было разбомблено. Кругом были одни руины: ни деревца, ни травинки, голые сопки, но очень оживленный порт. Пирсы и крановое хозяйство в порядке. Весь Кольский залив заполнен торговыми и рыболовецкими судами. Около гостиницы «Арктика» был заасфальтирован участок дороги, и молодежь собиралась на этом пятачке для танцев. Был открыт Дом офицеров, перед которым была разбита клумба с зеленой травкой. Смотреть на эту травку приводили детей. Самым оживленным местом был стадион, где играли в футбол судовые команды, наши против английских. Болельщики приходили сюда выпустить пар из своих котлов, поскольку повседневное напряжение было очень высоким.
Мой тральщик заканчивал ремонт на заводе в Росте, которая тогда отстояла от города на 5 километров, а сейчас является его Ленинским районом.
Мое первое увольнение в город началось с драки. Я шел из Росты в город пешком. Шел вместе со старшиной первой статьи, которому было лет тридцать, и он мне казался ужасно старым. Вдруг перед нами возник патруль из трех солдат. И мой бравый старичок неожиданно для меня вдруг начал их лупить. Я ему помог чисто из солидарности, не вникая в суть конфликта. У меня тогда был второй разряд по боксу, поэтому мы быстро их уложили на землю и убежали. Когда мы отдышались, я спросил старшину, за что мы их били. Старшина искренне удивился и ответил: «Так это же солдаты!» Увидев мое недоумение, он мне объяснил, что в течение всей войны в районе полуострова Рыбачьего, в единственном месте, где немцы не смогли перейти нашу границу, шли тяжелые бои в, так называемой, Долине Смерти. Сценарий этих боев был следующий: штрафные батальоны из моряков выбивали немцев из их траншей, затем горстку оставшихся в живых моряков сменяли батальоны пехоты, которые на другой же день сдавали позиции немцам. Опять набирались на флоте батальоны штрафников, куда моряков отправляли за самые незначительные проступки, опять моряки выбивали немцев и опять солдаты уступали немцам эти позиции. Вот поэтому-то моряки при каждом удобном случае учили солдат уму-разуму, а те принимали это, как должное.



