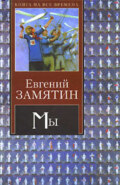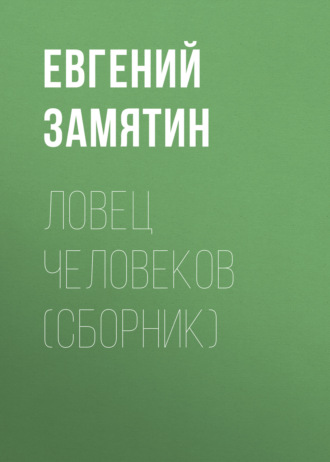
Евгений Замятин
Ловец человеков (сборник)
Миссис Лори вспыхнула.
– Отдайте назад, – сердито ткнула она букет мальчишке.
Мальчишка прищурил глаз еще больше:
– Ну-у, куда же: магазин не примет, деньги уплочены.
Миссис Лори побежала с букетом в спальню. Розы были очень спелые, лепестки сыпались по лестнице, миссис Лори растерянно оглядывалась. Сунула букет под кружевной ворох на стуле и, собирая по пути лепестки со ступеней, пошла вниз. Протянула три пенса мальчишке, стараясь глядеть вверх – мимо понимающе-прищуренного мышиного глаза.
Там, вверху, было черное мозаичное небо – из белых ползающих треугольников и квадратов.
– Ну, да, конечно: зэппы летят, – весело ответил мальчишка поднятым бровям миссис Лори. – То и гляди начнут. Спасибо, мадам… – и нырнул в темноту.
Миссис Лори спустила жалюзи в столовой и – вся в металлическом сиянье – торопилась уложить знаменитые ложки, каждую в соответствующий футлярчик: надо было скорей, пока еще не начали. На шестой ложечке, с тремя замками – герб города Ньюкастля – ухнуло глухо. Ложечка с тремя замками осталась лежать на столе, рядом с пустым футляром.
Тупые чугунные ступни с грохотом вытопывали – по домам, по людям – все ближе. Еще шаг – и мир миссис Лори рухнет: Краггс, ложечки, невообразимо-кружевное…
Жить – еще пять минут. И надо – самое главное.
«Букет… Самое главное – выкинуть букет…» – очень торопилась сказать себе миссис Лори.
В спальне – выхватила букет из-под кружевной груды.
«Ну да, во двор. К нему же во двор, чтобы он…»
Она высунулась в окно, размахнулась. Пронеслось совсем близко бредовое геометрическое небо – и черная, вырезанная из качающегося картона фигура на соседнем дворе. Миссис Лори со злостью бросила прямо в лицо ему букет и услышала – может быть в бреду – такой смешной, детский, хлюпающий плач.
Топнуло тут, рядом; задребезжали верешки стекол, валилось; рушился мир миссис Лори, ложечки, кружевное.
– Бэйли! Бэйли! – Разрушенная миссис Лори стремглав летела по лестнице вниз во двор.
Мелькнуло бредовое небо. Мелькнула под забором черная, нелепо-тонкая фигура. И нежные, как у жеребенка, губы раздвинули занавесь на губах миссис Лори. Жить еще минуту.
На асфальте, усеянном угольной пылью, жили минуту, век, в бессмертной малиновой вселенной. В калитку стучали, стучали. Но в далекой малиновой вселенной не было слышно.
* * *
Электрические лампы потухли. Запинаясь лапами в лохматой темноте и раздавливая верешки стекол, мистер Краггс долго бродил по комнатам и звал:
– Лори! Да где же вы, Лори?
Чугунные ступни, ухая, уходили к югу, затихали. Мистер Краггс нашел наконец свечку, побежал наверх, в спальню.
И почти следом за ним на пороге явилась миссис Лори.
– Господи! Где вы были? – повернулся на пьедестале мистер Краггс. – Цилиндр, понимаете, сбило цилиндр… – Мистер Краггс поднял свечу и раскрыл рот: белый утренний халат миссис Лори – расстегнут, и тончайшее белое под ним – изорвано и все в угольной пыли. На ресницах – слезы, а губы.
Занавеси не было.
– Что с вами? Вы… вы не ранены, Лори?
– Да… То есть нет. О нет! – засмеялась миссис Лори. – Я только… Выйдите на минутку, я сейчас переоденусь и спущусь в столовую. Кажется, уже все кончилось.
Миссис Лори переоделась, тщательно собрала лепестки с полу, уложила их в конвертик, конвертик – в шкатулку. Чугунные ступни затихли где-то на юге. Все кончилось.
1918
Один
I
Немые задыхающиеся дни. В тусклом молчанье – точно клочья туч в лунном мертвом свете – скользят непонятные дни. Медленно или безумно быстро? Или совсем остановились?
Синим, холодным небом блеснули на миг: спешат, скорее – к счастливым. А потом на белых, сверкающих крышах – там за решеткой – ползут черные пятна, как на гниющем трупе все дальше. И опускаются сверху туманы – тяжелые, душные – точно лихорадочное забытье. К серым стенам прильнули, сосут…
– Ах, скорее бы ночь…
А она уже грозится вдали, развернула черное знамя. Вздрогнули в испуге последние лучи, залились кровью, в бездну свалились. Радостно прянул оттуда мрак, тени мчатся вправо и влево, а за ними бежит ужас.
Черный кошмар.
Вьюга вцепилась в решетку, бьется за окном, рыдает в холодном мраке.
А внизу под ним, под его ногами, ходит кто-то. Мечется целые ночи – взад и вперед – без конца.
– Отчего он не спит никогда?
Вздрагивает тьма, шепчет страшную мысль:
– Быть может, уже безумный он – мечется там?
А он все ходит, неведомый, взад и вперед – целые ночи. Без конца. Не взойдет никогда солнце. Вечно будет ходить он, страшный, внизу…
И вдруг – замолк глухою, темною ночью.
– Где он? Умер? Увезли его?
Молчат стены кругом.
* * *
Пустой гроб внизу. Немые стены кругом. Как слепые вихри во тьме – безумные мысли. Все ходить, ходить…
– Как тот, что был внизу. А потом увезут так же ночью?
Семь шагов, семь шагов. Толпятся, гонятся стены. Мелькают старые надписи. Чьи-то имена, забытые, полустертые, чьи-то стихи, скорбные, рыдают на холодном камне.
Кто их писал? И где теперь они и их муки?
За окном – колокола, звонят – плачут, далеко где-то, чуть слышно.
Там, далеко – странный огромный мир. Люди – идут, спешат, говорят впивают мысли друг друга. Люди!
Сердце бьется в холодные стены, задыхаясь, как воздуха ищет их… Люди!
Тихо. Пустой гроб внизу. Немые стены кругом. Чуть слышно колокола звонят – плачут: уже утро.
Длинными, бледными лучами ухватился рассвет за решетку, повис мелкой сеткой дождя над тюремным двором.
– Там ходят теперь. К ним, к ним!
* * *
Там внизу – их шестнадцать. Запертых в шестнадцати клетках.
Налегли сверху мокрые, тяжелые тени – от каменных стен. Ни звука, ни слова. Тихо – будто нет там живых людей.
Невнятным пятном мелькнет лицо, и на нем две черных точки – глаза. Мелькнет – исчезнет.
Взад и вперед мечутся. Взад и вперед. Кружат, как дикие звери, все быстрее бегут. Некуда – взад и вперед…
Уже нет больше сил ходить и биться мыслью о стены, о дверь, о решетку – они стоят, прислонившись к забору, и вверх смотрят.
Маленький, четырехугольный клочок неба бросили им: не смогли закрыть. Облака хмуро смотрят вниз и плывут мимо. Уходят за стены – туда, где и они, пойманные, жили когда-то.
И задремавшая в забытьи жажда жизни просыпается, и рвет оковы и связи, и бьется, обливаясь кровью.
Чу! Бледные пятна в окнах – вон, вон! Там – товарищи.
Слышите? Рвутся к ним и протягивают руки – зовут их… И не могут отозваться они и выкрикнуть все, отчего задыхаются, и хочется кричать и биться головой о стены.
Остановились. Жадным взором цепляются за решетки, и ищут за ними человека, и бьются в темные стекла…
Недвижное, безмолвное смотрит вниз небо.
* * *
Вдруг оборвались все мысли. И все кругом умерло: одна пустота – и в ней падают звуки, острые, сверкающие.
– Тук-тук! Тук-тук-тук!
Снизу… Там – живой, внизу!
У трубы уже. Забилось сердце, как безумное, и рвется навстречу. Нет дыхания. Нет дыхания. Тихо. Пар шумит в трубе.
И опять: тук-тук! Молнией разрезало тишину.
В радостном вихре путаются и пляшут мысли. Не вспомнить букв.
– Я слушаю.
– Стук! – упало снизу, дрогнула труба всем телом. Закричать хочется от радости. Понял тот, внизу, понял!
– Кто вы, товарищ?
Молчит. Что же молчит он?
– Т-с-с! Отвечает…
Звуки дрожащие, обломанные. Путаются, не сосчитать их. А если не поймешь?
Падает вниз и холодеет сердце.
Нет, нет! Надо записывать…
Все растут ряды непонятных цифр. А в них закутаны, спят человеческие слова – точно листья в почках. Все растут… Сейчас развернутся, а с ними – весна и золото-солнце.
– Дзынь, дзынь!
Радостно вздрагивает труба. Слова бегут по ней искрами вверх, всю тишину – сверху донизу – пронизали жгучими змейками: свернулась, испуганная, серою пеленою, уходит…
Как много… Двенадцать слов!
Дрожит бумажка в руках. Надо положить на стол, чтобы прочитать.
– «Я рабочий Александр Тифлеев арестован двадцатого декабря сижу пятая галерея привет товарищу».
Все громче звонят колокола, все светлее.
Милые, смешные ошибки и пропуски. И самые слова от этого – не сухие, книжные, а живые.
Еще, еще читать – жадно пить…
Привет товарищу! О, милый!
Отвечать – скорее.
– Сказать о новом, огромном, что нахлынуло, и о темном и душном, что было раньше, и о надеждах родившихся.
– Я – бывший студент Белов. Сижу один три месяца. Я вам рад. – Кончил и мучился: не то, не то! Тысячи слов дни и ночи лежали скованные и должны были родиться теперь и не могли – бились и мучили. Точно во сне: нужно крикнуть, а язык мертвый, чужой, неподвижный.
И еще без конца много нужно говорить. Кружатся мысли, падают где попало, как подхваченный бурей листок. Остановились.
– За что сидите?
– Убил…
Ровно ответила труба, спокойно. Опустились мысли. Тучкой разочарование набежало. Уголовный?
– …шпика, – докончила труба.
Ага! Злой и яркой молнией сверкнуло, и радостная волна мести отхлынула от сердца…
* * *
Потушили лампы. Зашлепали-заплескались в гнилом болоте шаги в коридоре. Холодной струйкой вытянулся, стегнул свист. Заскрежетал зубами замок.
Затихло, кажется. Чуть слышно застучал Белов – железным шепотом.
– Не спишь?
– Не хочется. Все думаю.
– О чем?
– Как шпика мы тогда убили.
И замолчали оба.
Потихоньку застучал опять Белов.
– Расскажи. Все равно не спим.
Расскажет он, будет долго в темноте рассказывать. Взял Белов с кровати пальто, бросил на пол возле трубы, лег.
Луна взошла. Бродили лучи по камере, слепые, и было от них не светло, а только жутко: кто-то неуловимый, невидимый вошел в камеру и бродит по ней, слушает.
– Ночью это было, – начал Тифлеев. – В селе. Возле монастыря.
Сразу вырезались перед Беловым стены – белые, молчаливые. И колокольня – строгая, тоскливо-высокая.
Радостно всмотрелся: исчезла прежняя недвижность души – точно вымыли потускневшее зеркало. Как удар колокола – каждое маленькое слово: бегут во все стороны, перегоняются, падают – образы яркие, звучные…
– Дзынь. Дзынь-дзынь-дзынь.
Медленно, тяжело стучит Тифлеев:
– Ветер был сильный.
…Динь-динь-динь. Это маленькими колокольчиками перебирает ветер – тоненькие, маленькие, в тоске и страхе мечутся, как испуганные птички в снег зарываются…
– Назначено было ночью собрание. Ждали товарища из города.
…Точно черного налили в воздух. А там наверху огонек одинокий, чуткий: собрались в комнате и ждут. Говорят и опять молчат. И смотрят нетерпеливо в темную ночь, прислушиваются: динь – ди-и-динь – звонит ветер…
– Привязался к нему шпик. Он на поезд – тот за ним.
…Сзади – молчаливый – точно тень. Черным мраком закрыл лицо – будто что-то гнусное, губительное скрывает. Все быстрей… И кажется, мчатся они уже в пустыне, и только двое их. С грохотом несется мрак и свистит мимо ушей. Искры вверх и вниз мечутся во тьме – как безумные мысли…
– Приехали. Он к нам идет, а тот опять сзади.
…Пустая улица. Крадутся по мертвым домам лунные лучи, с закрытыми глазами улыбаются на мокром, черном окне. И вдруг прыгнули назад. От колокольни длинная тень упала. Прячутся в нее оба – друг от друга. А навстречу ветер звонит: дзинь – ди-и-нь…
Уже не слушает Белов. Мешают лунные лучи, делают что-то сзади, нужно смотреть туда. Привстал, обернулся: бледное пятно на стене – плещется беззвучно, двигается.
– Откуда оно, отчего?
Смотрит тревожно назад. А Тифлеев стучит громко и неровно – точно дрожат у него руки.
– Что это с ним?
Вслушался.
– Заткнули рот. Повели в лес около монастыря.
…Повели. Молча по темному двору несут. Собака завыла: увидела незнакомое, нечеловеческое, с белой головой, бьющееся… В лесу – озираются, ступают неровно, ветки хрустят. Лунные лучи, слепые, натыкаются на деревья – длинные тени ползут, качаются – от ветра…
– Положили на землю. Только один сказал – отпустить его.
…Самое темное место. Черные, мокрые дубы костлявые руки расставили, ниже наклонились. Ветер примчался, в ветвях засел и притих. И они замолчали все. Одна мысль у всех была – робко самый молодой высказал ее. И опять молчали. А потом вдруг заговорили все, задвигались.
– Веревки не было. И стал я его душить платком.
Тихо стучал, медленно. Почувствовал, как Тифлеев рассказал бы ему это: наклонился и шепотом говорит, и глаза все шире раскрываются.
– И я его утушил.
– Почему утушил? Почему он говорит «утушил»?
Вздрогнул. Слово было странное, мягкое, как человеческая шея, задыхающееся…
Замолчал Тифлеев. За окном ветер метнулся, притих. На полу лежал блик от луны и белел, мигал незрячими мертвыми глазами, точно лицо удушенного.
II
Опять рождался день и был такой же, как двадцать дней, как тридцать дней назад. И оттого все дни стали потом сливаться в одно огромное, тусклое – точно развернулось бесконечное осеннее небо.
Было страшно остаться в сером одинаковом море дней и не знать, где берег – и они стали отмечать их на стене.
Один день отметили крупным крестом: замерцала надежда в их слепом и глухом гробу. Ждали, что дадут свидание Тифлееву.
В субботу вечером позвали его вниз. Там скажут: будет ли это, или рушилось все.
А Белов лежал, весь измученный ожиданием.
Все не темнело. Долго перебегали тени по стенам.
Потом сразу мягкий сумрак разлился, расплылись жесткие линии камня и железа, все предметы стали мягкими и теплыми.
Все не шел Тифлеев.
Около головы кружилось ожидание и шептало что-то невнятное – Белов напрягался весь, вслушивался. В самой глубине где-то, вся завернутая черною тьмою, рождалась мысль, он отталкивал ее от себя, весь загораясь страхом.
– Ах, скорей бы, скорей бы…
Зажгли огонь. Тишина.
И вдруг просочились бледные, тусклые звуки: пели где-то вдали, медленно, торжественно.
Да ведь завтра праздник.
Слушал пение. Окутывало чем-то ласковым голову и баюкало. И потом сразу откликнулось далекое милое эхо.
Тихие подпраздничные вечера в большом доме: лампада щурится и сияет теплым светом, мебель и цветы кругом странно-новые, непохожие – точно замолкли важно, ждут чего-то.
– Где все это? Куда делось?
И казалось – ушло назад, как тихие, кудрявые берега, и смотрит сейчас издали.
А вдали опять запели. Опускались потихоньку звуки, целовали.
Белов закрыл глаза. Было хорошо, вспоминалось самое светлое, самое любимое.
…Длинные, зимние вечера – вдвоем, в мягком свете лампы с зеленым, надвинутым абажуром. Вместе с ней, с Лелькой, заглядывали в темную бездну «загадок жизни и смело стучались в глухую стену и прислушивались», к эху.
…Было что-то нежное и тонкое – как взгляд, как запах. И оборвалось – нелепо. Лопнули струны на половине аккорда – больно!
– А если оно вернется, красивое? Дадут свидание Тифлееву, можно будет передать ей письмо?
Буйно кровь застучала, забегал по камере.
И точно в ответ труба зазвенела…
Дали во вторник! Брызнуло светом и разнесло тьму, унизанную призраками. Забилось сердце – точно начинало жить.
Белов остановился. Нарочно сказал себе:
– Ну, что ж. Ничего особенного.
И опять смеялся тихим, как дыхание, смехом радости, закрывая рот рукою. Мыслей было никак не собрать: точно вырвались из клетки и носились над горячими волнами в светлом просторе. Не знал, что писать.
Потом взял бумагу – давно уже была приготовлена – и написал только:
«Я сижу в тюрьме. Камера 201. Хотел бы получить от вас письмо тем же путем, каким получится и мое.
Сергей Белов».
Подумал и прибавил: «Ваш Сергей Белов».
* * *
Передать письмо вниз, к Тифлееву, решено было в воскресенье вечером.
Весь день стояла в тюрьме праздничная тишина – жуткая, томительная. Точно слушают все, что делается за стенами.
Там, должно быть, все живые и бодрые, как сухой морозный воздух, как праздничные блестки инея. Там, должно быть, яркое, смеющееся солнце, сверкающий жизнью смех на чистом, скрипучем снегу. И в светлой, яркой комнате – радостная, кипучая работа рука об руку…
– А это все, что казалось вчера радостью – разве это жизнь?
Целый день лежал. Опять надвигалась издали пустота, и маленькой, тоненькой болью тоскливо ныло сердце – ушло куда-то глубоко, и чуть слышно оттуда его стон.
Молчал весь день и Тифлеев. И казалось, что все в тюрьме молчат и глотают тоскливые, мучительные слезы. Неужели там, снаружи, может быть весело?
– И Лельке тоже, может быть, хорошо – с кем-нибудь?
Хотелось застонать протяжно и долго: а-а-а! – как от боли.
К ночи небо стало тревожно-бледным и глубоким, точно убежало вдаль от пристального мертвого взгляда луны.
– Будет видно письмо при спуске.
Белов нахмурился. Черные, смутные страхи закружились около, прятались по темным углам и выглядывали оттуда, холодными пальцами прикасаясь к нему.
…А если оборвется нитка и захватят, прочтут?
…А если уведут Тифлеева, и опять он – один?
Опять вернуться назад, к прежнему?
Темно заглянул в бездну. Дна не было, и смотрело на него оттуда пустое, жутко-бесконечное, как небо в осенний ветреный вечер.
Вздрогнул.
– Лучше смерть.
* * *
Когда все стихло и потушили огни, подошел к окну, открыл фортку. За окном кружился и рвал что-то и шумел ветер. Улетал и опять прижимался к окну, замолкал. Становилось совсем тихо и казалось, что если приглядеться, то увидишь приплюснутый к окну нос и любопытные глаза.
Было страшно начать. Чудился подкрадывающийся шорох, и сердце билось в тонком смутном тумане опасений.
– Ветер будет мешать. Не отложить ли?
Оборвал себя злобно:
– Что, трусишь?
Нарочно, назло себе, громко стуча ногами, подошел к кровати, нащупал под ней в темноте и взял все, что нужно. Длинная и тоненькая, с письмом на конце, гнулась палочка от тяжести и дрожала, и казалось, сейчас тихо, без треска переломится.
Осторожно взобрался на парашу. Сомкнулась тишина стеной и надвинулась сзади вплоть до самого окна.
Нащупал пальцем отверстие фортки в холодном медном листе: узенькое, даже палец не проходит. Продвинул туда конец с нацепленным письмом и опять вслушался назад, в тишину. Слышно было, как ветер шумел порывами, все сильнее – будто все выше взбирался и обрывался оттуда вниз.
Из фортки шла холодная, морозная струя и упиралась прямо в тело.
Пригляделся. Было ясно видно – письмо выдвинулось уже за край широкого железного подоконника и висит над пропастью.
Задрожало что-то в груди, голова закружилась – точно сам стоял на краю и смотрел вниз.
Распустил нитку. Двумя быстрыми, неслышными шагами подошел к трубе, бросил вниз тихим, замирающим стуком:
– Готово.
И опять у окна. Опять холод из фортки, дрожат грудь и руки. За окном – ветер шумит, шумит, кружится. Схватывает зубами письмо и бросается с ним в сторону, потом в другую. Качается письмо, как маятник, а он вдали, ветер, замолк, смотрит. Потом схватит письмо и прянет с ним – вверх, и нитка висит, как мертвая, как пустая.
– Цело ли письмо? И удастся ли Тифлееву схватить нитку?
Ожидание – точно томительный, не перестающий звук. И вдруг подпрыгнули сзади шаги и ударили по рукам – задрожала в них нитка. Тап-тап-тап – около самой камеры. Остановились. Замер весь и закрыл глаза. Ноги длинные-длинные и далеко где-то. Голова громадная и пустая, и внутри падают секунды, как капли:
– Два, три четыре…
Тихо.
– Сорок пять, сорок шесть…
И опять в тишине отпечатываются звуки шагов: тап-тап-тап. Все дальше – и стихли.
Вздохнул всей грудью, точно вынырнул из воды, глухой и холодной, и глотает свежий воздух.
Дрожат еще пальцы и ищут нитки. Опять ветер. Шумит за окном без конца, рвет из рук.
Тонет бодрость в светлом, видящем сумраке за окном. И уже отчаяние холодными камнями складывается в душе.
И потом, когда все кончено, и лежит он в постели – все еще вглядывается в темноту, и тревожные шорохи стучатся в ушах. Бледнеет уже измученное небо и тают усталые звезды, а он лежит все с широко раскрытыми глазами и неровно бьющимся сердцем.
III
Будет теперь свидание у Тифлеева только через неделю. Будет свидание и ответ от Лельки.
И вся неделя, все дни бегут мимо, незаметные, прозрачные – и сквозь них, как месяц через облака, светит вторник и то, что придет с этим днем.
– Что там? Праздник и светлое солнце? Или страдание извивается и немеет?
Белов ходил из угла в угол и ни о чем не мог думать. Брал книгу и смотрел в нее – и слова были пустые, прозрачные, точно из стекла: одни буквы, бескровные, неживые, и нет в них образов.
Хорошо, что хоть Тифлеев постучал.
Постучал – радостно рассказывал: в первой галерее, под его соседом, справа сидит товарищ Фома, арестованный вместе с Беловым, шлет привет и говорит, что скоро повезут Белова на допрос – их уже всех возили.
Белов написал письмо Фоме – короткими и сильными словами, полными силы и бодрости. Перечитывал письмо – и было ему странно, что это писал он – тот же самый, что неделю назад жил серый и придавленный.
Наутро Тифлеев выстукивал письмо вниз медленно и старательно. И так же медленно стучал потом, что письмо получено и что будет ответ.
А потом стоял по целым часам у трубы и не ходил на прогулку, чтобы успеть к вечеру получить ответ от Фомы и передать Белову. И когда Белов нетерпеливо стучал и волновался, Тифлеев говорил ему нежные успокаивающие слова – точно мать.
Весь обвеянный теплым, мягко и ласково думал о нем Белов.
– Как странно. Он душил человека – такой нежный, ласковый…
Бежали мысли – и вдруг застывали на месте, и опять вырастал вторник стеной, молчаливой и загадочной. Что там – за стеной?
* * *
Весь вторник ждал. Притаившись, ползало за ним что-то невидимое и сторожило своею тенью каждую мысль. И вдруг пожирало все их, и наполняло собою все, и хватало за горло.
– А если ее уже нет, Лельки, если и она взята?
И долго, томительно звенело в воздухе.
До ночи ждал.
И только когда поздно ночью дрожащими руками вытянул из отверстия фортки и развернул – поверил, что есть письмо.
Письмо от Лельки.
Точно во сне. Точно во сне это. Через сотни замков, из темной дождливой ночи пришло оно, маленькое, и прижалось к лицу ласково и тысячи слов обещалось сказать – неслыханно-радостных.
– Спасибо, – кричит он Тифлееву.
Свечка вспыхнула – и умерло ожидание и его тени. Наполнилась ликованием тишина ночи и засмеялась.
«Сергей, дорогой. Бесконечно рада узнать, что вы живы, по крайней мере. Всего можно было ждать. Чего только мы о вас не передумали. Мне больно очень, что никак нельзя помочь вам. Если что нужно – напишите: большим удовольствием будет сделать что-нибудь для вас.
Эх, Сергей! Если бы вы знали, какие сейчас у меня мысли в голове… Мир хорош, жизнь хороша…
Помните ли вы наши разговоры? И то, что мы с вами говорили о любви. Ну, так вот…
До свидания, милый мой учитель диалектики.
Л.»
Засияли в полутьме и запели мысли. И каждое слово ее, как звезда, поднималось во мраке. Ласково мерцало вдали и манило, недоступное и загадочное. И родились от этих слов и голубыми лучами дрожали новые, светлые мысли. Дышали и жили в полумраке камеры и называли его любимым. Любимым!
Снова читал он эти слова, которые уже любил, – и они сливались в один аккорд, огромный, дивный, об одном все пели – как сливаются вместе и поют об одном потемневшее от страсти небо, и истомно замершая вода, и сияющий звуками соловей.
Снова читал – и вслушивался в полутени письма и неясный шепот.
…Мы с вами говорили о любви. Ну, так вот…
– «Ну, так вот». Что это? Что они хотят сказать – эти три маленьких слова?
Были они, как закрытые тонким, черным покрывалом: шевелилось под непрозрачным что-то живое и соблазнительное и шептало лукаво. Чудилось там – под покрывалом – горячее, ласкающее, захватывающее дыхание, и хотелось сорвать непрозрачное, черное – и нельзя было.
– А конец: милый мой учитель диалектики. Это она о длинных зимних вечерах, о горячих спорах… О, милая!
Тушил непослушные мысли – отворачивался нарочно от них, притворялся невидящим. И опять возвращался к ним медленно, понемногу, и опять ласкали его, все разгораясь…
А за окном плакала бесконечными слезами непогожая ночь, одинокая, покинутая.
Посмотрел туда в окно, на слепое небо, окунулся взглядом в холодную тьму – и неслышно, быстро ушло все куда-то.
Достала ночь своими длинными, холодными руками и щупает все, слепая, и радостно заливает огонь, загоревшийся в нем.
Хохочет злобно-холодный рассудок – холодный и злой, как ночь.
– Как мальчишка – влюбился. Целовал письмо. Глупо как, стыдно! Одичал в тюрьме. И главное, чему радовался? Ну, чему радовался? Откуда выдумал, что она любит?
Падает сомнение холодными каплями – хихикающее, торжествующее. Медленно, мучительно разгорается стыд.
– Теперь, когда честные умирают, думать об амурах с какой-то девчонкой… Мерзко, позорно?
– С какой-то девчонкой? Не смей так про Лельку, славную, хорошую. – Кричало и грозилось издали могучее, молодое, родившееся недавно чувство.
– Думать о какой-то девчонке!
Нарочно, назло повторил. Прошелся взад и вперед по камере, огляделся кругом: не было уже радостных, сияющих мыслей, растаяли призраки.
– Вот уже ничего и нет. Это хорошо. Рассудок сильнее в нем.
Подумал и опять оглянулся, и увидел истину – голую, костлявую – как смерть.
– И никакой любви нет…
Говорил и видел, как пусто, страшно и больно становилось кругом – кончилось все.
А потом изогнулся перед ним и смеялся над ним и над гордым рассудком мучительный и злобный, как дьявол, вопрос:
– Зачем сделал это? Зачем отогнал радостные, красивые призраки? Хотелось вернуться к старому? Увидеть старое – голую истину – смерти?
Вот она – смотри!
И что твой рассудок, гордый рассудок? Помог он тебе?
Этот вопрос смешал и перепутал все.
Прислушивался Белов к мыслям и всматривался в них и не видел дороги: метелью неслись они, разметанные в мелкие снежинки, и не могли остановиться, огромными туманными образами вставали и падали, звенели нежными, обманчивыми колокольчиками и плакали потом…
IV
В дни свиданий по вечерам тюрьма оживала. Где-то внизу, в нижних галереях, труба стучала глухим нутряным стуком, частым и дробным эхом говорили стены справа и слева, и у каждой был особый голос. А если приложить ухо к стене – было слышно, как спешили и стучали в стену где-то далеко внизу, и звуки были совсем слабые, точно выходили из глубины земли, чуть заметны были – как утонувшая в небе птица. Везде говорили и спешили поделиться жалкими обрывками жизни. Маленькие крошечные события раздувались и вырастали в огромные и наполняли пустоту их жизни. Из-за пустяков по целым часам горячились и спорили.
Тифлеев приходил со своего свидания поздно вечером и скорей стучал ждущему, взволнованному Белову: есть письмо. И потом в печальном свете сумерек рассказывал все новости свои и полученные от соседей, и все свои горести и радости.
А ночью Белов читал письмо и долго не мог заснуть, и думал потом целыми днями о письмах и о Лельке.
Получил он от нее еще два письма. Одно было длинное и старательно рассказывало обо всех партийных новостях. А другое было теплое и ласковое, и опять туманно и неясно говорила она о том сильном, что переживает. Настораживался весь и прислушивался к ее словам, и они обдавали теплым и волнующим. Обрывок одной фразы, короткой и странно-красивой и гордой – белой с черным – врезался в память: «…любить, а если нужно – мы сумеем и умереть». Ясно представлял себе, как она сказала бы это: взявшись за спинку стула и откинувшись назад, раскрывши глаза – точно смотрела прямо навстречу смерти.
А его письма были все такие же – притворно-насмешливые и притворно-ласковые, и в обманчивых тенях малодушно прятал он свое чувство.
И вся эта игра прыгающих и скользящих намеков, и ласковые и теплые лучи, которые прятались, казалось, за ее словами, и письма; в которых они говорили на языке, понятном только им двум, и вся эта любовь к ней издали – все блестело и зажигало мысли, дразнило, как сверкающие водою и жизнью миражи в пустыне. Хотелось схватить руками, видеть ближе, ощущать.
И когда однажды принесли передачу от Лельки – какие-то пакеты и коробки со съестным и целый сверток белья – мысли хлынули вдруг, горячие, непослушные, и затопили волю. Платки, полотенца, простыни – все было Лелькино, и ее тонкий, чуть слышный запах переливался в жилы и зажигал в них кровь.
Развернул простыню. Простыня была тонкая, красиво выглаженная. Увидел Лельку, такую же чистую и тонкую, и с таким же свежим, раздувающим ноздри запахом – раскинувшуюся на этой простыне, спящую. Сердце рванулось, и вмиг охватило всего и толкнуло желание – целовать это холодное полотно.
Одним порывом, в котором собралось все гордое, холодное, боящееся чувства, – Белов сдавил, задушил поднявшее голову желание. Лег спать измученный, с бьющимся сердцем и кипящей кровью.
* * *
Еще дрожало в нем что-то и сладко ныло в груди, когда он проснулся.
– Если бы правда!
Закрыл глаза и одним легким усилием построил опять всю странно-красивую и трепетную картину сна – точно он не растаял еще и был где-то тут, в воздухе – сдернуть только покрывало.
…Узенькие, длинные ступени – как у древних греческих храмов. Со всех сторон свет, ослепительный, бушующий – будто десятки солнц кругом.
Впереди идет она – Леля. Медленно, как богиня, идет она, ослепительно сверкая телом.
И что-то яркое, горячее и бушующее, как этот свет кругом – у него в груди. Весь во власти этого, и как слепой, как раб – идет за ней, за богиней, и целует следы ее ног. И этого – мало, хочется чего-нибудь еще более рабского, еще более унижающего.
– Это – любовь, – говорит он себе.
И они идут дальше – по белым и теплым ступеням. Все выше идут, и все ярче свет, у€же и круче ступени.
Голова кружится. Страшно ей, страшно ей, смотрит синими глазами, испуганными, как ребенок, тянется. Скорее к ней – взять ее на руки – маленькую, слабую…
Уже рядом он с ней. И у самой груди своей видит ее золотые волосы распущенные, и в золотых волнах – белое с розовым смеется – ее маленькая, нежная грудь, так странно-близко. Так хорошо…
А сзади крадется кто-то, темною тенью давит вниз непонятно, шепотом нечистым шамкает: стыдно.
Меркнет свет и радость. И с болью говорит Белов вслух чужим голосом: стыдно. И стоит неподвижно, глаза опущены. Стоит неподвижно.
Вдруг видит маленькие светлые капли – внизу на белых ступенях – шевелятся, блестят. Слезы ее – слезы!
С ненавистью к себе сжимает он зубы: ах, зачем это сделал, что-то жалкое и оскорбительное? И на коленях протягивает он руки, умоляя.
Сверху – она опускает руки и прижимает нежно его лицо к себе – прощая.
И он зажигается радостной силой и тысячью поцелуев приникает к ней.
И вот уже нет его: растворился в ее дыхании, в радостной ее близости. Десятки солнц пылают и кружатся бешено, и несут его куда-то. В пропасть, ослепительно-светлую.
И теперь Белов чувствовал, что желание, властное и могучее, как красота, чистое и свободное от стыда, как весенняя природа – охватило всего и мучило, требуя повиновения.
Хотелось мучительно, чтобы она взяла всего его, и сама – вся была его.
Хотелось видеть ее, Лельку, как во сне, с распущенными волосами. Хотелось любоваться каждым уголком ее прекрасного, нежного тела и медленно, благоговейно целовать его.