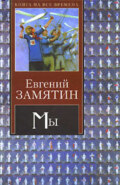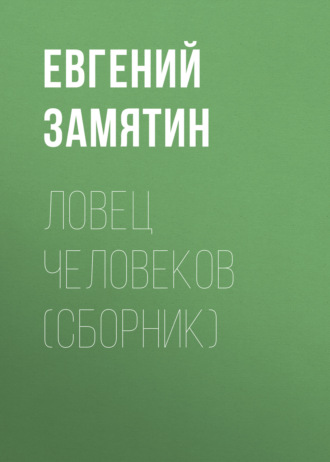
Евгений Замятин
Ловец человеков (сборник)
6. Лицо культурного человека
Как известно, человек культурный должен, по возможности, не иметь лица. То есть не то чтобы совсем не иметь, а так: будто лицо, а будто и не лицо – чтобы не бросалось в глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у хорошего портного. Нечего и говорить, что лицо культурного человека должно быть совершенно такое же, как и у других (культурных), и уж, конечно, не должно меняться ни в каких случаях жизни.
Естественно, что тем же условиям должны удовлетворять и дома, и деревья, и улицы, и небо, и все прочее в мире, чтобы иметь честь называться культурными и порядочными. Поэтому, когда прохладные, серые дни прошли, и вдруг наступило лето, и солнце стало возмутительно ярким – леди Кембл почувствовала себя шокированной.
– Это уж положительно что-то… Это Бог знает что! – Черви леди Кембл пошевеливались, высовывались, но необузданное, некультурное солнце все так же оскалялось во весь рот. Тогда леди Кембл делала единственное, что ей оставалось: спускала все жалюзи и водворяла в комнатах свет более умеренный и приличный.
Леди Кембл с сыном занимала теперь три комнаты: две спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Все было теперь слава Богу. Этот случай с автомобилем леди Кембл понимала как явное милосердие Божие. Нет, что там: порядочных людей Бог не оставит.
И вот – теперь все как полагается: и ковер, и камин, и над камином портрет покойного сэра Гарольда (тот же самый кембловский, квадратный подбородок), и столик красного дерева у окна, и на столике ваза для воскресных гвоздик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зеленые вазы, на правой – голубые. Леди Кембл жила на правой стороне, поэтому на столике у нее была голубая ваза.
По возможности леди Кембл старалась восстановить тот распорядок, который был при покойном сэре Гарольде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье. Купила за пять шиллингов маленький медный гонг, и так как хозяйка-старушка звонить в гонг не умела, то леди Кембл всегда звонила сама: снимет гонг со стены в столовой, выйдет в коридор, позвонит – и опять в столовую. Пусть даже завтракает одна – Кембл в конторе – все равно позвонит: главное – порядок.
К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старушка миссис Тэйлор, трясучая и древняя. И чтобы это выходило хоть мало-мальски прилично, леди Кембл стала старушку уговаривать: за обедом чтоб прислуживала в белых перчатках.
– И что это за причуды такие, Господи! Моешь руки – моешь, и все им мало… – Старушка обиделась и даже всплакнула, но за два лишних шиллинга в месяц – наконец согласилась.
Теперь было все в порядке – и леди Кембл позвала О'Келли обедать: пусть видит, что имеет дело не с кем-нибудь.
Было очень много хлопот. На столе стояли цветы и бутылки. Старушка Тэйлор выстирала свои белые перчатки. И только О'Келли…
Трудно поверить – но О'Келли явился на обед… в визитке. Весь обед был испорчен. Черви леди Кембл развертывались, шевелились.
– Я так рада, мистер О'Келли, что вы по-домашнему. Впрочем, смокинг – при вашем складе лица…
О'Келли засмеялся:
– О, о своей наружности – я высокого мнения: она – исключительно безобразна, но она – исключительна, а это все.
Коротенький, толстый – он запыхался от жары, вытирал лицо пестрым платком. Рыжие вихры растрепались, четыре его руки непрестанно мелькали, он капал на жилет соусом и болтал без останову. Да, в сущности, Уайльд тоже был некрасив, но он подчеркивал некрасивое – и все верили, что это красиво. И затем: подчеркнутая некрасивость – и подчеркнутая порочность – это должно дать гармонию. Красота – в гармонии, в стиле, пусть это будет гармония безобразного – или красивого, гармония порока – или добродетели…
Но тут О'Келли заметил: невидимая узда поддернула желтую голову леди Кембл, бледно-розовые черви зловеще шевелились и ползли. О'Келли запнулся – и бледно-розовые черви тоже остановились. Говорить в обществе об Уайльде! И если леди Кембл на этот раз пощадила О'Келли, то исключительно ради сына…
Старушка Тэйлор трясущимися руками в белых перчатках поставила ликер и кофе. Об этом ликере леди Кембл поразмыслила довольно. Но в конце концов решила отложить починку своих туфель на месяц. Без ликера было нельзя никак, так же, как без гонга или перчаток миссис Тэйлор.
Два раза леди Кембл подвигала О'Келли ликер – и два раза О'Келли подливал себе шотландского виски. Все это вместе – и пестрые вихры, и ликер, и мелькающие в воздухе руки О'Келли – раздражало миссис Кембл. Черви куснулись:
– Вы, однако, оригинал: первый раз вижу человека, который с кофе пьет виски.
«Оригинал» – для леди Кембл звучало так же, как «некультурный человек», но мистер О'Келли был, по-видимому, слишком толстокож. Он секунду весело молчал – он даже и молчал весело – и потом вслух подумал:
– Вот в этакую жару, должно быть, хорошо в одной шотландской юбочке щеголять!
К слову вспомнил и рассказал: с приятелем шотландцем они ходили по Парижу – и парижские мальчишки, в конце концов, не выдержали, улучили момент и подняли шотландцу юбочку – посмотреть, есть ли под ней что-нибудь вроде штанов, или…
Леди Кембл больше не могла – не могла. Разгневанно встала, пошла к двери и позвала с собой кипенно-белую кошку Милли:
– Милли, пойдемте отсюда… Милли, вам здесь нечего делать – зачем вы сюда – ваше молоко в коридоре…
Но испорченная Милли, по-видимому, была еще не прочь послушать рассказы О'Келли: она мяукала и упиралась. Леди Кембл нагнулась – выскочили ключицы, и лопатки, и еще какие-то кости – весь каркас разломанного зонтика. С Милли под мышкой леди Кембл проследовала в дверь.
Величественная и страшная в своем мумийном декольте, она появилась вновь только, когда О'Келли загромыхал в передней, разыскивая палку (которой не приносил). Вместе с О'Келли вышел и Кембл.
Небо было бледное, подобранное, вогнутое, какое бывает в сумерки после жарких дней. Кембл пожимался: не то от прохлады, не то от тех неминуемых разговоров – о порядочности и непорядочности, какие будут завтра с леди Кембл. Пожимался и все-таки шел вместе с О'Келли туда – в № 72. Главное, он был совершенно согласен с леди Кембл: в меблированных комнатах миссис Аунти – все было непорядочное, все было – не его, было шероховато и мешало, как мешал бы камень посреди асфальтовой Джесмондской улицы – и все-таки шел.
«Раз идет О'Келли… Надо же поддерживать с ним отношения…» – успокаивал себя Кембл.
В № 72, по обыкновению, горел камин. Диди сидела на ковре у огня: сушила, после мытья, кудрявые, по-мальчишечьи подстриженные волосы. На полу были разбросаны листки какого-то письма – и над ними улыбался мопс Джонни.
О'Келли чуть не наступил на листки – наклонился и поднял.
– Не трогайте! – со злостью закричала Диди. – Говорю вам – не трогайте! Не смейте трогать! – Брови сошлись над переносьем, исчезло мальчишечье лицо – было лицо женщины, опаленное темным огнем.
О'Келли сел на низенький пуф и затараторил:
– Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что леди Кембл нам внушала, что лицо порядочного человека должно быть неизменно, как… как вечность, как британская конституция… И кстати: слыхали ли вы, что в парламент вносится билль, чтобы у всех британцев носы были одинаковой длины? Что же, единственный диссонанс, который, конечно, следует уничтожить. И тогда – одинаковые, как… как пуговицы, как автомобили «Форд», как десять тысяч нумеров «Таймса». Грандиозно – по меньшей мере…
Диди – не улыбнулась. Все так же держала листочек в руке, и все так же крепко, как сплетенные пальцы – сдвинуты брови.
И не улыбался Кембл: что-то в нем накипало, накипало, било – и вот через край – и встал. Два шага к Диди – и спросил – тоном таким, какого не должно было быть:
– Что это за письмо такое? Отчего к нему уж и притронуться нельзя? Это – это… – говорил – и слушал себя с изумлением: не он – кто же?
И одну секунду слушала с изумлением Диди. Потом брови ее расцепились, она упала на ковер и захлебнулась смехом:
– О, Кембл, да, кажется, вы… Джонни, мопсик, ты знаешь – Кембл-то… Кембл-то…
7. Руль испорчен
Наконец-то оно кончилось – дело о разводе, и на Диди никто теперь не имел прав, исключая, конечно, фарфорового мопса Джонни.
Событие праздновали втроем: О'Келли, Диди и Кембл. Обедали в отдельном кабинете, пили, О'Келли влезал на стул и произносил тосты, махал множеством рук, пестрело и кружилось в голове. Домой как-то не хотелось: решили поехать на бокс.
Такси летел, как сумасшедший – или так казалось. На поворотах кренило, и несколько раз Кембл обжегся об колено Диди. Такси летел…
– А знаете, – вспомнил Кембл, – мне уж который раз снится, будто я в автомобиле, и руль испорчен. Через заборы, через что попало, и самое главное…
А что самое главное – рассказать не успел: входили уже в зал. Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять было Кемблу тесно и жарко, обжигался, и будто все еще летел такси.
«Не надо так много пить…»
– Послушайте, Кембл, вы о чем думаете? – кричал О'Келли. – Вы слышите: сержант Смис, чемпион Англии. Вы понимаете: Смис! Да смотрите же, вы!
Из двух противоположных углов четырехугольного помоста они выходили медленным шагом. Смис – высокий, с крошечной светловолосой головой: так, какое-то маленькое, ненужное украшение к огромным плечам. И Борн из Джесмонда – с выдвинутой вперед челюстью: вид закоренелого убийцы.
– Браво, Борн, браво, Джесмонд! Сержант Смис, браво!
Топали, свистели, клокотали все двадцать рядов скамей, шевелилась и переливалась двадцать раз окрутившаяся змея – и вдруг застыла и вытянула голову: судья на помосте снял цилиндр.
Судья, поглядывая из-под седого козырька бровей, объявлял условия:
– Леди и джентльмены! Двадцать кругов по три минуты и полминуты отдыха после каждого круга – согласно правилам маркиза Квинзбэри…
Судья позвонил. Смис и Борн медленно сходились. Борн был в черных купальных панталонах, Смис – в голубых. Улыбнулись, пожали друг другу руки: показать, что все, что будет – будет только забавой культурных и уважающих друг друга людей. И тотчас же черный Борн выпятил челюсть и закрутился около Смиса.
– Так его, Джесмонд! Вот это панч! – закричали сверху, когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиона Англии.
Двадцатиколечная змея обвивалась теснее, дышала чаще, и Кембл видел: шевелилась и вытягивалась вперед Диди – и он сам вытягивался, захваченный кольцами змеи.
Судья с козырьком бровей прозвонил перерыв. Черный и голубой – оба вытянулись на стульях, каждый в своем углу. Широко раскрыв рты – как выброшенные рыбы; спешили за полминуты наглотать побольше воздуху. Секунданты суетились, кропили им языки водой, махали полотенцами.
Полминуты, прошло. Снова схватились. Смис улучил секунду – и тяжелый кулак попал Борну в нос, снизу вверх. Борн спрятал лицо под мышку к Смису и закрутился вместе с ним – спасти лицо от ударов. Из носу у Борна шла кровь, окрашивала голубые панталоны Смиса, крутились и барахтались два голых тела. И все судорожней вытягивалась змея – впитать запах крови, кругом топали и ревели нечленораздельное.
– …Поцелуй его, Борн, в подмышку, очень вкусное местечко! – выкрикнул пронзительный мальчишеский голос.
Диди – раскрасневшаяся, взбудораженная – дергала за рукав Кембла. Кембл оторвался от помоста и посмотрел на нее – с ноздрями, еще жадно расширенными, и квадратным, свирепо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то маленькой показалась себе Диди… И… что хотела спросить? – забыла…
– Да смотрите же! – крикнул О'Келли.
Кончалось. Качался от ударов Борн, и медленно, медленно ноги его мякли, таяли, как воск – и он гулко рухнул.
Джесмонд был побит – Джесмонд вопил:
– Неверно! Он ударил, когда Борн уже падал…
– Долой Смиса! Неправильно, мы видели!
Смис стоял, закинув маленькую головку, и улыбался: ждал, пока затихнут.
– …И еще улыбается! Что за наглость такая! – Диди горела и дрожала. Повернулась к Кемблу, чем-то колюче-нежным ужалила его локоть. – Была бы я как вы – сейчас же бы вот его пошла и побила…
Кембл на секунду посмотрел ей в глаза – и сбесившийся автомобиль вырвался и понес.
– Хорошо. Я иду. – Он двинулся к трибуне.
Было это немыслимо, не должно было быть, Кембл сам не верил, но остановиться не мoг: руль был испорчен, гудело, несло через что попало и… страшно или хорошо?
– Послушайте, не на самом же деле… Кембл, вы спятили? Держите же, держите его, О'Келли!
Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни.
Судья объявил, что мистер Смис любезно согласился на пять кругов с мистером Кембл из Джесмонда. На помосте появилось громадное, белое тулово Кембла – и Джесмонд восторженно заревел.
Мистер Кембл из Джесмонда был выше и тяжелее Смиса, и все-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его была совершенно безумной. Все так же улыбаясь, Смис наносил ему удары в бока и в грудь – только ухало гулко где-то в куполе. Но стоял Кембл очень крепко, упористо расставив столбяные ноги и упрямо выдвинув подбородок.
– Послушайте, О'Келли, ведь он же его убьет, ведь это же ужасно… – не отрывала глаз и бледнела Диди, а О'Келли только молча улыбался знающей улыбкой.
На третьем круге, весь в красных пятнах и в крови, Кембл еще держался. В тишине чей-то восторженный голос сверху крикнул:
– Ну и морда – прямо чугунная!
В зале фыркнули. Диди негодующе оглянулась, но уже опять была тишина: начинался четвертый круг. На этом круге, в самом же начале, Кембл упал.
Диди вскочила, с широко раскрытыми глазами. Судья поглядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал секунды:
– Раз, два, три, четыре…
На последней секунде – на девятой – Кембл упрямо встал. Получил еще удар – и все поплыло, поплыло, и последнее, что увидел: бледное лицо Диди.
* * *
Смутно помнил Кембл: куда-то его везли, Диди плакала, О'Келли смеялся. Потом чем-то поили, заснул – и проснулся среди ночи. Светил месяц в окно, и ухмылялся в лицо Кемблу безобразный мопс Джонни.
Комната Диди. Ночью в комнате Диди… Бред? Потом медленно, сквозь туман, подумал:
«Правда, нельзя же было везти домой – таким…»
Язык был сухой, пить страшно хотелось.
– Диди! – робко позвал Кембл.
С диванчика поднялась фигура в черной пижаме:
– Ну, наконец-то вы! Кембл, милый, я так рада, я так боялась… Вы меня можете простить? – Диди села на кровать, взяла руку Кембла в свои горячие маленькие руки. Пахло левкоями.
Кембл закрыл глаза. Кембла не было – была только одна рука, которую держала Диди: в этой руке на нескольких квадратных дюймах собралось все, что было Кемблом, – и впитывало, впитывало, впитывало.
– Диди, я ведь пошел – потому что – потому что… – захватило горло вот тут – и тяжесть такая – не стронуть с места.
Диди нагнулась, серьезная, девочка-мать:
– Смешной! Я знаю же. Не надо говорить…
Ужалила Кембла двумя нежными остриями – быстро клюнула в губы – и уже все ушло, и только запах левкоя, как бывает в сухмень, – едкий и сладостный.
Всю ночь фарфоровый мопс сторожил Кембла усмешкой и мешал ему думать. Кембл мучительно морщил лоб, рылся в голове. Там, в квадратных коробочках, были разложены известные ему предметы, и в одной, заветной, вместе лежали: Бог, британская нация, адрес портного и будущая жена – миссис Кембл – похожая на портрет матери Кембла в молодости. Все это были именно предметы, непреложные, твердые. То, что было теперь, – ни в одну коробочку не входило: следовательно…
Но руль был явно испорчен: Кембла несло и несло, через «следовательно» и через что попало…
Утром Кембл проснулся – Диди уже не было, но ею пахло, и лежала на стуле черная пижама, Кембл с трудом поднялся, натянул вчерашний свой смокинг. Долго смотрел на пижаму и крепился, потом встал на колени, оглянулся на дверь и погрузил лицо в черный шелк – в левкои.
Диди пришла свежая, задорная, с мокрыми растрепанными кудрями.
– Диди, я думал всю ночь, – Кембл твердо расставил ноги, – Диди, вы должны быть моей женой.
– Вы так думаете? Должна? – затряслась Диди от смеха. – Ну, что ж, если должна… Только вы, ради Бога, лежите, доктор велел вас держать в постели… Ради Бога… Вот так…
8. Голубые и розовые
Бокс был в субботу, а в понедельник имя Кембла уже красовалось в «Джесмондской Звезде».
«НЕОБЫЧАЙНЫЙ СЛУЧАЙ
В БОКСИНГ-ХОЛЛЕ!»
Боксер-аристократ
Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели негра Джонса, впервые была украшена появлением боксера из высокоаристократической, хотя и обедневшей семьи…
Мистер Кембл (сын покойного Г.-Д. Кембла) с удивительной стойкостью выносил железные удары Смиса, пока наконец на четвертом круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. Мистер Кембл был вынесен в бессознательном состоянии. Среди друзей мистера Кембла выделялась туалетом звезда Эмпайра Д***.
В этот день в Джесмонде жизнь била ключом. О погоде почти не говорили – властителем умов был Кембл, говорили только о скандале с Кемблом. Останавливались около дома старушки Тэйлор и заглядывали в окна Кемблов, как бы ожидая некоего знамения, но знамения не появлялось. Тогда заходили к леди Кембл и с радостным видом выражали ей соболезнование.
– Ах, какой ужас, какой ужас! Но разве он так сильно пострадал, что нельзя было довезти к вам?
Черви миссис Кембл извивались.
– Бедная миссис Кембл. Вы даже лишены возможности навестить его! Ведь вы в тот дом не пойдете, не правда ли?
– А потом – та женщина! Дорогая миссис Кембл, мы понимаем…
Черви миссис Кембл вились и шипели на медленном огне. Голубые и розовые любовались; потом почему-то крутились около дома викария Дьюли – тонким нюхом чуяли что-то здесь; потом шли к тому дому и терпеливо смотрели в окно с опущенной занавеской, но занавеска не подымалась…
Впрочем, относительно дома викария Дьюли голубые и розовые ошибались: то, что там произошло, – были сущие пустяки. За утренним завтраком миссис Дьюли читала газету и нечаянно опрокинула чашку кофе – ведь это со всяким может случиться. Главное, что скатерть была постлана только в субботу, – и только в следующую субботу полагалась по расписанию новая. Немудрено, что викарий был в дурном расположении духа и писал комментарии к «Завету Спасения», а миссис сидела у окна и смотрела на красные трамваи. Затем она отправилась в тот дом, спросила о чем-то хозяйку и немедленно пошла назад – быть может, получивши ответ, что при мистере Кембле находится та женщина или что мистеру Кемблу значительно лучше. Но это, конечно, только предположения, – и единственно достоверно, что ровно в три четверти первого миссис Дьюли была дома и ровно в три четверти первого начался второй завтрак: ясно, все обстояло благополучно.
Все шло согласно расписанию, и вечером у викария состоялось обычное понедельничное собрание Корпорации Почетных Звонарей прихода Сент-Инох и редакции приходского журнала. Было несколько розовых и голубых; был неизменный Мак-Интош в сине-желто-зеленой юбочке; леди Кембл не пришла.
Все сидели как на иголках, у всех на языке был Кембл – Кембл. Но с викарием очень-то не поспоришь: перед ним лежало расписание вопросов, подлежащих обсуждению – семнадцать параграфов, – и уж нет, ни одного не пропустит.
– Господа, прошу внимания: теперь самый серьезный вопрос…
Это был вопрос о поднятии доходности «Журнала Прихода Сент-Инох». Викарий только что приобрел для журнала серию «Парижских приключений Арсена Лишена». Впоследствии – это, конечно, повысит тираж, но пока нужно возместить расход, нужны объявления, объявления и объявления.
– Мистер Мак-Интош, мы ждем вашей помощи!
Мистер Мак-Интош торговал дамским бельем, у него были прекрасные связи. Он быстро дал три адреса и старательно выискивал еще.
– Ба! – вспомнил он. – А резиновые изделия Скрибса?
Викарий поднял брови: здесь было одно серьезное обстоятельство.
– Мистер Мак-Интош, помните: мы ручаемся за качество рекомендуемого. «Журнал Прихода Сент-Инох» не может…
– О, за изделия Скрибса я ручаюсь… – горячо возразил Секретарь Корпорации Почетных Звонарей. – Я самолично…
Но викарий остановил его – легчайшим, порхающим движением руки, каким в проповедях изображал он восшествие праведной души к небу. Изделия Скрибса были приняты; викарий записывал соответствующие адреса…
Поздно, когда ее уже перестали ждать, пришла леди Кембл. Как и всегда, голова была подтянута вверх невидимой уздой, и только лицо – еще мумийней, и еще острее вылезали кости – каркас сломанного ветром зонтика…
Как божьи птицы-голуби, слетевшиеся на зерна, розовые и голубые закрутились около леди Кембл: ну что? ну как?
Черви лежали недвижные, вытянутые – и наконец с трудом дрогнули:
– Я только думаю: что сказал бы мой покойный муж, сэр Гарольд…
Она подняла глаза вверх – к обиталищу Бога и сэра Гарольда, из глаз выползли две разрешенные кодексом слезинки, немедля принятые на батистовый платок.
Две слезинки почтены были глубоким молчанием. В стороне от всех миссис Дьюли мяла и разглаживала голубоватый конверт. Молчали: что же тут придумаешь и чем поможешь?
И вдруг вынырнула футбольная голова Мак-Интоша: он был как всегда незаменим.
– Господа, это тяжело – но мы должны просить викария пожертвовать собой. Всякий, кто слышал вдохновенную проповедь викария на воскресной службе, поймет, что только каменные сердца могли бы… Господа, мы должны просить викария, чтобы он пошел в тот дом, и я уверен – мы уверены…
– Мы уверены! – подхватили розовые и голубые.
Прежде чем ответить, викарий сделал паузу и высморкался, что стояло у него в рубрике: искреннее волнение. Что же – он всегда готов на жертвы. Но уж если и это не поможет – тогда придется…
Миссис Дьюли мяла и разглаживала узкий конверт, озябло поводила плечами: вероятно, простудилась. В жаркую пору, знаете, это особенно легко.
Вокруг порхали, поклевывали розовые и голубые.