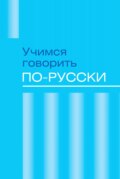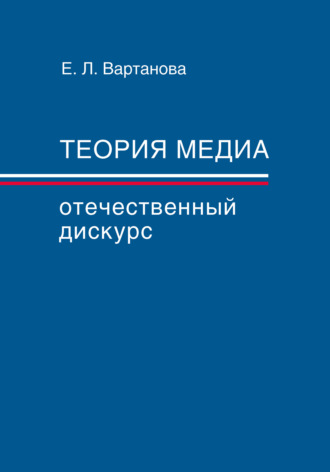
Елена Вартанова
Теория медиа. Отечественный дискурс
Представляется, что академический анализ процессов цифровизации медиа и их влияния на аудиторию становится актуальным для практической деятельности медиапредпринимателей, медиаменеджеров и журналистов, обеспечивающих функционирование медиакомпаний в меняющихся индустриальных условиях, для законодателей, формирующих новые регуляторные меры, и, конечно, для медиаисследователей. Можно утверждать, что академическое изучение темы цифровизации медиа – это ответ на самые актуальные процессы, и медиаисследователи, исходя из аналитической и прогностической функций науки, обращают на нее значительное внимание в «исследовательской повестке».
1.6. Факторы влияния на развитие медиаисследований
Формулируя концептуальные основы теории медиа, мы имеем все основания говорить о ее двойственном характере: с одной стороны, она имеет универсальный характер, не зависящий от конкретных условий страны, и, с другой – национальный, связанный с особенностями функционирования медиа в каждой конкретной стране. Следует подчеркнуть, что медиа, обладая рядом общих вненациональных характеристик, проявляют себя только в конкретных условиях конкретных обществ, национальных государств. Даже в условиях глобализации в национальных государствах сохраняются их ключевые институты, структуры и процессы, для них традиционные, профессии, им присущие, и здесь мы имеем в виду медиасистему, медиаиндустрию, медиарегулирование, медиаполитику, журналистику, по-прежнему сохраняющие национальную специфику. То есть актуальность национального контекста при создании теории все еще имеет значение.
Пример России в связи с этим неисключителен. Даже сужая понятие «медиа» до одной из тех ключевых концепций в ее теоретическом поле, которые приведены выше, можно увидеть, насколько влиятельными остаются национальные традиции. Российские медиаисследования, несмотря на их тесную связь с глобальным концептуальным аппаратом, существуют в рамках отечественных традиций, отличающихся (от глобальных исследовательских подходов):
• повышенным интересом к теории журналистики и журналистике как профессии, творчеству и социальному институту во всех ее проявлениях, что оставляет в тени многие другие поля исследований массовых коммуникаций и медиа, представленные в зарубежной теории (Свитич, 2000, 2012);
• сохранением роли традиционного – гуманитарно-филологического – подхода к постановке исследовательских проблем, исследовательскому инструментарию и методам их решения (От теории журналистики к теории медиа, 2019).
Как подчеркивает один из наиболее известных отечественных создателей теории журналистики С. Корконосенко: «Различия в теоретических взглядах есть результат различий в практическом опыте, который для теоретиков представляет собой объект внимания и предопределяет векторы научного интереса. Эксперты хорошо знают: исторически в целом российская журналистика неразрывно связана с литературой и соответственно она развивалась как литературоцентричная деятельность и с точки зрения формы, и с точки зрения профессиональной идеологии» (Korkonosenko, 2015: 331).
Есть и еще одно авторитетное мнение отечественного теоретика В. Тулупова: «Национальное своеобразие отечественной медиатеории связано с национальным своеобразием нашей журналистики, которая, с одной стороны, возникла как государственная подцензурная деятельность, а с другой стороны, получила развитие в эпоху “персонального журнализма” и “художественной публицистики”» (Тулупов, 2017: 132).
В условиях становления цифрового общества и активного развития отечественной системы цифровых медиа возрастает актуальность работы по формулированию теоретических понятий, концепций, адекватных запросам общества в целом, а также индустрии и рынка труда, поскольку все это напрямую отражается на образовании медиапрофессионалов (Современное журналистское образование, 2008). Можно предположить, что в России, как и в других странах, существуют свои движущие силы, заинтересованные в обновлении теории СМИ.
Во-первых, это образование и наука. Именно в университетах, в высшей школе в нашей стране работают те, кто традиционно занимается изучением журналистики, массовой коммуникации, медиа. Более того, исследования в этих областях никогда не имели чисто академического характера, а были встроены в подготовку журналистов и специалистов для медиаиндустрии, располагаясь на факультетах, отделениях и кафедрах журналистики (От теории журналистики к теории медиа, 2019).
Во-вторых, это отечественная медиаиндустрия, которая в последние годы развивается в новом экономическом пространстве, требующем глубокого понимания его специфики (см. далее 2.3). Испытывая потребность к новых кадрах, которые должны работать в условиях цифровых редакций, мультимедийных процессов, мультимедиатизации производства, многоплатформенности распространения, изменения бизнес-модели СМИ и фрагментации цифровых аудиторий, индустрия ждет от исследователей и объяснения специфики текущего момента, и прогноза развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу (Индустрия российских медиа, 2017: 59–61).
В-третьих, интерес аудитории к медиа, доступных сегодня абсолютному большинству россиян (Медиасистема России, 2015: 27), потребность в «понимании медиа» также становится важным общественным фактором, который влияет на развитие теории. Вопросы понимания аудиторией медиа и, как результат, той реальности, которую они освещают, отражают, даже формируют, той медиатизированной реальности, которую медиа репрезентуют, а также соотнесение этих реальностей, приобретает значимый общественный смысл.
При этом важно отметить, что отсутствие «общего» – терминологического и концептуального языка в общественных дискуссиях о медиа, занимающих довольно значительное место в социальной жизни, может рассматриваться как следствие актуализировавшихся сегодня противоречий между наукой, индустрией и образованием. Уточняя, можно сказать, что это противоречие между фундаментальной теорией, индустрией с ее реальной практикой, детерминированной коммерческими мотивами, технологическими вызовами производства, меняющимся регулированием и при этом опирающейся на свой блок прикладной, инструментальной эмпирики и аналитики, и высшим профессиональным образованием, легитимность которого необходимо подтверждать на каждом этапе технологического развития медиа (Vartanova, Lukina, 2014).
Такого рода противоречия, конечно, существует везде (во всех странах и профессиональных областях) и всегда (с момента становления промышленного производства и зарождения высшего образования). Непосредственной причиной идущих с 1990 гг. дискуссий о СМИ в российском обществе стал увеличивающийся разрыв теоретических представлений о медиа в академической и образовательной среде, с одной стороны, и реального функционирования медиа как индустрии, рынка труда, сферы профессиональной деятельности – с другой.
Однако эти же дискуссии свидетельствуют и о попытках консолидации усилий российских медиаисследователей по созданию общих подходов, формированию идентичности отечественных исследований медиа. Для достижения этой цели несколько лет назад была создана единая общероссийская дискуссионная площадка – НАММИ, Национальная ассоциация исследователей массмедиа.
Тем не менее необходимость объединения усилий ощутима и до настоящего времени, поскольку отечественные медиаисследования все еще лишены внутреннего сущностного единства и общей идентичности (Дунас, 2016). Это, конечно, напрямую связано с непростым историческим путем их трансформации. Если в 1990 гг. естественным был процесс практически тотального отказа от советских научных парадигм, достаточно механистической замены их на самые популярные зарубежные парадигмы, а в 2000 гг. стал вопрос об адаптации и принятии зарубежного опыта, то сегодня очевидна потребность в своего рода «отстройке» от заимствований и более четком формулировании основ актуальной отечественной теории медиа (От теории журналистики к теории медиа, 2019: 16–36).
Конечно, будет ошибочным отбросить богатейший опыт 19902000 гг., когда российскую медиатеорию заполонили не использовавшиеся и даже неизвестные прежде в России зарубежные медиатермины и медиаконцепции, но все же сегодня требуется взвешенное, критическое и одновременно инновационное отношение к актуализации, обновлению и дальнейшему развитию теории медиа с ее значительным пластом заимствований.
Для этого у российских медиаисследователей есть все основания. Проводя аналогию с известной концепцией общественного телевидения Голландии, которая предполагает опору на четыре «колонны», представляющие основные группы и культуры нидерландского общества (Гладкова, 2015), можно предложить выстроить идентичность российских исследований медиа с опорой тоже на четыре, но уже свои «колонны».
Первая «колонна» – это исследования московских ученых. Москва, федеральный центр и столица, исторически аккумулировала интеллектуальные ресурсы с XVIII в. С момента создания Московского университета в 1755 г. возникли условия для становления отечественной фундаментальной науки. Роль М. Ломоносова, основателя Московского университета и выдающегося российского ученого-энциклопедиста, заложившего основы российского гуманитарного знания и теоретического фундамента журналистской и редакторской этики, следует подчеркнуть особо (Ломоносов, 2011). В своей блестящей и сохраняющей злободневность статье «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии», он не только выступил против свободы злоупотребления информацией, которое препятствует поиску истины, но и сформулировал семь ключевых принципов журналистской этики, своего рода семь правил поведения журналистов в их отношениях с аудиторией и обществом (Ломоносов, 1986: 217–227).
Московская школа исследований СМИ – конечно, самая известная в России и даже за рубежом. Это исторически связано с лидерством факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова в международной академической среде и в общероссийском образовательном процессе, поскольку формирование образовательных стандартов для специальностей медиарынка предполагало значительную опору на актуальные теоретические исследования. Сегодня московская школа исследований СМИ значительно расширилась за счет возникновения новых центров журналистского и медиаобразования, что только придало ей особую весомость.
Вторая «колонна» – это ученые России, представляющие региональные научные школы исследования СМИ. Они, безусловно, крайне важны с точки зрения оригинального подхода к социокультурным особенностям журналистики, региональных рынков. Уникальное место в российском пространстве медиаисследований занимает санкт-петербургская школа, выросшая из академической среды факультета журналистики Ленинградского государственного университета. В силу фундаментальной теоретической нормативности, а также российской актуализации новейших теоретических концепций цифровых медиакоммуникаций она, несомненно, сохранила свое общенациональное значение (Корконосенко, 2010). Обращение к работам наших коллег, представляющих многочисленные школы медиаисследований отечественного научного пространства, необходимо и для понимания разнообразия и оригинальности подходов, и для выявления «общего знаменателя» в российских исследованиях медиа (Чернов, 2013).
Третья «колонна» – это активно растущий сегодня медиабизнес, индустрия, рынок труда. Академическая среда не может производить новое знание, не опираясь на эмпирические данные, индустриальную реальность, существующие в редакциях, профессиональных и корпоративных журналистских сообществах. Фундаментальная наука не способна концептуализировать и теоретизировать реальность без опоры на богатейшие массивы эмпирических знаний, созданные индустриальными аналитиками, корпоративными исследовательскими структурами, социологическими службами, медиаизмерителями. А ведь они уже находят отражение в отчетах, докладах, сборниках статей и коллективных монографиях.
Достаточно упомянуть в связи с этим индустриальные доклады о состоянии периодической печати, телевидения, радио, Интернета, издательской индустрии, которые выходят при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Телевидение в России в 2018 году, 2019; Радиовещание в России в 2018 году, 2019; Российская периодическая печать в 2018 году, 2019; Книжный рынок России в 2018 году, 2019; Телевидение в России в 2015 году, 2016; Интернет в России в 2018 году, 2019 и др.). Или серию «Российский рекламный ежегодник», выпускаемую АКАР, а также серию «Теория и практика медиарекламных исследований» АЦВИ (2011, 2012). Не всегда такого рода издания создаются в процессе сугубо теоретического исследования, однако высококачественная аналитика медиаиндустрии, которую они представляют, создает прекрасную основу для дальнейшей теоретической работы.
И наконец, четвертая «колонна» – это зарубежные исследования СМИ и журналистики. Долгое время (в советский период) отечественные исследования СМИ противопоставляли себя зарубежным. После 1991 г. наступил период активного их использования на основе полного приятия концепций и методик. Именно благодаря этому процессу отечественные медиаисследования смогли обогатиться работами, написанными нашими зарубежными коллегами, а наша академическая школа приобрела известность в глобальном академическом пространстве (Thussu, 2009).
2010 гг. поставили в фокус внимания два новых явления. Во-первых, в условиях научной и культурной глобализации стало понятно, что национальная специфика присутствует практически во всех национальных медиаконтекстах, и потому потребность даже не в адаптации, а в национальном переосмыслении глобальных теоретических концепций требуется везде. Во-вторых, в самой зарубежной медиатеории наступил период заметных изменений, обновления, поиска адекватных научных ответов на цифровые трансформации медиа (Fenton, 2009). Следовательно, и перед российскими исследователями встает необходимость включиться вместе с зарубежными коллегами в глобальный процесс критического переосмысления научного тезауруса, концепций и теорий медиа.
На эти «четыре колонны», на наш взгляд, и должна опираться сегодня отечественная медиатеория, находящаяся на очень непростом, но очень интересном этапе «ферментации», по выражению финского ученого К. Норденстренга (Nordenstreng, 2004), или «поиска идентичности», по выражению российского исследователя Д. Дунаса (2016).
Расширяя дискуссию о природе и принципах деятельности медиа, ее стоит выносить за границы академического сообщества и вместе с общественностью обсуждать концептуально-терминологический аппарат медиа – того социального института, понимание которого важно сегодня российскому обществу в целом. И сегодня же пора начинать совместную работу с профессионалами медиаиндустрии, государственными институтами и регуляторами, образовательной средой по уточнению терминов, концепций и особенностей функционирования отечественных СМИ.
Заключая, следует подчеркнуть: теория медиа в разных исследовательских контекстах и школах характеризуется наличием единых сущностных и структурных компонентов, но все же, учитывая национальную специфику медиа, различается по «весу» и «значению» концепций, терминов, индикаторов. И даже если мы договоримся о каком-либо общем определении медиа, то это будет, скорее всего, фундаментальное описание, в то время как операциональное определение будет встроено в эмпирический контекст, что свяжет его с практиками конкретных стран или глобальной среды.
Отечественное академическое сообщество сегодня стремится к своевременному осмыслению меняющихся тенденций во всех сферах общественной жизни, определяемых медиа. Особую сложность теоретическому познанию придает переход медиа в цифровое пространство, влияющий на их социальную природу, динамику индустриального развития, трансформацию их институционального статуса, изменение законодательного и этического регулирования. Стремление к конвенциональному пониманию смыслового наполнения термина «медиа» должно заполнить теоретические пробелы в научном знании, что приведет к актуализации образовательных программ по подготовке медиаспециалистов, разграничить регулирование журналистики, массовой коммуникации, медиа и технологических платформ на законодательном уровне. А также способствовать созданию оптимальных условий функционирования медиасистемы и ее ключевого компонента – медиаиндустрии – в современных условиях. В перспективе это также поможет преодолевать барьер между практиками и теоретиками, обучающими будущих журналистов, редакторов, других специалистов и управленцев медиабизнеса.
Глава 2
Отечественные медиа как подсистема общества
2.1. Теоретическая актуальность концепции «медиасистема»
2.2. Рамки академического анализа отечественной медиасистемы
2.3. Медиаиндустрия в контексте медиасистемы: теоретические подходы
2.4. Медиаполитика и медиарегулирование в академическом дискурсе
2.5. Понятие обратной связи в концептуализации актуального взаимодействия аудитории и медиа
2.6. Понимание журналистики в теории медиа
2.7. Концептуальные основы медиаобразования
2.1. Теоретическая актуальность концепции «медиасистема»
Как мы отмечали выше, медиа существуют в обществе в виде самостоятельного института, структур и процессов, выполняющих коммуникативные, экономические, политические, культурные задачи и во взаимодействии с социальными институтами как национального, так и глобального пространства. Если медиаисследования как область научного знания претендуют на фундаментальность, им необходимы эмпирически найденные общие свойства явлений, принципы, а не гипотетические положения (Степин, 2006). Для проведения эмпирических исследований следует находить четкие критерии анализа, под которыми понимаются определенные объектно-предметные поля, их количественные и качественные характеристики. В социологических исследованиях типичными единицами анализа являются отдельные лица, группы, общественные организации и социальные факторы, в психологии – структурные или функциональные образования, выступающие в качестве минимальных, в лингвистике – условно выделяемые части текста любой длины.
Предполагаем, что в объектно-предметном поле медиа понятие «медиасистема» может стать вполне адекватной единицей анализа. Прежде всего потому, что оно опирается на одинаковые, конкретные и широко признанные показатели, которые существуют и проявляются в конкретных национальных контекстах своеобразно и различно. В числе таких показателей – состояние политической жизни, уровень развития экономики и культуры, позиция на мировой арене, доминирующие идеологии, стиль и образ жизни населения и многое другое (Вартанова, 2003).
Концепция национальной медиасистемы, анализируемая и в рамках национального государства, и в контексте глобальных медиа, сохраняет свое влияние как один из ключевых теоретических конструктов, с которым работают медиаисследователи всего мира (Hallin, Mancini, 2004, 2012; Hardy, 2008, 2012; Dobek-Ostrowska, Glowacki, Jakubowicz, Sukosd (eds.), 2010). Рассмотренные выше теоретические дискуссии о природе и детерминантах моделей медиасистем, их однородности и/или гибридности стали теоретическим вызовом для многих исследователей.
Формулируя определение термина «медиа» (см. 1.4), мы обратили внимание на то, что концепцией, помогающей перевести абстрактное понятие «медиа» в реалии национальных условий и глобальной среды, в медиаисследованиях второй половины XX в. стала «медиасистема» (Медиасистемы стран БРИКС, 2018). Именно она долгое время выступала важным и широко распространенным инструментом в процессе операционализации концепции медиа (Hallin, Mancini, 2004; Hardy, 2008). Дискуссия о трансформациях, природе, детерминантах, границах медиасистем и даже о самом смысловом наполнении термина «медиасистема» идет в академическом сообществе со второй половины XX в. до настоящего момента, причем время от времени – с появлением новых исследований или научных публикаций – она активизируется.
Академическая школа изучения национальных медиасистем сегодня стала одной из наиболее известных и значимых, а широко используемое понятие «медиасистема» – одним их наиболее распространенных терминов – правда, до сих пор без четкого единого определения – этой сравнительно молодой научной области гуманитарных наук. В рамках устоявшегося подхода медиасистема – это комплекс, система медиаинститутов и медиапрактик, которые, взаимодействуя друг с другом, формируют друг друга в контексте исторического развития современных структур медиа на национальном уровне (Hardy, 2012; Hallin, 2015). В таком традиционном понимании медиасистема, обладающая собственными внутренними связями и динамикой, часто рассматривается как статичный социальный конструкт, существующий как отдельное общественное пространство. В отечественных исследованиях термин «медиасистема» обобщает реальную практику национальной медиасреды, также являясь теоретическим конструктором, потому что медиасистему – и как определенные институты, и как их динамическое взаимодействие – в конкретной стране описать, оценить довольно сложно (Шкондин, 2015).
Формулируя понятие медиасистемы, следует рассматривать ее как взаимосвязанный комплекс медиаканалов, медиаконтента, медиатехнологий, адресованных аудитории, действующих в рамках национального и международного законодательства, в контексте геополитического и экономического положения страны, ее этнокультурных условий и исторических традиций, а также особенностей идентичности аудитории. При этом медиасистема характеризуется как внутренней, так и внешней динамикой, вызываемой социальным и технологическим развитием, трансформацией медиаструктур и аудитории. Очевидно, что при анализе медиасистемы, рассматриваемой в ее включенности в глобальный контекст, обязательно, и, возможно, даже прежде всего, надо учитывать национальные условия (Медиасистемы стран БРИКС, 2018).
Школа исследований медиасистем начала складываться в середине 1950 гг. после публикации одной из самых известных работ в области медиаисследований – книги «Четыре теории прессы» Ф. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона (первое англоязычное издание вышло в 1956 г.) (Sibert, Shramm, Petersen, 1956). Несмотря на то что в последние годы интерес к работе уменьшается, можно утверждать, что ее влияние на развитие медиаисследований весьма значительно. Эта коллективная монография стала одной из самых публикуемых и переводимых книг в области изучения медиа и по-прежнему занимает одно из первых мест по количеству цитирований. С момента выхода в свет книга была переведена на множество языков, на русском она была издана в 1998 г., хотя достаточно подробное ее изложение можно было найти в коллективной монографии «Буржуазные теории журналистики. Критический анализ» (1980). Согласно данным Google Scholar, у этой книги на английском языке более четырех тысяч цитирований, на русском языке практически шестьсот (см. рис.).

Рисунок. Цитируемость книги Ф. Сиберта, У. Шрамма, Т. Питерсона «Четыре теории прессы» («Four Theories of the Press») (на рус. и англ. яз.)
На протяжении второй половины XX в., после выхода книги, можно обнаружить несколько пиков дискуссии о природе, детерминантах, индикаторах и границах медиасистем, вызванных публикацией работ, так или иначе перекликающихся с «Четырьмя теориями прессы». В рамках школы исследований медиасистем были созданы практически обязательные к чтению работы известных авторов, анализирующие и сравнивающие медиасистемы (отдельных стран, регионов или групп стран, медиасистемы на глобальном уровне) и создающие их типологию. Это монографии Э. Хермана и Н. Хомского «Производство согласия. Политическая экономия массмедиа» (Herman, Chomsky, 1988), «Последние права. Пересматривая четыре теории прессы» (коллективная работы исследователей университета Иллинойса под ред. Д. Нероуна) (Nerone (ed.), 1995), работы Д. Халлина и П. Манчини «Сравнивая медиасистемы. Три модели СМИ и политики» (Hallin, Mancini, 2004) и «Сравнивая медиасистемы за границами Западного мира» (Hallin, Mancini, 2012), а также книга Д. Харди «Западные медиасистемы» (Hardy, 2012), работы «Девестернизируя медиаисследования» (Curran, Park (eds.), 2000) и «Изучение СМИ стран БРИКС» (Nordenstreng, Thussu (eds.), 2015). Рассмотрим важнейшие положения наиболее влиятельных работ этой школы.
В монографии Ф. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона «Четыре теории прессы» была предпринята первая попытка систематизировать медиасистемы разных стран, c опорой на понятие «теория прессы», заложенное в их основание. «Подлинное отношение социальных систем к прессе можно понять, если взглянуть на базисные представления и воззрения, которые это общество разделяет относительно природы человека, природы общества и государства, отношения человека к государству и природы знания и истины», – отмечали авторы (Сиберт, Шрам, Питерсон, 1998: 16).
Представляется, однако, что в книге речь, по сути, идет не о четырех теориях прессы, а всего лишь о двух – либертарианской, связанной со странами рыночной экономики и англосаксонской моделью демократии, капиталистической, и авторитарной, выросшей из модели позднефеодального и раннебуржуазного общества с монархическим типом правления. Именно на основе их исторических трансформаций и были выявлены две последующие и, на наш взгляд, менее самостоятельные теории – социальной ответственности, основанной на принципах либертарианской теории, но предполагающей определенный общественный контроль за прессой, и советская тоталитарная, использующая принципы авторитарного контроля СМИ. Последняя модель впоследствии была распространена и на медиасистемы всех социалистических стран. Показательно, что учебный план дисциплины У. Шрамма по теориям коммуникаций, преподававшейся им в Университете штата Иллинойс, предполагал выделение трех типов систем прессы: тоталитарной, социалистической патерналистской и системы демократического свободного предпринимательства.
Концепция «теория прессы» для авторов представляла собой модель, схему медиасистемы, определявшуюся на основе четырех основных черт, – представления о природе человека, природе общества и государства, об отношении индивида к государству и природе знания и истины (Там же). В результате теория прессы давала читателям представление о своего рода связанности прессы, понимавшейся исследователями не только как периодическая печать, но как СМИ в целом, и общественного устройства.
Концептуально с работой Ф. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона перекликается и другая, не менее известная – книга Э. Хермана и Н. Хомского «Производство согласия. Политическая экономия масс-медиа» (Herman, Chomsky, 1988), которая критически анализировала СМИ США не столько как самостоятельную систему, сколько как подсистему более масштабной социальной политико-экономической структуры, объединяющей американскую капиталистическую экономику и военно-промышленный комплекс. Предложенная авторами «модель пропаганды» фактически связала воедино несколько уровней функционирования СМИ – собственность в медиабизнесе и ориентацию медиакомпаний на прибыль; влияние рекламодателей как форму легитимации медиабизнеса; доступность источников информации; враждебную критику; антикоммунизм – но фактически антиидеологию (в последних изданиях этот уровень был обозначен как борьба с терроризмом).
Очевидно, что, анализируя системную организацию основных фильтров производства содержания, Э. Херман и Н. Хомский говорили об определенном, внутренне скрепленном институте, в рамках которого работают журналисты и другие создатели медиаконтента. Авторы основывают свое представление о связанности СМИ, опираясь на концепцию Д. Смайта о медиаиндустрии как о сдвоенном рынке товаров и услуг (Smythe, 1977). В результате «модель пропаганды» можно считать единым подходом, который рассматривает «пять фильтров» как целое. Показательно, что в момент написания книги последним фильтром был признан антикоммунизм, но при недавнем переиздании почти сразу ставшей классикой книги авторы предложили считать его антиидеологией. Что, в сущности, понятно, поскольку авторы имели в виду системное и массовое формирование у аудитории страха против «других» – не входящих в массовое сознание социума взглядов, ценностей, идеологий.
Работа Н. Хомского и Э. Хермана, конечно, не вступала в прямую полемику с книгой Ф. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона, хотя идейно она стала своего рода ответом на нее, предложив описание медиасистемы США на совсем других основаниях, чем это было сделано в «Четырех теориях прессы». Отметим, что последняя, вызвав столь заметный интерес в университетских кругах, все же не избежала прямой критики. В 1995 г. под редакцией Джона Нероуна вышла коллективная монография исследователей Университета штата Иллинойс «Последние права. Пересматривая четыре теории прессы», которая возражала авторам «Четырех теорий прессы» по шести основным тезисам. Для дискуссии о медиасистемах они оказались довольно ценными, хотя, с нашей точки зрения, важнейший из них – третий: «Ошибочно считать, что медиасистема как таковая может быть описана только одной теорией» (Nerone (ed.), 1995). Авторы «Последних прав» подчеркивали, что все четыре теории представляют собой очевидные упрощения, по сути, детально исследуется в книге только одна теория – либертарианская/ социальной ответственности, а все остальное – лишь описание конкретных практик. Претензии авторов этой критической монографии к Ф. Сиберту, У. Шрамму и Т. Питерсону также содержали упреки в неаналитичной либеральной риторике, которая не позволила им глубже рассмотреть сложные процессы внутри медиасистем. Словом, для авторов книги «Последние права» было очевидно, что медиасистема как весьма сложное экономическое и социальное образование, объединяющее и осмысливающее множество компонентов, индикаторов, факторов и процессов, заслуживает более глубокого анализа.
После выхода в 2004 г. монографии Д. Халлина и П. Манчини «Сравнивая медиасистемы. Три модели СМИ и политики» споры о моделях медиасистем, начиная с самого понятия «медиасистема», разгорелись с новой остротой. Четыре переменных, формирующих, по мнению авторов, медиасистему во всех странах, – это развитие медиарынков, основанных прежде всего на массовой прессе, политический параллелизм в СМИ, отношения государства и массмедиа и уровень журналистского профессионализма (Hallin, Mancini, 2004: 21). Естественно, что и эта работа, основанная на достаточно обширном и глубоком анализе тенденций и фактов многих национальных контекстов, не избежала резкой критики. Поставив вопрос о детерминантах моделей медиасистем, Д. Халлин и П. Манчини заставили академическое сообщество обсуждать и универсальность предложенных ими моделей, и их распространенность, и сам факт наличия/сохранения в современных условиях национальной медиасистемы как некоего единства. И даже то, что в заключении монографии выдвигается оезис о процессе гибридизации медиасистем, оолько подтверждает важность понимания последних. К слову, тенденция гибридизации медиасисоем, которую достаточно подробно описывает К. Фольомер на примере пососоциалисоитеской динамики СМИ в странах Восточной Европы, подтвердила актуальность рассмотрения массмедиа в единстве их структур, функционирования и взаимосвязи с обществом (Voltmer, 2008).