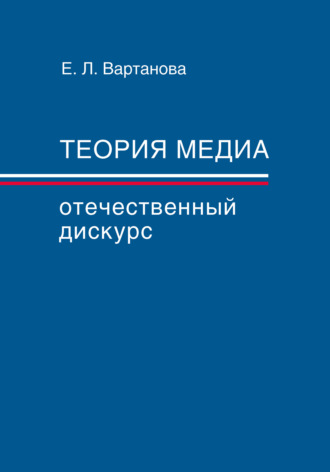
Елена Вартанова
Теория медиа. Отечественный дискурс
Следует, конечно, подчеркнуть и многоаспектность понятия «медиа», в котором необходимо выделить в качестве составных элементов:
• институты, действующие лица, процессы (технологического) опосредования информации/текстов разной природы и масштаба;
• технологии передачи, каналы и систему дистрибуции, контент, аудиторию, технологические платформы.
В силу широты явления и отсутствия согласованного определения термина «медиа» для исследователей оказывается крайне важным найти эмпирические подтверждения его теоретического смысла, трансформировать весьма абстрактное понятие «медиа» в конкретные индикаторы, явления, модели. Интуитивно понятный, термин все еще определяется и как совокупность средств коммуникации, и как пространство, и как среда, и как система (Манович, 2017; Бузин, 2012; Жилавская, 2011). В стремлении сузить и сделать более четким предмет исследования, как отмечает Н. Кириллова (2011: 8), исследователи, представляющие различные школы и направления, используют термин «медиа» в качестве составной части для более конкретного объектно-предметного поля, выделяемого по самым разным основаниям: медиареальность, медиаполитика, медиаэкономика, медиамаркетинг, медиаменеджмент, медиакультура, медиаобразование (Вартанова, 2003; Рашкофф, 2003; Кириллова, 2006; Винтерхофф-Шпурк, 2007; Гуревич, Иваницкий, Назаров, Щепилова, 2007; Фатеева, 2007; Дзялошинский, 2015; Кириллова, 2015; Вырковский, 2016; Ульбашев, 2017). Особое место сегодня занимают работы, концептуализирующие понятие медиакоммуникации как новую технологическую среду, в которой существуют старые и новые медиа, контент, смыслы (Луман, 2005; Watson, 2016).
Таким образом, несмотря на некоторую смысловую разницу в обозначаемых предметных полях, а именно «средства массовой информации», «массмедиа», «массовая коммуникация», «медиа», представляется возможным проследить тесную сопряженность этих терминов (Медиасистема России, 2015: 6–7). И хотя разница объектов изучения очевидна, их сущностные ядра во многом пересекаются, и, на наш взгляд, это подразумевает, что отечественные и зарубежные медиаисследования объединяют общие теоретические подходы как к упомянутым предметным областям, так и к объектному полю в целом.
При этом очевидно, что существуют очевидные силы национального влияния – экономическое и геополитическое положение страны, язык аудитории, законодательство, система распространения, зависящая от уровня технологического развития, политические и культурные традиции, что заставляет нас уходить от универсализации медиа. Таким образом, при формулировании национальной теории медиа значимыми критериями будут географический, геополитический, демографический, культурно-этнический, экономический, технологический, культурно-институциональный и законодательный. Более того, мы полагаем, что возможно посчитать количественные соотношения этих критериев в разных медиасистемах, которые потом можно трансформировать в теоретические концепции, во взаимосвязь общей теории медиа и их национальной модели. Даже исторические пути изучения журналистики, массовых коммуникаций, медиа в разных странах – и с точки зрения цели исследования, и с точки зрения методологии, и с точки зрения объектно-предметного поля – в разных странах различны. Это отмечат и С. Вайсборд в своей монографии, анализирующей постдисциплинарность коммуникационных наук и их растущую фрагментированность и специализированность: «[Научная. – Е.В.] область коммуникации развивалась различно в течение веков и на пространстве разных стран. Она была встроена в различные интеллектуальные траектории и исторические контексты социальных и гуманитарных наук. Эта область на Западе отличается не только теоретическим и методологическим плюрализмом; она также состоит из разных аналитических областей изучения – массовой коммуникации, медиаиндустрии, медиапрофессии, межличностной и медиатизированной коммуникации, исследования информации и культуры, семиотики. Изучение коммуникаций в остальных регионах мира выросло из совершенно разных политических, экономических, социокультурных и академических обстоятельств. Сегодня, несмотря на академическую глобализацию, очень важно иметь это в виду» (Waisbord, 2019: 7).
Конечно, не следует исключать неких общих, основанных на единых сущностных компонентах элементов общей теории медиа. Однако у этих компонентов будет разный вес в разных национальных контекстах. Например, принцип свободы слова – общий универсальный структурный компонент теории медиа, однако его вес и даже смысл в различных политических контекстах будет различаться.
Опираясь на основные положения теоретической дискуссии о медиа, можно заключить, что несмотря на крайне широкое содержание и несфокусированность термина «медиа», он понимается и как совокупность средств и содержания технологически опосредованной коммуникации, и как социальное пространство, создаваемое в процессе и результате этой коммуникации, и как технологическая среда, в которой присутствуют содержание, сервисы и пользователи (потребители), и как социальная и индустриально-технологическая система, находящаяся под воздействием различных типов регулирования.
Однако и эти понятия также нуждаются в конкретизации, выборе рамок эмпирического анализа, критериев и индикаторов, поэтому, с точки зрения понимания эмпирического наполнения медиа, они также остаются довольно расплывчатыми.
1.5. Теоретические аспекты взаимодействия медиатехнологий и общества
На новом этапе развития технологических основ общества, вследствие цифровизации различных сторон общественной жизни, по мнению многих ученых, серьезно меняются принципы промышленного производства, общественной и индивидуальной коммуникации (Уэбстер, 2004; Шваб, 2017; Кастельс, 2016). У исследователей медиа – вне зависимости от их национальной принадлежности и приверженности каким-либо научным школам – появляется возможность исследовать одни и те же, актуальные и значимые для всех научные проблемы, используя различные теоретические подходы и академические традиции (Waisbord, 2019; Fuchs, 2019).
Стремительное развитие Интернета и цифровых медиа актуализировало необходимость формулирования теоретических вопросов для дальнейшего изучения новых явлений и процессов в медиасистемах всех стран (Graham, 1999) – и потому, что последствия многих процессов в национальных контекстах одинаковы, и потому, что сходные процессы приводят к совершенно противоположным результатам в разных государствах (Trappel (ed.), 2019). Достаточно, к примеру, вспомнить, что появление и прогресс Интернета в разных странах мира не только происходили в различных формах и с различной скоростью, определявшихся уровнем их экономического и технологического развития (Национальные модели, 2004), но и сформировали различные исследовательские школы, приоритеты и направления академического анализа. Они варьировались от междисциплинарного понятия «информационного общества» как нового уровня социального развития стран «богатого Севера» – ЕС, США (Уэбстер, 2004; Castells, Himanen, 2001; Servaes, Carpentier (eds.), 2006) до концепции цифрового неравенства, ставшей особенно популярной в странах «бедного Юга» – Латинской Америки, Азии, Африки, Восточной Европы (Ragnedda, Muschert (eds.), 2013).
Оба исследовательских приоритета вошли в отечественный академический медиадискурс уже с 1990 гг. Причем если концепция информационного общества привлекла как общетеоретический (Мелюхин, 1999), так и национально детерминированный интерес (Вартанова, 1999; Национальные модели, 2004), то вопросы цифрового неравенства сконцентрировались преимущественно в российской исследовательской среде. Изучение этой проблемы приобрело подлинно междисциплинарный характер, объединив подходы социологов, экономистов, политологов и медиаисследователей – как российских, так и зарубежных (Делицын, 2006; Быков, Халл, 2011; Бродовская, Шумилова, 2013; Deviatko, 2013; Кузнецов, Маркова, 2014; Асочаков, 2015; Жеребин, Махрова, 2015; Волченко, 2016; Смирнова, 2017).
В последнее десятилетие в отечественной исследовательской среде определяются новые концептуальные подходы к вопросам доступа к цифровой информации, к цифровому неравенству, к пониманию новых моделей потребления медиа, зависящих от цифровых навыков и цифрового капитала пользователей, выходящих на новый уровень обобщения и отталкивающихся от конкретных эмпирических исследований (Вартанов, Гуреева, Дунас, Ткачева, 2016; Вьюгина, 2017; Толоконникова, Черевко, 2016; Дунас, Кульчицкая, Вартанов, Салихова и др., 2019; Гладкова, Гарифуллин, Раггнеда, 2019).
В настоящее время Россия входит в число тех стран, которые лидируют в глобальном продвижении по пути цифровизации (О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг.). Это демонстрирует в том числе и растущее влияние цифровых медиа на повседневную жизнь россиян. К концу 2019 г. практически все население страны получило доступ к цифровому телевидению: 20 федеральных каналов «в цифре» доступны абсолютному большинству россиян вне зависимости от места их проживания. Почти 80 % россиян имеют доступ к Интернету, большинство жителей крупных городов активно используют несколько мобильных устройств, зарегистрированы в нескольких социальных сетях. Среди подростков, проживающих в городах-миллионниках, доступ к цифровым медиа посредством мобильных устройств практически универсален.
В современных медиаисследованиях все шире распространяется представление о том, что развитие информационно-коммуникационных технологий стимулирует прежде всего развитие медиабизнеса (De Prato, Sanz, Simon (eds.), 2014; Flew, 2014; Kung, Picard, Towse (eds.), 2008; Lee, Jin, 2018). Такой подход отчасти продолжает логику школы технологического детерминизма, школы Маклюэна, которая выделяла медиатехнологии в качестве самостоятельного фактора социального развития. В этом контексте часто рассматриваются современные практики медиасистемы, в которых под влиянием процесса оцифровки сбора, создания, распространения и хранения медиаконтента и нарастания влияния цифровизации на социальные практики (Negroponte, 1999) заметно меняются и аналоговые медиа, и традиционная журналистика, становясь конвергентными, мультимедийными, формируя новые инструменты работы с цифровой информацией и аудиторией (Fenton, 2009; Медиасистема России, 2015; Nienstedt, Russ-Mohl, Wilczek (eds.), 2013; Pavlik, McIntosh, 2016).
Одновременно не теряет актуальности и другой, более устоявшийся в медиаисследованиях подход, восходящий к политэкономической парадигме. В нем развитие медиа, в том числе и технологическое, отражает прежде всего основные тенденции общественного развития, что, в свою очередь, и детерминирует использование обществом технологий (Williams, 1975). Общественное производство и практики преобразуют не столько технологии, сколько само общество и его различные влиятельные институты (бизнес, образование, наука, армия), которые создают и поддерживают технологические инновации, начинают их применять, отвечая на возникающие социальные потребности (Fuchs, 2017, 2019).
Однако вне зависимости от того, какой подход применяют медиаисследователи, обратное влияние технологий медиа на общество и его практики сомнению не подвергается (Lidgrenn, 2017; Athique, 2013; Plantin, Punathambekar, 2019). Исследователи утверждают, что процессы, стимулированные одновременно развитием общественного запроса и технологий, начинают преобразовывать облик социума. Широко распространенное понятие прорывных/подрывных/разрушительных технологий (от англ. disruptive technologies) (Christensen, 1997), используемое в бизнесе и инноватике, как и в медиаисследованиях, еще раз подчеркивает значимость ИКТ для понимания стратегий общественного развития.
Так случилось, к примеру, на рубеже XX–XXI столетий, когда концепция «информационного общества» завладела умами ученых, предпринимателей, политиков, общества в целом (Быховский, 2012; Кастельс, 2000; Уэбстер, 2004). Показательно в связи с этим, сколь много новых терминов и концепций, связанных с «цифрой» и телекоммуникациями, вошло в 1980–1990 гг. в научный и публичный оборот: информационное общество, цифровая экономика, концепции которой сейчас довольно широко используются в разных странах, электронная и/или цифровая демократия, электронное правительство, цифровые выборы, информационное богатство, цифровое неравенство или цифровой раскол, цифровое поколение (Землянова, 2004).
Сегодня медиа, несомненно, являются тем институтом, тем общественным пространством, который вобрал в себя множество изменений, порожденных цифровизацией экономики и общественной жизни. Более того, перемены в самих СМИ, отраженные в новом тезаурусе медиаисследований (Дунас, 2011), обозначили вектор более масштабных социальных изменений, принеся новый понятийный аппарат в дискурс экономических, политических, юридических, социологических наук (Couldry, 2012).
Это позволяет сделать вывод: информационно-коммуникационные, даже, точнее, медиатехнологии, развитие которых стимулирует развитие современных СМИ, медиасистемы, медиаиндустрии, те самые цифровые медиатехнологии, которые сегодня угрожают существованию прессы в ее традиционном, бумажном виде и порождают гибридизацию телевидения и Интернета, тем самым усложняя существование традиционного телевидения, – они же и есть драйверы развития цифровой экономики, цифровой политики и цифровой культуры (Доктор, 2013; Как новые медиа изменили журналистику, 2016; Dickey, 2016; Miroshnichenko, 2014).
Важным индикатором и востребованности медиа обществом, и той значительной роли, которую они играют в жизни современного общества, становится и объем времени, которое современный человек проводит сегодня с медиа. Традиционные форматы медиапотребления предполагали, что чтение газет, прослушивание радио и телепросмотр были встроены в повседневные практики в соответствии с жизненными циклами и формами трудовой занятости людей. Так, газеты традиционно читали (после того, как их получали по подписке или покупали в киосках) в транспорте; во время вождения автомобиля, по дороге с работы и на работу слушали радио, вечером после работы смотрели телевизор (Вартанова, 2003: 96-102).
Естественно, что в разных странах была своя национальная специфика. Например, жители США традиционно больше западноевропейцев смотрели телевидение: в 1990 гг. средний американец смотрел телевизор примерно 4,5 ч в сутки, притом что чтению газет отводилось в среднем 28 мин. Известно и то, что американские родители, по данным измерений, проводившихся в то же десятилетие, разговаривали со своими детьми 20–25 мин. в день, что подтверждает доминирование медиапотребления в бюджете свободного времени. В странах Западной Европы просмотру телевидения уделялось чуть меньше времени, в регионе больше читали газеты и слушали радио, но в целом бюджет медийного времени примерно достигал 4–4,5 часов (Eastman, Ferguson, 2013).
В настоящее время – в конце 2010 гг. – «средний американец» проводит с медиа около 11 ч в сутки (Энциклопедия мировой индустрии СМИ, 2019: 331–360). Россияне, согласно результатам социологических опросов, – меньше, 9,5 ч в сутки (Телевидение в России в 2017 году, 2018). Очевидно, что наша жизнь становится все более медиатизированной, причем это касается разных поколений. Во многих странах мира доступ к Интернету, цифровым и мобильным медиа расширяется, охватывая и разные возрастные группы, и различные социальные страты. Достаточно вспомнить, что в России в начале 2018 г. доступ к Интернету имели 80 % населения, а ежедневно в сеть выходили более 60 % (ВЦИОМ. Аналитический обзор). Социологи отмечают, что, несмотря на активное использование цифровых медиа молодыми людьми, возрастной состав интернет-аудитории в России довольно разнообразный, а взрослые россияне от 45 лет и старше (28 659 тыс. мужчин и женщин) составляют значительную ее часть (87 472 тыс. россиян в возрасте 12+) (Энциклопедия мировой индустрии СМИ, 2019: 297–330).
Современную молодежь многие исследования теоретиков и практиков медиаиндустрии фиксируют как «цифровую». В связи с этим широко используются термины «цифровые аборигены» (англ. digital natives) (Prensky, 2001), «цифровые дети» (Зинченко, Матвеева, Карабанова, Пристанская и др., 2016; Цифровая компетентность подростков и родителей, 2013), «цифровая молодежь» (Солдатова, Нестик, Рассказова, Зотова, 2013; Subrahmanyam, Smahel, 2011).
Молодые люди заметно отличаются от своих родителей по формам и инструментам медиапотребления, что имеет в основании разные уровни медиаобразования и инструменты познания, различные жизненные ценности и стили жизни (Аникина, Ермошкина, Искаков, Кобзев и др., 2016; Фролова, Образцова, 2017). Конечно, было бы некорректно утверждать, что сегодня общество социально стратифицируется по новым принципам, связанным с медиапользованием и медиаграмотностью, однако очевидно, что принципы классового деления К. Маркса, опирающиеся на такое основание, как отношение человека к собственности на средства производства, или сформулированные М. Вебером профессионально-статусные основания разделения общества на группы нуждаются в уточнении, развитии с использованием актуальных концепций.
Среди них следует упомянуть концепцию культурного капитала, формируемого ценностными ориентациями, основанными на этнической и конфессиональной принадлежности, образовании, стиле жизни, а также возможности доступа к нему в контексте материального и нематериального положения человека (Бурдье, 2002). Не менее актуальна и концепция процесса медиатизации, которая признает, что медиа ушли от роли посредника или социального коммуникатора, традиционно предписываемой им нормативной теорией, и стали полноценным и самостоятельным институтом современного общества (Гуреева, 2017, 2018; Lundby (ed.), 2009; Hepp, 2009; Couldry, Hepp, 2013, 2017).
Из двух последних понятий – культурного капитала и процесса медиатизации – вытекает и современное понимание процесса медиапотребления как системы индивидуальных и общественных практик по взаимодействию с медиа, все активнее воздействующих на социальное поведение людей. Представление о «человеке медийном», хотя еще и не имеющее строгого научного обоснования, показывает укрепляющуюся зависимость между доступом к медиа, потреблением, связанным с ним распространением и даже производством медиаконтента, медийно опосредованным коммуникационным поведением и социальным статусом современного человека (Вартанова, 2009; Человек медийный, 2015). К тому же некоторые исследователи уже высказывали мнение о том, что доминирование печатных СМИ, традиционного вещания или социальных сетей в медиапотреблении все больше разделяет поведенческие (коллективные или индивидуальные) паттерны различных аудиторных групп (Толоконникова, Черевко, 2016).
Среди медиаисследователей в последние годы начал обсуждаться вопрос, можно ли сегодня на основе отношения к (масс)медиа выделить в обществе различные группы? И хотя чаще всего ответ на него формулируется отрицательный, поскольку четких социологических оснований для выделения такого рода нет, подобный метафорический подход уже находит своих сторонников. Например, в процессе анализа отношений СМИ и избирательного процесса в России в середине 1990 гг. некоторые авторы уже попытались связать политические пристрастия избирателей с формами их медиапотребления, с доверием или недоверием федеральным телеканалам (Система средств массовой информации России, 2003). С увеличением проникновения Интернета метафора «партии телевидения» породила и представление о противостоящей ей «партии» – «партии Интернета» (Vartanova, 2012). И хотя исследователи в области общественно-политических наук не соглашаются с корректностью такого подхода, взгляд на то, что в России 2010 гг. использование различных медиа аудиторией в значительной степени детерминировалось не только социальным классом, но и доступом к определенным медиатехнологиям, имеет под собой определенные основания.
В исследованиях СМИ в целом признана связь между социальным положением человека и его медиапотреблением, и даже в более широком смысле его информационными запросами, особенно в сфере общественно значимого контента и развлечения (Свитич, 2018; Napoli, 2003; Bourdon, Meadel, 2014). Качественная и массовая пресса, общественное и коммерческое телевидение, новостная аналитика и развлечение – наличие этих сегментов в медиасистеме и контенте СМИ и есть ответ на разные аудиторные запросы и даже на разные аудиторные потребности (Багдикян, 1987; Шиллер, 1980). Как показывает опыт последних десятилетий, новые ИКТ не решают проблему корреляции доступа к новым медиа и материального положения людей, а только ее усугубляют (Sparks, 2013). Принципиально не меняется и соотношение социальной принадлежности и политической активности, вовлеченности в электоральный процесс и уровня образования, влияющего на критическое мышление аудитории (Fuchs, 2017).
Все больше исследований показывают, что поколенческие ценности могут отличаться у тех, кто является основными зрителями телеканалов – аудитория 55+, и у молодых людей. Есть разница между поколениями и с точки зрения выбора медийного контента, и с точки зрения активности потребления (молодые люди представляют более фрагментированную аудиторию с активным выбором, с высоким уровнем цифровой грамотности). И конечно, во все более цифровом обществе возникают и новые напряженности, и новые неравенства между людьми разных возрастов, определяемых разными медийными культурами поколений (Цифровая компетентность подростков и родителей, 2013).
В этом контексте чрезвычайно важным становится изучение цифрового разрыва (digital divide) как новой формы социального неравенства. По данным метаанализа, проведенного канадским исследователем Б. Ачарья (Acharya, 2017: 46), к концу XX в. насчитывалось более 14 тыс. академических статей, посвященных этой теме. Изучение ее тесно связано с представлениями о новых формах социального неравенства, возникающих в условиях становления информационного общества.
Первоначально под «информационной бедностью» (термин появился в 1970 гг.) подразумевался ограниченный доступ первых пользователей к информационно-коммуникационным технологиям – компьютерам и связывавшим их телекоммуникационным сетям (Compaine, 2001). Неоднородность уровня доступа к технологиям и развития медиа-коммуникационной инфраструктуры приводили к неравным возможностям получения аудиторией информации. Этот подход был положен в основу работ, которые были написаны на первом этапе исследований цифрового неравенства и выполнены в основном в рамках политэкономической парадигмы (Van Dijk, 2012, 2013). По мнению П. Норрис (Norris, 2001: 13), ИКТ стали своего рода «ящиком Пандоры», порождающим новые неравенства во власти и доступе к экономическим ресурсам и усиливающим различия между информационно богатыми и бедными людьми, «включенными» в процесс технологического развития и «исключенными» из него, лидерами и отстающими.
С течением времени концепция цифрового неравенства углублялась, переставая фокусироваться исключительно на проблеме доступа к устройствам и инфраструктуре. Исследователи обращали внимание на возникновение нескольких цифровых разрывов и подчеркивали, что неправильно рассматривать проблему одномерно – только как различие между людьми в технологическим доступе, ведь цифровое неравенство приводит к различиям в образовании, знаниях, стиле жизни и траекториях человеческого существования в целом (Compaine, 2001; Robinson, Cotten, Ono et al., 2015: 570). Концепция цифрового неравенства стала предметом междисциплинарного изучения, включающего такие области знаний, как социология, политология, экономика, антропология и, конечно, медиаисследования (Compaine, 2001).
Расширение междисциплинарного интереса и подхода к проблеме цифрового неравенства ознаменовало начало второго этапа исследования этой проблемы, когда стало складываться понимание цифрового неравенства как многомерного явления, охватывающего различные аспекты социальных расколов и «исключений» людей из цифровой среды (Ragnedda, Muschert (eds.), 2013). Ученые противопоставили цифровое неравенство цифровому равенству, рассматривая последнее как условие для будущего устойчивого развития общества, групп и отдельных лиц (Castells, 1996). Исследователи поставили вопрос о формировании и реализации медиаполитики, направленной на преодоление существующего цифрового неравенства и достижение цифрового равенства на технологическом, экономическом и пользовательском уровне. Тогда же стало очевидно, что технологические трудности детерминированы не только технологическими и экономическими, но и социально-культурными факторами и даже историческим прошлым общества (Park, 2017: 6).
Дальнейшее проникновение Интернета в разных странах наряду с ростом объемов производства профессионального и пользовательского цифрового контента, эволюцией технических средств стимулировало дальнейшие процессы социального развития, в основе которых лежали качественно новые характеристики ИКТ и цифровых медиа (Flew, 2008). Исследователи обратили особое внимание на изучение медиапроизводства, подчеркивая, что цифровая революция меняет принципы производства и распределения товаров и услуг, а также влияет на общественную сферу и культурную среду. По мнению М. Кастельса (2000), современная политическая и экономическая жизнь в значительной степени зависит от цифровой инфраструктуры, которая, в свою очередь, превратилась в основу цифровой экономики, рынков товаров и услуг, финансов, электронной демократии и сетевого общества.
Б. Уэссел, развивая идею М. Кастельса, подчеркивала, что в целях повышения конкурентоспособности на глобальном рынке национальной экономике необходима тесная связь с цифровой инфраструктурой, а также рабочая сила, обладающая достаточными знаниями и навыками работы в «цифре» (Wessels, 2013: 21). Соответственно, новые требования к человеческому капиталу будут постепенно определять развитие образования, медиаиндустрии, социальное участие и культурные практики в развивающихся цифровых общественных средах.
Все это определило направления дальнейших исследований, которые попытались переосмыслить цифровой разрыв, цифровое неравенство и «цифровое исключение» из общественной жизни как значимую социальную проблему. Цифровой разрыв начал рассматриваться на разных уровнях и в различных сферах, таких как государственная, общественная, деловая сфера, личностный уровень, в особенности когда речь шла о развитии технологических навыков на основании личной осведомленности и осознанной мотивации пользователей (Park, 2017: 213–220).
Поведение и опыт людей, как подчеркивали исследователи, перемещаются в цифровой мир, определяя форму, содержание и даже характер общения (Robins, Webster, 1999). Поэтому по мере того, как экономические и социальные связи в обществе становятся все более существенными, технологическая адаптация и грамотность превращаются в один из определяющих факторов человеческого прогресса (Poushter, 2016: 3).
Исходя из этого, современное понимание цифрового равенства предполагает личное участие каждого человека в процессе формирования и совершенствования цифровых навыков. Фокус в исследовании цифрового разрыва на втором этапе перемещается на изучение влияния таких факторов, как социальный статус, образование, индивидуальные способности, личная мотивация, на процесс достижения цифровой вовлеченности каждого отдельного человека (Park, 2017). В конце этого этапа возрастает количество исследований, рассматривающих социальные и культурные последствия использования цифровых ИКТ. Медиаисследователи подчеркивают, что в условиях продолжающейся социально-экономической поляризации расширение использования ИКТ только усиливает цифровые разрывы, приводя к обострению социального неравенства во всем мире (Nieminen, 2016; Sparks, 2013).
Наряду с дискуссией о влиянии цифрового разрыва на социально-экономическую жизнь в академическом сообществе началось активное обсуждение вопросов вовлеченности, полноправного участия в цифровой среде пользователей, на уровне как социальной, так и межличностной коммуникации. Оно сконцентрировалось прежде всего вокруг представления о том, что пользовательские цифровые навыки или их отсутствие играют ключевую роль в достижении людьми различных жизненных целей в образовании, востребованности на рынке труда, предпринимательстве, пользовании медицинскими услугами или культурными продуктами. Адаптированные к цифровой среде и активно участвующие в цифровой общественной жизни граждане получают очевидные преимущества перед теми, кто не обладает цифровыми навыками (Park, 2017: 27).
Если первый этап изучения цифрового неравенства был сфокусирован на рассмотрении проблемы доступа, то уже на втором этапе развития исследовательской мысли акцент сместился. Внимание стало уделяться вопросам влияния цифрового неравенства на социальную жизнь, причем при изучении использовались методология и инструменты из разных областей исследований и научных школ. Изучение цифрового разрыва выявило корреляцию между доступом к информации, а также к ИКТ и телекоммуникационным сетям, развитостью цифровой инфраструктуры и экономическими достижениями, которые становятся возможными благодаря цифровизации в обществе. В основу новых подходов было положено понимание цифрового неравенства как многомерного процесса, имеющего сложную природу и оказывающего непосредственное влияние на дальнейшее развитие общества.
Завершением второго этапа развития исследований цифрового неравенства стало изучение того, как ИКТ выполняют свои общественные функции, предоставляя аудитории необходимую актуальную информацию и обеспечивая функционирование каналов коммуникации, обеспечивая доступ к социально значимому контенту, рассматриваемому как инструмент построения государственности и национальной идентичности (Nieminen, 2016: 21). Таким образом, следуя идее Т. ван Дейка о важности социального участия, комплексный подход к цифровому неравенству приобрел большое значение.
Наконец, на третьем этапе исследований цифрового неравенства, который наблюдается в настоящее время, в академическую повестку вошло изучение новых видов неравенств, порожденных цифровизацией, – на уровне различных сообществ, на рынке труда, на мотивационном уровне, а также тех негативных последствий этого процесса, которые начали сказываться на обществе, его группах, отдельных людях. Как результат, среди ученых и законодателей возникло понимание, что государственная политика по предотвращению различных видов цифрового неравенства, основанная на повышении технологического и экономического доступа к инфраструктуре, не всегда сможет обеспечить решение этой проблемы на индивидуальном уровне (Park, 2017: 35).







