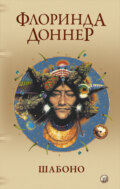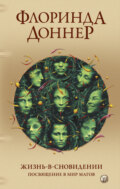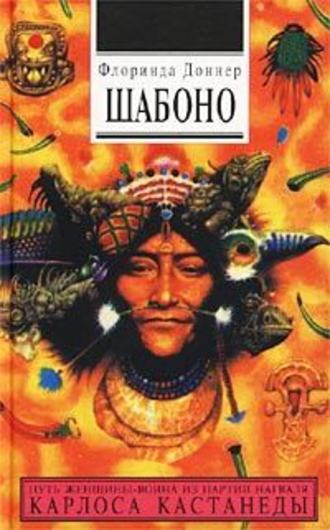
Флоринда Доннер
Шабоно
– Что, готовится набег? – спросила я вошедшего в хижину Этеву.
Он посмотрел на меня, сурово нахмурив брови. – Нечего женщинам задавать такие вопросы.
Глава 20
Уже начинало темнеть, когда в
шабоно
явился Пуривариве. Я не видела его со времени своей болезни, с той самой ночи, когда он стоял посреди поляны с руками, с мольбой распахнутыми во тьму. От Милагроса я узнала что шесть дней и ночей подряд старый
шапори
принимал
эпену.
Старик чуть не сломался под бременем духов, которых призвал в свою грудь, но продолжал упорно молить их о моем исцелении от приступа тропической лихорадки.
Ритими особо отметила, что главная трудность с моим исцелением заключалась в том, что хекуры не любят, когда их призывают в сезон дождей. – Тебя спасла только хекура колибри, – объясняла она. – Дух колибри, хоть и маленький, но могущественный. Искусный шапори призывает его как крайнее средство.
Я без всякого энтузиазма выслушала заверения обнимавшей меня за шею Ритими насчет того, что случись мне умереть, моя душа не отправилась бы скитаться по лесу, а мирно вознеслась бы в Дом Грома, ибо тело мое было бы сожжено, а истолченные в порошок кости съела бы она и вся ее родня.
Я вышла на поляну к Пуривариве и, присев рядом с ним, сказала: – Я уже выздоровела.
Он поднял на меня мутные, почти сонные глаза и погладил по голове. Его темная маленькая ладонь двигалась проворно и легко, хотя казалась тяжелой и неповоротливой. Едва заметная тень нежности смягчила его черты, но он не произнес ни слова. Интересно, подумала я, знает ли он, что во время болезни я почувствовала, как клюв колибри рассекает мне грудь. Об этом я не рассказывала никому.
Вокруг Пуривариве собралась группа мужчин с лицами и телами, раскрашенными черной краской. Они вдули друг другу в нос эпену и стали слушать его заклинания, которыми он молил хекур покинуть свои убежища в горах. В слабом свете очагов черные мужские фигуры все больше походили на тени. Они тихо вторили песнопениям шамана. Во все убыстряющемся темпе невнятной скороговорки постепенно нарастала мощь и угроза, и я почувствовала, как по спине у меня пробежал холодок.
Вернувшись в хижину, я спросила Ритими, что это за обряд исполняют мужчины.
– Они направляют хекур в деревню Мокототери убивать врагов.
– И враги действительно умрут? Подтянув коленки, она вперила задумчивый взгляд в кромешную черноту безлунного и беззвездного неба над пальмовой крышей и тихо сказала: – Умрут.
В полной уверенности, что настоящего набега так и не будет, я засыпала и просыпалась под пение заклинаний. Я не столько слышала, сколько зримо представляла себе звуковые образы, которые взлетали и падали, уносясь с дымом очагов.
Прошло несколько часов. Я поднялась и села у хижины. Почти все мужчины разошлись по своим гамакам. На поляне осталось лишь десять человек, в том числе Этева. Закрыв глаза, они вторили песне Пуривариве. В пропитанном сыростью воздухе слова доносились четко и внятно: Следуй за мной, следуй за моим видением.
Следуй за мной над вершинами деревьев.
Взгляни на птиц и мотыльков; таких красок ты никогда не увидишь на земле.
Я возношусь на небеса к самому Солнцу.
Песню шапори внезапно прервал один из мужчин. С криком: – Меня ударило солнце – жжет глаза! – он вскочил и беспомощно оглянулся в темноте. Ноги его подкосились, и он с глухим ударом рухнул на землю. Никто словно ничего и не заметил.
Голос Пуривариве звучал все требовательнее, словно в стремлении возвысить всех мужчин до представленного им образа. Он снова и снова повторял свою песню тем, кто еще оставался рядом. Чтобы мужчины не заплутали в тумане своих видений, он предупредил их, что на пути к Солнцу в лесных дебрях и сплетении корней их подстерегают острые копья бамбуковых листьев и ядовитые змеи. Но больше всего он убеждал мужчин не впадать в сонное забытье, а шагнуть из тьмы ночи в белую тьму солнца. Он обещал им, что их тела пропитаются жаром хекур, & глаза их засияют драгоценным солнечным светом.
Я просидела у хижины до тех пор, пока заря не стерла с земли остатки сумерек, и в надежде обнаружить какое-нибудь явное свидетельство их путешествия к Солнцу, стала переходить от одного мужчины к другому, пристально вглядываясь в их лица.
Пуривариве провожал меня полными любопытства глазами и с насмешливой улыбкой на изрезанном морщинами лице.
– Ты не найдешь видимых следов того, что они летали к Солнцу, – сказал он, словно читая мои мысли. – Глаза их тусклы и красны от бессонной ночи, – добавил он, указывая на мужчин, тупо уставившихся в пустоту и совершенно безразличных к моему присутствию. – Драгоценный свет, отражение которого ты ищешь в их зрачках, сияет теперь у них внутри. И видят его только они сами.
И не дав мне спросить о его путешествии к Солнцу, он вышел из шабоно и скрылся в лесу.
В последовавшие за этим дни в деревне воцарилось мрачное тягостное настроение. Поначалу я лишь смутно чувствовала, а затем уже не могла отделаться от уверенности, что от меня намеренно скрывают приближение некоего события. Я стала угрюмой, замкнутой и раздражительной. Пытаясь перебороть ощущение отчужденности, я старалась скрыть свои дурные предчувствия, но меня словно осаждали некие не поддающиеся определению силы.
Если я спрашивала Ритими или любую другую женщину, не надвигаются ли какие-то перемены, они даже не реагировали на мой вопрос и вместо этого затевали разговор о каком-нибудь дурацком случае в надежде меня рассмешить.
– На нас готовится набег? – наконец спросила я у Арасуве в один прекрасный день.
Он повернул ко мне озабоченное лицо, словно пытался, но не мог разобрать мои слова.
Я сконфузилась, разнервничалась и чуть не заплакала.
Я сказала ему, что не такая уж я дура, чтобы не замечать, что мужчины постоянно находятся в боевой готовности, а женщины боятся ходить одни на огороды или рыбную ловлю.
– Почему никто мне не может сказать, что происходит? – выкрикнула я.
– А ничего такого и не происходит, – спокойно ответил Арасуве и, закинув руки за голову, поудобнее растянулся в гамаке. Он тоже заговорил на совершенно постороннюю тему, то и дело посмеиваясь по ходу рассказа. Но меня это не успокоило. Я не стала смеяться вместе с ним, не стала даже слушать его слов и, к его полному изумлению, сердито потопала в свою хижину.
Целыми днями я чувствовала себя несчастной, то обижаясь на всех, то жалея себя. Я стала плохо спать. Я постоянно твердила себе, что ко мне, полностью принявшей новый образ жизни, ни с того ни с сего стали относиться как к чужой. Я злилась и считала себя обманутой. Я не могла смириться с тем, что Арасуве не захотел доверить мне свою тайну. Даже Ритими не проявляла особой охоты меня успокоить. Я страстно желала, чтобы здесь оказался Милагрос.
Уж он бы наверняка развеял все мои тревоги. Уж он бы все мне рассказал.
Однажды ночью, когда я еще не совсем впала в сонное забытье, а витала где-то между сном и явью, на меня обрушилось внезапное озарение. И пришло оно не в словах, но преобразилось в целую последовательность мыслей и воспоминаний, вспыхивавших передо мной яркими образами, и все вдруг предстало в истинном свете.
Меня охватило ликование. Я расхохоталась с облегчением, переросшим в настоящее веселье. Я слышала, как мой смех эхом разносится по всем хижинам. Сев в гамаке, я увидела, что почти все Итикотери хохочут вместе со мной.
Арасуве присел у моего гамака.
– Тебя не свели с ума лесные духи? – спросил он, взяв мою голову в ладони.
– Свели, – все еще смеясь, ответила я и заглянула в его глаза; они блестели в темноте. Я обвела глазами Ритими, Тутеми и Этеву, стоявших возле Арасуве с заспанными любопытными лицами, раскрасневшимися от смеха.
Из меня бесконечным потоком полились слова, громоздясь друг на дружку с поразительной быстротой. Я заговорила по-испански, и не потому что хотела что-то скрыть, а потому что на их языке мои объяснения не имели бы никакого смысла. Арасуве и все остальные слушали так, словно все понимали, словно чувствовали, как мне необходимо избавиться от царившего во мне смятения.
А я, наконец, осознала, что для них я и есть чужачка, и мои требования быть в курсе таких дел, о которых Итикотери не говорят даже в своем кругу, были вызваны только моим повышенным самомнением. И уж в совершенно несносное существо превратила меня мысль о том, что меня оставляют в стороне, не подпускают к чему-то такому, что я имею полное право знать. Это свое право знать я не подвергала ни малейшему сомнению, и это делало меня несчастной, лишало всех тех радостей, которыми я так дорожила прежде. Угрюмость и подавленность находились не вне, а внутри меня и как-то передавались в шабоно и к его жителям.
Мозолистая ладонь Арасуве легла на мою тонзуру. Я нисколько не стыдилась своих чувств и с радостью поняла, что только я сама могу возродить ощущение чуда и волшебства от пребывания в другом мире.
– Вдуй-ка мне в нос эпену, – велел Арасуве Этеве. – Я хочу убедиться, что злые духи не тронут Белую Девушку.
Я услышала бормотание, тихий ропот голосов, приглушенный смех, и под монотонное пение Арасуве погрузилась в спокойный сон, как не спала уже много дней. Маленькая Тешома, которая уже давненько не забиралась ко мне в гамак, разбудила меня на рассвете. – Я слышала, как ты смеялась вчера среди ночи, – сказала она, уютно прижимаясь ко мне. – Ты не смеялась так давно, и я боялась, что ты больше никогда не засмеешься.
Я заглянула в ее блестящие глазенки, словно могла найти в них ответ, который позволил бы мне в будущем избавляться с помощью смеха от всех душевных смут и тревог.
Непривычная тишина глухой пеленой опускалась на шабоно по мере того, как вокруг нас сгущались ночные сумерки. Я уже почти засыпала под убаюкивающее прикосновение пальцев Тутеми, искавших вшей у меня в волосах.
Крикливая болтовня женщин, занятых приготовлением ужина и кормлением младенцев, истаяла до шепота. Словно по чьему-то безмолвному приказу, ребятишки прекратили свои шумные вечерние забавы и собрались в хижине Арасуве послушать сказки старого Камосиве. Он, казалось, был совершенно увлечен собственными речами, драматически жестикулируя по ходу повествования. Но глаз его внимательно следил за длинными клубнями батата, зарытыми в горячие угли. С благоговейным трепетом я смотрела, как старик голыми руками вытаскивает клубни из огня и, не дожидаясь, пока те остынут, отправляет их в рот.
Со своего места я видела над верхушками деревьев луну на ущербе, которую то и дело закрывали бредущие по небу и светившиеся прозрачной белизной облака. Внезапно тишину ночи пронзил жуткий вопль – нечто среднее между визгом и рычанием. В тот же момент из темноты возник Этева с лицом и телом, раскрашенным в черный цвет. Он встал перед кострами, горящими в центре деревенской поляны, и застучал луком о стрелы, подняв их над головой.
Я не видела, из чьей хижины появились остальные, но рядом с Этевой, с такими же черными лицами, на поляне встали еще одиннадцать мужчин.
Арасуве подровнял шеренгу, пока все не выстроились в одну линию, и, поправив последнего, сам встал в строй и запел низким гнусавым голосом. Последнюю строку песни все подхватили хором. В этой приглушенной гармонии я различала каждый голос в отдельности, не понимая ни слова. Чем дольше они пели, тем большая, казалось, их охватывала ярость. В конце каждой песни они издавали самые свирепые вопли, которые я когда-либо слышала. Как ни странно, мне стало казаться, что чем громче они вопят, тем дальше уходит их ярость, как будто она перестала быть частью их раскрашенных в черное тел.
Внезапно они смолкли. Неверный свет костров подчеркивал гневное выражение их застывших, похожих на маски лиц и лихорадочный огонь в глазах. Я не видела, подал ли Арасуве какую-то команду, но они рявкнули в один голос: – С какой радостью увижу я, как моя стрела вонзается в тело врага. С какой радостью увижу я, как его кровь хлынет на землю.
Держа оружие высоко над головами, воины сломали строй, собрались в тесный кружок и стали что-то выкрикивать, сначала тихо, затем такими пронзительными голосами, что меня мороз продрал по коже. Затем они снова смолкли, и Ритими шепнула мне на ухо, что мужчины вслушиваются в эхо своих криков, чтобы определить, с какой стороны оно вернулось. Эти отголоски, пояснила она, приносят с собой духов врага.
Завывая и стуча оружием, мужчины пустились вскачь по поляне, но Арасуве их успокоил. Еще дважды они собирались в тесный кружок и орали во всю мочь. Затем, вместо того чтобы направиться в лес, как я ожидала и боялась, мужчины подошли к хижинам, стоящим у самого входа в шабоно. Там они легли в гамаки и вызвали у себя рвоту.
– Зачем они это делают? – спросила я у Ритими.
– Когда они пели, они пожирали своих врагов, – пояснила она. – А теперь им надо избавиться от гнилого мяса.
Я вздохнула с облегчением, хотя и была неожиданно для себя разочарована тем, что набег состоялся лишь символически. Незадолго до рассвета меня разбудили плач и стенания женщин, и я стала тереть глаза, чтобы удостовериться, что не сплю. Время словно остановилось, потому что мужчины стояли на поляне в той же самой стройной шеренге, что и глубокой ночью. Их крики утратили прежнюю свирепость, как будто женский плач смягчил их гнев.
Забросив банановые гроздья, сложенные у входа в шабоно, себе на плечи, они с театральной торжественностью зашагали по тропе в сторону реки.
Мы со старым Камосиве в отдалении последовали за мужчинами. Я подумала было, что начинается дождь, но это была лишь роса, капающая с листка на листок. На мгновение мужчины замерли, и их тени четко обозначились на светлом прибрежном песке. Полумесяц уже прошел свой небесный путь и слабо мерцал в туманном воздухе. Мужчины скрылись с глаз, и песок словно всосал их тени. Я услышала только удаляющийся в глубину леса шорох листьев и треск веток. Туман сомкнулся вокруг нас непроницаемой стеной, будто ничего и не произошло, будто все увиденное было всего лишь сном.
Присев возле меня на камень, старый Камосиве чуть тронул мою руку. – Я уже не слышу эха их шагов, – сказал он и медленно побрел в воду. Дрожа от холода, я пошла за ним. Я чувствовала, как мелкая рыбешка, прятавшаяся в корнях под водой, тычется мне в ноги, но в темной воде ничего не было видно.
Пока я досуха вытирала Камосиве листьями, он тихо посмеивался. – Смотри, какой сикомасик, – радостно заметил он, указывая на белые грибы, растущие на гнилом стволе дерева.
Я собрала их для него и завернула в листья. Поджаренные на костре, они считались большим деликатесом, особенно среди стариков.
Камосиве протянул мне кончик своего сломанного лука, и я вытащила его на скользкую тропу, ведущую к шабоно. Туман не поднимался весь день, словно солнце побоялось оказаться свидетелем перехода мужчин через лес.
Глава 21
Маленькая Тешома села рядом со мной на поваленное дерево в зарослях бамбуковой травы. – Ты не будешь ловить лягушек? – спросила я.
Она подняла на меня жалобный взгляд. Ее глаза, обычно такие блестящие, потускнели и медленно налились слезами.
– Что ты так загрустила? – спросила я, беря ее на руки. Плачущих детей всегда старались как можно быстрее утешить, опасаясь, что их душа может вылететь через рот.
Взяв ее на закорки, я отправилась в шабоно. – Ты такая тяжелая, как целая корзина спелых бананов, – попыталась я рассмешить ее.
Но девочка даже не улыбнулась. Ее личико прижималось к моей шее, а слезы горохом катились у меня по груди.
Я бережно уложила ее в гамак, но она крепко вцепилась в меня, заставив лечь рядом. Вскоре она уснула, но очень беспокойным сном. Время от времени она вздрагивала всем телом, словно в лапах какого-то жуткого кошмара.
С подвязанным к спине младенцем Тутеми в хижину вошла Ритими. Взглянув на спящую рядом со мной девочку, она залилась слезами. – Я уверена, что какой-нибудь злой шапори этих Мокототери выманил ее душу прочь. – Ритими заходилась в таких душераздирающих рыданиях, что я оставила Тешому и подсела к ней. Я не знала толком, что ей сказать. Я не сомневалась, что Ритими плачет не только из-за маленькой дочери, но и из-за Этевы, который вот уже неделя, как ушел с отрядом воинов в набег. После ухода мужа она стала сама не своя: перестала работать на огородах, ни с кем из женщин не ходила в лес за ягодами и дровами. Бесцельно и подавленно она целыми днями бродила по шабоно. Большую часть времени она лежала в гамаке, играя с ребенком Тутеми. Как бы я ни старалась ее подбодрить, мне не удавалось стереть жалкое выражение с ее лица. Скорбная улыбка, которой Ритими отвечала на все мои усилия, придавала ей еще более унылый вид.
Обняв за шею, я расцеловала ее в обе щеки и стала уверять, что у Тешомы самая обыкновенная простуда. Но утешить Ритими было невозможно. Рыдания не принесли ей ни облегчения, ни усталости, а лишь углубили ее отчаяние.
– Вдруг что-нибудь случилось с Этевой, – говорила она. – Вдруг какой-нибудь Мокототери убил его.
– Ничего с твоим Этевой не случилось, – заявила я. – Костями чувствую.
Ритими слабо улыбнулась, как бы сомневаясь в моих словах. – Почему же тогда моя дочурка заболела? – Тешома заболела потому, что простыла, играя с лягушками на болотах, – заявила я сухим деловым тоном. – Дети очень быстро заболевают и так же быстро выздоравливают.
– А ты уверена, что это так и есть? – Совершенно уверена, – ответила я.
Ритими с сомнением посмотрела на меня и сказала: – Но ведь больше никто из детей не заболел. Я знаю, что Тешому околдовали.
Не зная, что ответить, я решила, что лучше всего будет позвать дядю Тешомы, и спустя минуту вернулась вместе с Ирамамове. На время отсутствия своего брата Арасуве Ирамамове исполнял обязанности вождя. Его храбрость делала его самым подходящим человеком для защиты шабоно от возможного нападения. Его же репутация шамана обеспечивала деревне защиту от злых хекур, насланных вражескими колдунами.
Ирамамове посмотрел на девочку и попросил меня принести его тростинку для эпены и сосуд с галлюциногенным порошком. Одному из юношей он велел вдуть зелье ему в ноздри и запел заклинания к хекурам, расхаживая перед хижиной из стороны в сторону. Время от времени он высоко подпрыгивал, крича на злых духов, которые, как он полагал, угнездились в теле ребенка, чтобы те оставили Тешому в покое.
Затем Ирамамове стал осторожно массировать девочку, сначала голову, потом грудь, живот и так до самых ног. Он то и дело встряхивал руками, сбрасывая злых хекур, которых вытаскивал из Тешомы. Еще несколько мужчин вдохнули эпену и вместе с Ирамамове пели заклинания ночь напролет. А он попеременно то массировал ее тельце, то высасывал хворь из него.
Тем не менее девочке и на другой день не стало лучше.
С покрасневшими и отекшими глазами она неподвижно лежала в гамаке, ничего не хотела есть и отказалась даже от воды с медом, которой я пыталась ее напоить.
Ирамамове определил, что ее душа покинула тело, и принялся строить в центре поляны помост из шестов и лиан. К своим волосам он прикрепил листья пальмы ассаи; глаза и рот обвел кругами из пасты оното, смешанной с углем. Пустившись вскачь вокруг помоста, он стал имитировать крики гарпии. Затем веткой с куста, растущего поблизости от шабоно, он стал тщательно мести землю, пытаясь найти затерявшуюся душу ребенка.
Не найдя ее, он собрал вокруг себя несколько маленьких приятелей Тешомы, точно так же разукрасил их волосы и лица и поднял их на помост. – Внимательно осмотрите землю сверху, – велел он детям. – Отыщите душу вашей сестры.
Подражая крикам гарпии, дети запрыгали на шатком помосте. Ветками, которые подали им женщины, они стали разметать воздух, но и им не удалось отыскать потерянную душу.
Взяв ветку, поданную мне Ритими, я вместе с остальными взялась за поиски. Мы дочиста вымели тропинки к реке, к огородам и на болота, где Тешома ловила лягушек.
Ирамамове поменялся со мной ветками. – Ты принесла ее в шабоно, – сказал он. – Может, ты отыщешь ее душу.
Не задумываясь о бессмысленности этой затеи, я мела землю так же старательно, как и все остальные. – А откуда известно, что душа где-то недалеко? – спросила я Ирамамове, когда мы возвращались по своим следам обратно в шабоно.
– Просто известно, и все, – ответил он.
Мы обыскали каждую хижину, чисто вымели под гамаками, вокруг каждого очага и за сложенными в кучи бананами. Мы сдвигали прислоненные к покатым крышам луки и стрелы. Мы разогнали всех пауков и скорпионов из их убежищ в пальмовых крышах. Я прекратила поиски, лишь когда увидела змею, выскользнувшую из-за стропил.
Рассмеявшись, старая Хайяма ловким ударом мачете отсекла змее голову, завернула извивающееся обезглавленное тело в листья пишаанси и сунула в огонь. Хайяма подобрала также свалившихся на землю пауков. Они тоже были завернуты в листья и изжарены. Старикам особенно нравились их нежные брюшки. Лапки Хайяма приберегла, чтобы размолоть их позже в порошок, который, как считалось, лечит порезы, укусы и царапины.
К вечеру состояние Тешомы нисколько не улучшилось.
Она неподвижно лежала в гамаке, уставясь пустыми глазами в пальмовую крышу. Меня охватило чувство неописуемой беспомощности, когда Ирамамове снова склонился над ребенком, чтобы массировать и высасывать из нее злых духов.
– Позволь мне попытаться вылечить ребенка, – сказала я.
Ирамамове едва заметно улыбнулся, переводя глаза то на меня, то на Тешому. – А с чего ты взяла, что сможешь вылечить мою внучатую племянницу? – спросил он в глубокой задумчивости. В его тоне не было насмешки, одно лишь смутное любопытство. – Мы не отыскали ее душу.
Какой-то могущественный вражий шапори выманил ее прочь. Ты думаешь, что сможешь противостоять заклятию злого колдуна? – Нет, – поспешно заверила я его. – Это можешь только ты.
– Что же ты тогда будешь делать? – спросил он. – Ты однажды сказала, что никогда никого не исцеляла. Почему же ты думаешь, что сейчас тебе это удастся? – Я помогу Тешоме горячей водой, – сказала я. – А ты исцелишь ее своими заклинаниями к хекурам.
Ирамамове на минуту задумался; затем постепенно лицо его смягчилось. Он прикрыл ладонью рот, будто удерживаясь от смеха. – Ты многому научилась у тех шапори, которых знала? – Я помню кое-что из их методов лечения, – ответила я, не упомянув, однако, что средство, которое предназначалось Тешоме, применяла моя бабушка, когда не удавалось сломить лихорадку. – Ты сказал, что видел хекур у меня в глазах. Если ты будешь петь им заклинания, то, может быть, они мне помогут.
Легкая улыбка появилась и задержалась на губах Ирамамове. Казалось, мои доводы почти убедили его. Тем не менее он с сомнением покачал головой. – Так исцеление не делается. Как я могу просить, чтобы хекуры помогли тебе? Ты тоже хочешь принять эпену? – Это мне не понадобится, – заверила я его и заметила, что если могущественный шапори может приказать своим хекурам похитить душу ребенка, тогда такой искусный колдун, как он, вполне может приказать своим духам, которые, как он считает, со мной уже знакомы, чтобы те пришли мне на помощь.
– Я призову хекур помочь тебе, – объявил Ирамамове. – Я приму эпену вместо тебя.
Пока один из мужчин вдувал галлюциноген в ноздри Ирамамове, Ритими, Тутеми и жены Арасуве принесли мне полные калабаши горячей воды, которую старая Хайяма нагрела в больших алюминиевых котелках. Я намочила свое разрезанное одеяло в горячей воде и, пользуясь штанинами джинсов вместо перчаток, выжала каждую полоску ткани, пока в ней не осталось ни капли влаги. Потом я осторожно обернула ими все тело Тешомы и накрыла прогретыми над огнем пальмовыми листьями, нарезанными по моей просьбе кем-то из подростков.
Я с трудом могла перемещаться по хижине, куда набилась целая толпа народу. Они молча следили за каждым моим движением, внимательно и настороженно, чтобы не упустить ни единой мелочи. Сидя рядом со мной на корточках, Ирамамове без устали бросал в ночь свои заклинания. Час проходил за часом, и люди постепенно разошлись по гамакам. Нимало не обескураженная их неодобрением, я продолжала сменять остывающие компрессы. Ритими молча сидела в своем гамаке. Ее сплетенные пальцы безвольно лежали на коленях в жесте полнейшего отчаяния. Всякий раз, поднимая на меня глаза, она заливалась слезами.
Тешома, казалось, никак не реагировала на мои хлопоты. Что если у нее не простуда, а что-то другое? Что если ей станет хуже? Уверенность моя заколебалась, и я с таким жаром стала бормотать молитвы за нее, с каким не молилась с самого детства. Подняв глаза, я натолкнулась на взгляд Ирамамове. Он был встревожен, словно понимал сумятицу противоречивых влияний, одолевающих меня в эту минуту, – колдовства, религии и страха. Затем с прежней решимостью он стал петь дальше.
К нам присоединился старый Камосиве, присев на корточки у очага. Предрассветная прохлада еще не вползла в хижину, но сам по себе горящий огонь заставил его инстинктивно придвинуться к нему поближе. Он тоже завел тихую песню. Его журчащий голос успокоил меня; он, казалось, принес с собой голоса ушедших поколений.
Дождь, поначалу решительно и энергично забарабанивший по пальмовой крыше, затем ослабел до легкой измороси, которая погрузила меня в какое-то оцепенение.
Уже почти светало, когда Тешома заметалась в гамаке, нетерпеливо срывая мокрые куски одеяла и обернутые вокруг нее пальмовые листья. Широко раскрыв глаза от удивления, она села и улыбнулась старому Камосиве, Ирамамове и мне, сгрудившимся у ее гамака. – Я хочу пить, – сказала она и одним глотком выпила всю поданную воду с медом.
– Она поправится? – неуверенно спросила Ритими.
– Ирамамове заманил ее душу обратно, – сказала я. – А горячая вода переломила ее лихорадку. Теперь ей нужно только тепло и спокойный сон.
Я вышла на поляну и распрямила затекшие ноги.
Опирающийся о палку старый Камосиве тесно прижал локти к груди, чтобы сохранить тепло. Он был похож на ребенка. Ирамамове остановился рядом со мной по дороге в свою хижину. Не было сказано ни слова, но я точно знала, что мы пережили момент абсолютного взаимопонимания.