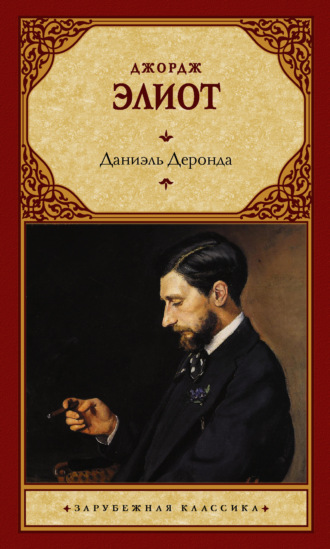
Джордж Элиот
Даниэль Деронда
– Похож на мать, правда?
Тогда Даниэль подумал, что Бэнкс ведет себя глупо, как это часто бывает с крестьянами, смеющимися над тем, что не смешно. Его обидел и сам смех, и то, что о нем говорят так, как будто он ничего не слышит и не понимает. Но сейчас то мелкое происшествие наполнилось иным смыслом: замечание следовало обдумать. Как он мог походить на мать, а не на отца? Мать должна носить фамилию Мэллинджер, раз сэр Хьюго доводится дядей. Но нет! Возможно, его отец – брат сэра Хьюго, а фамилию сменил точно так же, как это сделал мистер Хенли Мэллинджер, женившись на мисс Грандкорт. Но в таком случае почему дядя никогда не говорит о брате Деронда, как говорит о брате Грандкорте? Прежде Даниэль никогда не интересовался генеалогическим древом: знал только о том предке, который в одном бою убил сразу трех сарацин, – но сейчас мысли устремились в библиотеку, к старинному шкафу, где хранились карты поместий. Там Даниэль однажды заметил украшенный вензелями пергамент, и сэр Хьюго объяснил, что это генеалогическое древо. Выражение показалось странным и непонятным – ведь тогда он был маленьким, почти вдвое моложе, чем сейчас, – и пергамент не вызвал интереса. Теперь Даниэль знал намного больше и мечтал изучить его. Он помнил, что шкаф всегда заперт на ключ, и жаждал проверить. Однако порыв пришлось сдержать – кто-нибудь мог его увидеть, а он ни за что не согласился бы признаться в мучивших его сомнениях.
Именно в таких переживаниях детства и закладываются основные черты характера, в то время как взрослые обсуждают, что ценнее в воспитании – естественные науки или классическая литература. Если бы Даниэль обладал менее пылкой и преданной натурой, скрытые переживания и предположение, что окружающие таят от него нечто неприглядное, могли бы возбудить в нем жестокость и презрение к людям. Однако врожденная способность любить не позволила негодованию и чувству обиды одержать верх. В мире не существовало ни одного человека, к которому мальчик не относился бы с нежностью, хотя порою безобидно поддразнивал – всех за исключением дяди. Даниэль любил его так преданно, как способны любить только дети: возможность находиться в одной комнате с отцом или матерью приносит им счастье, даже если те занимаются собственными делами. Цепочка от дядиных часов, его печати, почерк, манера курить, разговаривать с собаками и лошадьми – все мелкие особенности поведения в глазах мальчика обладали очарованием, равным счастливому утру и совместному завтраку. То обстоятельство, что сэр Хьюго всегда причислял себя к партии вигов, делало как тори, так и радикалов в глазах Даниэля одинаковыми противниками истины и добра. А написанные баронетом книги – будь то рассказы о путешествиях или политические памфлеты – обрели статус Священного писания.
Становится понятно, какую горечь испытал Даниэль, когда заподозрил, что объект его искренней, беззаветной любви не так совершенен, как казалось прежде. Дети требуют, чтобы герои в любых ситуациях оставались безупречными, и с легкостью наделяют их желанными качествами. Первое открытие несостоятельности героя способно поразить сознание глубоко чувствующего ребенка не менее жестко, чем поражает взрослого человека угроза крушения привычной веры.
Однако спустя некоторое время после болезненно пережитого потрясения выяснилось, что, задав вопрос о карьере певца, сэр Хьюго всего лишь провел шутливый эксперимент. Он призвал Даниэля в библиотеку, а когда тот пришел, отвлекся от письма и откинулся на спинку кресла.
– А, Дэн! – добродушно приветствовал он, придвигая одну из старинных, обитых потертым бархатом табуреток. – Подойди и сядь здесь.
Даниэль послушался. Баронет положил руку ему на плечо и взглянул с нежностью.
– Что случилось, мой мальчик? Ты услышал нечто такое, что глубоко тебя расстроило?
Даниэль твердо решил не плакать, но не смог произнести ни слова.
– Видишь ли, когда ты счастлив, все изменения кажутся страшными, – продолжил сэр Хьюго, ласково взъерошив черные кудри мальчика. – Ты не сможешь получить то образование, которое я считаю необходимым, без нашего с тобой расставания. К тому же не сомневаюсь, что многое в школе тебе понравится.
Даниэль ожидал совсем других слов, поэтому новость доставила ему огромное облегчение и придала сил.
– Мне предстоит отправиться в школу? – спросил он.
– Да. Я намерен послать тебя в Итон. Хочу, чтобы ты получил образование истинного английского джентльмена, а для этого необходимо окончить хорошую школу и подготовиться к поступлению в университет: конечно, в Кембридж, ведь там учился я.
Даниэль сначала покраснел, а потом побледнел.
– Что ты на это скажешь? – с улыбкой поинтересовался сэр Хьюго.
– Я хотел бы стать истинным джентльменом, – с подчеркнутой решимостью ответил Даниэль. – И даже поехать в школу, если так должен поступить сын джентльмена.
Несколько мгновений сэр Хьюго молча смотрел на мальчика, понимая теперь, почему тот так рассердился, услышав предложение стать певцом, наконец добродушно спросил:
– Значит, ты готов бросить своего старого дядю?
– Нет, не готов, – пробормотал Даниэль, обеими руками сжимая ласковую ладонь. – Но разве во время каникул я не буду возвращаться домой?
– Непременно будешь, – успокоил его сэр Хьюго. – Но сейчас я собираюсь передать тебя новому наставнику, чтобы перед отъездом в Итон подготовить к школьной жизни.
После этого разговора настроение Даниэля заметно поднялось. Значит, дядя видел его джентльменом, и каким-то непостижимым образом может случиться так, что все подозрения окажутся беспочвенны. Острый ум подсказал искать успокоение в неведении, поэтому казалось надежнее отвлечься от пустых размышлений, а взамен предаться затаившемуся в дальнем уголке души юношескому задору и веселью. Время до отъезда в Итон пролетело в песнях, в танцах со старыми слугами, в прощальных подарках и настойчивых напоминаниях конюху о том, как следует ухаживать за черным пони.
– Мистер Фрейзер, как вы думаете, я буду знать намного меньше других мальчиков? – спросил Даниэль. Почему-то ему казалось, что все вокруг удивятся его невежеству.
– Болваны встречаются везде, – ответил рассудительный мистер Фрейзер. – Хуже других ты точно не будешь, но в то же время задатков Порсона[20] или Лейбница[21] у тебя не наблюдается.
– Я не собираюсь становиться ни Порсоном, ни Лейбницем, – возразил Даниэль. – Другое дело – великий герой, как Перикл или Вашингтон.
– Да-да, конечно. Считаешь, что они обходились без грамматического разбора и арифметики? – ехидно заметил мистер Фрейзер, в действительности считая ученика выдающимся парнем, которому все дается исключительно легко – стоит только захотеть.
В новом мире жизнь Даниэля складывалась замечательно за исключением того обстоятельства, что мальчик, с которым ему сразу захотелось крепко подружиться, много рассказывал о доме и родителях, явно ожидая ответной откровенности. Даниэль мгновенно замкнулся, а неожиданный опыт помешал тесной дружбе, к которой он искренне стремился. Все, включая наставника, считали Деронду замкнутым, но в то же время настолько добродушным, скромным, способным к ярким достижениям как в учебе, так и в спорте, что скрытность вовсе не портила его характер. Несомненно, огромную роль в столь благоприятном отношении сыграло лицо Даниэля, но в данном случае его обаятельная красота не таила фальши.
Однако перед первыми каникулами он получил неожиданную весть из дома, усилившую молчаливое переживание затаенного горя. Сэр Хьюго сообщил в письме, что женился на мисс Рэймонд – очаровательной леди, которую Даниэль, должно быть, помнит. Событие не повлияет на его приезд в Аббатство на каникулы. Больше того, в леди Мэллинджер Даниэль обретет добрую подругу, которую, несомненно, полюбит. Сэр Хьюго не сомневался в будущей душевной привязанности и вел себя как человек, который сделал нечто полезное и приятное для себя и просит всех остальных разделить с ним радость.
Не будем строго судить сэра Хьюго до тех пор, пока не выяснятся причины его поступка. Ошибки в его поведении относительно Деронды были вызваны тем вопиющим непониманием чужого сознания, особенно сознания детей, которое часто встречается даже у таких хороших людей, как баронет. Сэр Хьюго лучше всех понимал, что знакомые и незнакомые видят в Даниэле вовсе не племянника, а сына, и подозрение тешило его самолюбие. Воображение баронета ни разу не потревожил вопрос, каким образом загадочные обстоятельства рождения подействуют на самого мальчика – будь то сейчас или в будущем. Он просто любил Даниэля так, как умел любить, и желал ему всевозможного добра. Учитывая ту легкость, с которой относятся к воспитанию респектабельные джентльмены, сэр Хьюго Мэллинджер вряд ли заслуживает особенно строгого упрека. До сорока пяти лет он прожил холостяком и при этом всегда считался обворожительным мужчиной с элегантным вкусом. Что же может быть естественнее, чем отеческая забота о таком прекрасном мальчике, как маленький Деронда? Мать, возможно, принадлежала к светскому обществу и встретилась с сэром Хьюго во время его заграничных путешествий. Возражений не возникало ни у кого, кроме самого мальчика, которого ни о чем не спросили, да и не могли спросить в силу его возраста. Однако и впоследствии никто никогда не задумывался о его чувствах.
К тому времени, когда Деронда собрался поступать в Кембридж, у леди Мэллинджер уже родились три очаровательные малышки, все три – дочери к величайшему разочарованию сэра Хьюго. Желанным ребенком всегда считался сын. В отсутствие наследника титул и все состояние переходили к племяннику сэра Хьюго – Мэллинджеру Грандкорту. Относительно собственного рождения Даниэль уже не сомневался: постепенно стало совершенно ясно, что сэр Хьюго доводится ему отцом. А упорное молчание на эту тему самого баронета подсказывало, что он желает, чтобы сын так же молчаливо осознал этот факт и без лишних слов принял отношение, в котором любой посторонний наблюдатель увидел бы нечто большее, чем должная любовь и забота. Женитьба сэра Хьюго, несомненно, могла бы рассматриваться некоторыми юношами в положении Деронды как новый повод для недовольства. В то же время застенчивая леди Мэллинджер и не заставившие себя ждать девочки рисковали стать объектами презрения, поскольку привлекли к себе значительную часть обожания и средств баронета, забрав их у того, кто считал себя главным обладателем его благосклонности и внимания. Однако ненависть к вставшим на пути невинным существам – глупость, вовсе не свойственная Даниэлю. Даже негодование, в течение долгого времени жившее в душе рядом с преданностью сэру Хьюго, постепенно утратило остроту и переродилось в тупую боль.
Осознание врожденного недостатка – подобно изуродованной ноге, сомнительно скрытой обувью, – может с легкостью ожесточить эгоцентричную натуру. Однако в редких случаях способность воспринимать свое горе лишь крошечной точкой среди множества подобных горестей других переплавляет безутешную печаль в чувство товарищества и сочувствие ко всем несчастным. Изначально наполненная горячим негодованием и уязвленной гордостью впечатлительная натура Деронды заставила его еще в детстве задуматься о некоторых жизненных вопросах, придала новое направление совести, научила сочувствию и самостоятельности в принятии определенных решений – иными словами, вооружила качествами, отличавшими его от других молодых людей значительно больше, чем подаренные природой таланты.
Однажды, в конце долгих летних каникул, после путешествия по берегам Рейна вместе с наставником из Итона, Даниэль вернулся в Аббатство, чтобы провести там несколько дней перед началом семестра в Кембридже, и спросил сэра Хьюго:
– Каким вы видите мое будущее, сэр?
Ранним свежим утром они сидели в библиотеке. Сэр Хьюго призвал юношу, чтобы тот прочитал письмо заинтересованного в студенте университетского профессора. А поскольку баронет выглядел деловитым и в то же время никуда не спешил, момент показался подходящим для серьезной темы, которая еще ни разу обстоятельно не обсуждалась.
– Таким, какого ты сам желаешь, мой мальчик. Я счел необходимым предложить тебе службу в армии, но ты решительно отказался, чем очень меня порадовал. Не жду немедленного выбора: определишься, когда немного освоишься и испытаешь себя во взрослом мире. Университет открывает широкие горизонты. Тебя ждет немало интересных начинаний, а успех часто помогает осознать собственные пристрастия. Судя по тому, что вижу и слышу, я начинаю понимать, что ты можешь выбрать любое занятие по душе. Уже сейчас ты так погрузился в классические языки и литературу, что превзошел меня. А если надоест, Кембридж дает возможность серьезно заняться математикой.
– Полагаю, я должен руководствоваться и финансовыми соображениями, сэр, – покраснев, заметил Деронда. – В недалеком будущем мне придется зарабатывать на жизнь.
– Не совсем так. Конечно, я рекомендую не быть расточительным – да-да, знаю, что к излишествам ты не склонен, но заниматься тем, к чему не лежит душа, тебе не придется. Ты будешь получать достаточное содержание. Наверное, лучше сразу сказать, что ты можешь рассчитывать на семьсот фунтов в год. Такая финансовая поддержка позволит тебе стать адвокатом, писателем или заняться политикой. Признаюсь, что последний вариант мне нравится больше всего. Хочется, чтобы ты всегда оставался рядом и во всем поддерживал старика.
Деронда растерялся. Следовало поблагодарить дядю, однако другие чувства стиснули горло и связали язык. В этот момент вопрос о собственном рождении, как никогда настойчиво, требовал выхода, и все же задать его было еще труднее, чем обычно. И уж совсем немыслимым казалось услышать ответ из уст сэра Хьюго. Щедрость его выглядела тем более поразительной, что в последнее время баронет чрезвычайно заботился о деньгах и старался извлечь максимальную выгоду из пожизненного права на поместья, чтобы обеспечить жену и дочерей. У Даниэля мелькнула мысль, что деньги каким-то образом явились от матери, однако туманное предположение испарилось так же быстро, как возникло.
Сэр Хьюго, кажется, не заметил в манере Даниэля ничего странного и вскоре снова заговорил:
– Я рад, что тебе удалось прочитать немало книг, выходящих за рамки классической литературы, и в достаточной степени овладеть французским и немецким языками. Правда заключается в том, что, если человеку не суждено получить престижную должность и доход университетского профессора, чтобы писать ученые книги, вряд ли имеет смысл превращаться в греко-латинскую машину и наизусть, страницу за страницей, цитировать античные трагедии, уцепившись за любую предложенную строку. Занятие, разумеется, чрезвычайно достойное, но в реальной жизни никто не играет в подобные игры. И вообще хотелось бы обратить твое внимание, что излишек цитат любого рода, даже английских, портит речь. Невозможно жить в относительном душевном покое, не закрывая глаза на тот факт, что все на свете уже было сказано, причем значительно удачнее, чем можем сказать мы. Если уж речь зашла о научной деятельности, то мне доводилось видеть профессоров, занявших видное положение в обществе. В нужное время и в нужном месте они способны поразить всех вокруг своей ученостью, что способствует успехам в политике. Такие люди всегда нужны, так что, если чувствуешь склонность к профессорской стезе, возражать не стану.
– Полагаю, шансы невелики. Надеюсь, вы не очень разочаруетесь, если я не окончу университет с дипломом высшей степени.
– Нет-нет. Я желаю, чтобы ты выглядел достойно, но, ради бога, не стремись уподобляться такому исключительному идиоту, как молодой Брекон: он получил степень бакалавра первого класса по двум дисциплинам, и с тех пор ни на что не годен, кроме вышивания подтяжек. Я хочу, чтобы ты нашел свое место в жизни. Я не против нашей университетской системы: нам необходимо общее умственное развитие, чтобы противостоять хлопку и капиталу, особенно в парламенте. Греческий язык я полностью забыл, и если бы вдруг пришлось перевести строфу, сразу получил бы апоплексический удар. Однако он сформировал мой вкус. Не побоюсь сказать, что благодаря греческому я стал лучше владеть английским.
Даниэль хранил уважительное молчание. Пылкая вера в совершенство литературных опусов сэра Хьюго и в неоспоримое превосходство партии вигов постепенно исчезла вместе с ангельским детским лицом. В Итоне Деронда не отличался всепоглощающей страстью к учебе, хотя некоторые научные предметы давались ему так же легко, как гребля, но в целом юноша не обладал теми способностями, которые требуются для блестящих выпускников Итона. Душа его наполнилась стремлением к широкому всестороннему знанию, которое не соответствует кропотливой работе в узких дисциплинах. К счастью, Даниэль отличался скромностью и любые посредственные успехи принимал просто как факт, а не как неожиданность, требующую компенсации в виде превосходства в иных областях. И все же юноша не окончательно опроверг высокое мнение мистера Фрейзера: он отличался пылкой способностью к сочувствию и живым воображением, не проявлявшимся открыто, но находившим постоянное выражение в деликатных поступках, казавшихся товарищам проявлением нравственной эксцентричности. «Если бы Деронда обладал достаточным честолюбием, то давно бы стал первым учеником» – так о нем нередко отзывались в школе. Но разве может бодро шагать вперед тот, кто отказывается действовать с выгодой для себя, намеренно отступает, находясь на расстоянии дюйма от победы и, вопреки изречению великого Клайва[22], скорее согласится стать теленком, чем мясником? И все же мнение о том, что Деронда был нечестолюбив, следует считать ошибочным. Нам известно, как остро он страдал от мысли, что его происхождение было омрачено позорным пятном. Но иногда случается, что чувство несправедливости порождает не стремление совершать неблаговидные поступки и подниматься по ним как по лестнице, а, напротив – ненависть ко всякой несправедливости. Он переживал вспышки ярости и при случае мог выплеснуть негодование в резких выражениях, однако не в тех случаях, когда это можно было ожидать. Дело в том, что по отношению к себе гневные вспышки с самого детства были подчинены чувству всесильной любви. Тот, кто искренне любит, имеет привычку усмирять самолюбие золотыми словами «ничего страшного», а в итоге горячий нрав постепенно привыкает к смирению. Так получилось, что по мере взросления чувство Деронды к сэру Хьюго все больше и больше приобретало критический характер, но в то же время наполнялось тем уважительным снисхождением, которое примиряет подозрительность с любовью. Прекрасный старинный дом и все, что его наполняло – включая леди Мэллинджер с ее малютками, – оставался для юноши таким же святым, каким был для мальчика. Только теперь он смотрел на все в новом свете. Священный образ уже не казался сверхъестественно безупречным, написанным по божественному указанию, однако создавшая его человеческая рука взывала к почтительной нежности, которую не могло поколебать никакое порочащее открытие. Несомненно, честолюбие Деронды даже в юные годы крайне далеко отстояло от бросавшегося в глаза вульгарного триумфа физической силы – возможно потому, что он рано оказался во власти идей и понес свой факел на вершину. Человек, удерживающий себя от того, к чему другие стремятся, расходует не меньше энергии, а мальчик, которому понравился чужой пенал, нисколько не энергичнее того, кто хочет отдать собственный. И все же Деронда не сторонился неприглядных сцен, а скорее имел привычку наблюдать за ходом события и помогать тому из товарищей, кто не мог сам за себя постоять. Иногда проявление дружеской солидарности компрометировало Даниэля в глазах учителей, но в то же время способствовало его популярности среди учеников. Созерцательный интерес к причинам и следствиям человеческих страданий – проявившийся в сознании Деронды так же преждевременно, как гениальная способность иного рода у поэта, в девятнадцать лет написавшего «Королеву Маб»[23], – отличался такой добротой, что легко сходил за чувство товарищества. Впрочем, достаточно. Жизнь многих наших соседей изобилует не только ошибками и промахами, но и тонкими проявлениями доброты, о которых нельзя не только написать, но и рассказать, – каждый из нас постигает их в меру собственной чуткости.
В Кембридже Даниэль произвел такое же впечатление, как и в Итоне. Каждый, кто им интересовался, приходил к выводу, что юноша мог бы занять высокое положение, если бы обладал большей целеустремленностью и рассматривал учебу только как путь к достижению успеха, а не как средство для развития помыслов и убеждений. Деронда критиковал методы и спорил относительно ценности груза и упряжи – в то время как следовало собраться с силами и упорно его тянуть. Поначалу учеба в университете привлекала новизной: устав от изучения классики в Итоне, Деронда с энтузиазмом занялся математикой, к которой проявил способности еще под руководством мистера Фрейзера, и с удовольствием осознал собственную силу в новой науке. Это удовольствие, наряду с благоприятным мнением наставника, привело к решению получить первую ученую степень по математике. Хотелось порадовать сэра Хьюго заметными достижениями. Занятия высшей математикой, обладавшей свойственной любому интенсивному мыслительному процессу притягательностью, способствовали более сознательной и напряженной работе.
Но здесь возникло препятствие: Даниэль ощутил тягу к основательным научным занятиям, не имевшими ничего общего с требованиями предстоящего экзамена. (Деронда учился пятнадцать лет назад, когда совершенство нашей университетской системы еще не было неопровержимым.) В минуты особенно острого разочарования он упрекал себя за то, что не устоял против условных преимуществ английского университета, и даже обдумывал возможность попросить у сэра Хьюго позволения оставить Кембридж и отправиться учиться за границу, где система образования предоставляла студенту значительную независимость. Ростки этого стремления взошли еще в пору детского увлечения всемирной историей, пробудившего желание путешествовать и в любой стране чувствовать себя как дома подобно средневековым студентам. Сейчас Даниэль мечтал о такой подготовке к жизни, которая не ограничивала бы его узкими рамками одной науки и не лишала выбора, основанного на свободном развитии. Не трудно понять, что главный недостаток Деронды заключался в излишней склонности к размышлениям и сомнениям. Перед ним не стояла цель как можно быстрее начать зарабатывать на жизнь или найти свое место в профессии, а чувствительность к туманному факту собственного рождения заставляла его желать как можно дольше оставаться в пассивном положении. Другие люди, говорил он себе, имели более определенное положение и более ясные обязательства, однако тот проект, который соответствовал его наклонностям, мог так и не выйти за рамки бесплодных раздумий, если бы определенные обстоятельства не ускорили его осуществление.
Обстоятельства эти возникли в результате горячей дружбы, продолжавшейся и в более поздние годы. На одном с ним курсе учился стипендиат из Крайст-Хоспитали, отличавшийся эксцентричностью. Один взгляд на истощенное лицо и спадавшие на воротник светлые волосы заставлял вспомнить старинные работы средневековых немецких живописцев. Отец юноши, известный гравер, умер одиннадцать лет назад, так что мать одна, на крошечный годовой доход, растила и учила трех дочерей. Ганс Мейрик чувствовал себя колонной – точнее, корявым искривленным стволом, на который опирались хрупкие вьющиеся растения. Для надежности этой опоры вполне хватало и способностей, и искренней родственной любви: легкость и скорость постижения наук могла принести Гансу заслуженные призы в Кембридже – точно так же, как, несмотря на странности, приносила в школе. Единственная опасность заключалась в том, что непредсказуемое поведение могло проявиться в любое, порою фатально неподходящее, время. Нельзя утверждать, что Ганс обладал дурными привычками, однако время от времени переживал приступы злого безрассудства и совершал поступки похуже любой дурной привычки.
Тем не менее в здравом уме Мейрик представлял собой милейшее создание, а в Деронде нашел друга, готового постоянно находиться рядом и поддерживать в смутные моменты помрачения, грозившие долгим и мучительным раскаянием. В комнате Даниэля Ганс обитал не меньше, чем в своей: изливал душу в рассказах об учебе, увлечениях, надеждах, бедности родного дома и любви к матери и сестрам, о тяге к живописи и твердом намерении отказаться от призвания ради куска, которым собирался поделиться с семьей. Ответной откровенности Ганс не требовал – скорее воспринимал Деронду как обитателя Олимпа, свободного от любых желаний и потребностей: подобный эгоизм в дружбе распространен среди деятельных, экспансивных натур. Приняв навязанные условия как данность, Деронда уделял Мейрику столько внимания, сколько тот требовал, по-братски заботился о его благополучии, опекал в минуты затмений и находил деликатные способы не только поддержать товарища материально, но и уберечь от неприятностей. Подобная дружба быстро становится нежной: один простирает сильные спасительные крылья, готовые укрыть и защитить, в то время как другой с восторгом принимает горячую заботу. Мейрик упорно стремился получить стипендию по классической филологии, а своими успехами, во многих отношениях выдающимися, в значительной степени был обязан благотворному влиянию Деронды.
Впрочем, проявленная в начале осеннего семестра неосмотрительность угрожала разрушить надежды Ганса. В своих обычных метаниях между лишними тратами и безжалостным самоограничением он заплатил слишком большую сумму за очаровавшую его старинную гравюру, а чтобы компенсировать расходы, приехал из Лондона в вагоне третьего класса, где дул резкий ветер, швыряя в глаза угольную пыль и прочий мусор. В результате развилось тяжелое воспаление, грозившее длительной болезнью. Сокрушительные обстоятельства потребовали от Даниэля бескорыстной готовности посвятить себя помощи страждущему, так что все другие дела отошли на второй план. Он стал Гансу и нянькой, и глазами, корпел вместе с ним и за него над классическими текстами – все ради шанса на спасение стипендии. Чтобы скрыть недомогание от матери и сестер, Ганс сослался не необходимость заниматься и провел Рождество в университете, и Даниэль остался вместе с ним. Помогая другу, он до такой степени ослабил хватку в борьбе с математикой, что Ганс, наконец, задумался и сделал вывод:
– Старик, ты так преданно возишься со мной, что рискуешь собственной учебой. С твоей математической зубрежкой недолго уподобиться Моисею, Магомету или еще кому-нибудь подобному, кто упорно грыз гранит науки, а потом за один день забыл все, что учил сорок лет.
Деронда отказывался признать, что сам видит опасность. Некоторое безразличие к собственным успехам стало следствием двух различных стремлений: с одной стороны, он всеми силами старался помочь Гансу получить жизненно необходимую стипендию, а с другой – ощущал возрождение интереса к античности. И все же когда, спустя долгое время, к Гансу все-таки вернулось зрение, Деронда нашел достаточно сил и упорства, чтобы сделать рывок и восстановить утраченные позиции. Попытка закончилась неудачей, но какое огромное удовлетворение доставила победа Мейрика!
Успех мог бы примирить Деронду с университетским курсом, однако пустота всего на свете, начиная с политики и заканчивая развлечениями, никогда не кажется такой безысходной, как в случае провала. Отсутствие личного успеха не стало для него трагедией столь же мучительной, как осознание напрасно потраченного времени. Напряженная, но безрезультатная работа вызвала отвращение к возобновлению процесса, а отвращение, в свою очередь, превратило смутное желание бросить Кембриджский университет в настойчивое намерение. В разговоре с Мейриком Даниэль дал понять, что рад сложившейся ситуации, освободившей его от сомнений, но в то же время подчеркнул, что в случае серьезного возражения со стороны сэра Хьюго обязан подчиниться.
Радость и признательность Ганса омрачились глубокой тревогой. Он верил в искреннее желание Деронды, но глубоко переживал, что, помогая ему, Даниэль не оправдал доверия опекуна.
– Если бы ты получил стипендию, – печально заключил он, – сэр Хьюго решил бы, что ты просишь позволения оставить университет из высоких побуждений. Ради меня ты упустил свою удачу, а отблагодарить тебя я не могу.
– Еще как можешь! Для этого достаточно всего лишь получить титул лучшего стипендиата. А для меня твоя победа станет идеальным вложением собственной удачи.
– К черту! Ты не даешь утонуть жалкой дворняжке и желаешь видеть ее прекрасной породистой собакой. Поэты написали немало трагедий о том, как ради достижения цели люди готовы совершить любое зло; я же сочиню трагедию о парне, совершившем добро и страдавшем от его последствий.
Ганс написал секретное письмо сэру Хьюго с подробным рассказом о том, что без самоотверженной помощи Даниэля он едва ли смог бы получить ученую степень, к которой так стремился.
Друзья вместе отправились в Лондон: Мейрик для того, чтобы в маленьком домике в Челси отпраздновать успех вместе с матерью и сестрами, а Деронда для того, чтобы собраться с духом и исполнить нелегкую миссию: рассказать сэру Хьюго о своем провале и попросить разрешения оставить университет. Он рассчитывал найти некоторую поддержку в терпимом отношении баронета к любому проявлению эксцентричности и все же ожидал большего сопротивления, чем получил. Сэр Хьюго встретил любимца еще теплее, чем обычно. Провал принял легко, а выслушав подробное изложение причин, побудивших бросить Кембридж и отправиться учиться за границу, некоторое время провел в молчании скорее задумчивом, чем удивленном. Наконец, пристально глядя на Даниэля, он спросил:
– Значит, в конечном итоге ты не хочешь быть англичанином до мозга костей?
– Я хочу быть англичанином, но хочу также знать и понимать иные точки зрения. А главное, я мечтаю избавиться от чисто английского отношения к учебе.
– Что же, все ясно. Иными словами, ты не желаешь становиться похожим на остальных молодых людей. А насчет стремления освободиться от некоторых наших национальных предрассудков мне сказать нечего. Я и сам провел за границей значительную часть жизни и после этого превосходно себя чувствую. Но, ради бога, сохрани английский стиль в одежде и не привыкай к дурному табаку! А еще, мой мальчик, очень благородно проявлять бескорыстие и щедрость, но не заходи слишком далеко даже в добродетели. Нужно знать, где и когда пора остановиться. И все же я не готов согласиться с твоим отъездом. Подожди хотя бы до тех пор, когда я закончу дела в комитете. Тогда я отправлюсь вместе с тобой.







