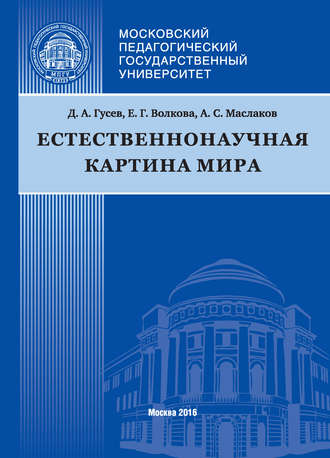
Д. А. Гусев
Естественнонаучная картина мира
Математизация естествознания, начало которой обнаруживается в трактах Кузанца – величайшее достижение науки раннего Нового времени, без которого не состоялось бы внедрение ключевого научного метода, эксперимента. Так через теологию и мистическое постижение тварного мира мышление не просто обретает для себя бесконечность – оно учится работать с ней, оно, можно сказать, обретает ее и приручает ее, рассматривая самого себя как активного ее участника. Дальнейшее ее развитие, выходящее за пределы теологического символизма, осуществил Джордано Бруно. Космос в его учении предстает бесконечной одушевленной материей, в которой жизнь (одушевленность) присутствует в любом уголке, а звезды представляют собой далекие Солнца, то есть центры бесконечного количества бесконечных миров. Бруновский Космос уже совсем не символичен, как символична была Вселенная Кузанского – он вполне онтологичен, ощутимо-осязаем, реально-действителен. Именно в этом Космосе живет человек, затерянный в бесконечности миров, – и именно от гражданства того Космоса не пожелал отказаться сам Бруно даже перед лицом трибунала Святой инквизиции.
Открытие бесконечности имело огромное значение для эволюции мышления на рубеже эпох. Замкнутый мир качественно определенных вещей сменялся бесконечным пространством, в котором любые качества превращались лишь в функции количества.
§ 4. Эксперимент и математика
Итак, мы обозначили две основополагающие точки революционного теоретического прорыва. Первая точка – это открытие бесконечного мира, его принятие и умение его мыслить в конечном и через конечное. Вторая точка – смещение геоцентризма с доминирующих позиций и открытие дискуссии по поводу наилучшего объяснения устройства Космоса.
За видимым триумфом коперниканства и его первоначальными успехами (гипотеза Коперника позволила, как было показано выше, лучше и проще, с точки зрения математики, объяснить ряд фактов, особенно связанных с так называемым «нижними» планетами Меркурием и Венерой) очень быстро пришло разочарование, ибо модель Коперника не только не упростила эпициклические птолемеевские схемы, но в ряде случаев, как показали дальнейшие ее разработки, их усложнила. Именно поэтому часть ученого сообщества уже в середине XVI столетия встречала гипотезу Коперника со скепсисом и без особого восторга.
Другие ученые, признав правоту исходного тезиса Коперника о том, что в районе воображаемого центра Космоса (условного центра орбит планет) обнаруживается Солнце, утверждали, что само Солнце все равно движется вокруг Земли, одновременно признавая тем самым правоту и Аристотеля – Птолемея, представляя вращающуюся вокруг Солнца Землю центром орбит всех остальных планет. Это позволяло использовать все математические достижения Коперника и одновременно минимизировать противоречия в его модели. Описанную выше версию устройства Космоса выдвинул и отстаивал известный датский астроном и алхимик Тихо Браге. Будучи блестящим наблюдателем и организатором наблюдений, создатель Ураниборга, крупнейшего астрономического центра того времени, в ходе своих исследований пришел, в частности, к выводу, что кометы – не атмосферные явления (то есть явления подлунного мира, как считала аристотелевская традиция), а космические физические объекты, находящиеся за лунной орбитой. Дальнейшие наблюдения за кометами показали, что траектории их движения пересекают планетарные орбиты. Пришло время окончательного отказа от «хрустальных» сфер, внутри которых движутся планеты. Движение всех планет и комет, таким образом, Браге рассматривал как движение вокруг Солнца, тогда как само Солнце понималось также как движущееся – вокруг Земли. Дело в том, что однозначных фактов, свидетельствующих о движении Земли вокруг Солнца в то время еще не было известно, а Земля же никак свое движение не проявляла и ни в каких опытах его не обнаруживала. Такой компромисс мог устроить многих, и прежде всего инквизицию, ревностно охранявшую основные положения старой картины мира от критики.
Подобного рода интеллектуальные вариации еще не несли в себе сами по себе никакой революционности, хотя, конечно, свидетельствовали об определенном «брожении умов» в среде интеллектуальной элиты. Однако во второй половине XVI в. на передний край науки выдвигается ученый, страстно заявивший о желании совершить революцию, создать новую науку и заложить основы для будущего теоретического рывка. Это был Галилео Галилей – итальянский ученый, видный мыслитель позднего Возрождения, объединивший в своем творчестве как достоинства, так и недостатки своей бурной эпохи. Галилей первый открыто объявил войну Аристотелю, Галилей первый целенаправленно потряс самые чувствительные места аристотелевско-птолемеевской картины мира, Галилей сознательно разрушил не только старую физику, но и метафизику, нанеся удар по основам традиционного мышления Средневековья.
Как отмечают многие биографы Галилея, последний, окончательно и бесповоротно разрушив старую модель физики, не создал никакой своей собственной законченной теории. Действительно, ученым, сумевшим сформулировать новую интегративную концепцию, которая большинство из известных на тот момент науке фактов и сводила их в логичное завершенное целое, стал впоследствии И. Ньютон. С другой стороны, там, где Галилей все-таки пытался дать положительные ответы на поставленные вопросы, у него часто возникали проблемы. Ряд выводов Галилея нельзя не признать ошибочными, с точки зрения последующих достижений естествознания. Так, например, Галилей пытался связать приливы с суточным вращением Земли, признавал круговое движение по инерции «естественным», не мог объяснить движение планет вокруг Солнца и т. д. Помимо прочего, Галилея часто подводила собственная абсолютная убежденность в правоте, мешающая слушать доводы здравого смысла, и яростная горячность, с которой он любой ценой бросался защищать свои позиции. Галилей часто пытается убедить читателя-собеседника чисто риторическими приемами, нежели докопаться до истины, недаром большинство его значимых произведений написаны в жанре диалога, воспроизводящего жаркую полемику автора с его противниками.
Тем не менее Галилей, опираясь на гелиоцентризм Коперника и бесконечность Вселенной Кузанца и Бруно, заложил в основание нового научного знания два краеугольных камня, радикально предопределивших его внутреннюю логику и внешний образ. Без них новая наука никак не смогла бы стать той наукой, которую мы все знаем и основы которой изучали в школе. Первым таким камнем стало окончательное разрушение границ между надлунным и подлунным мирами. Вторым – создание и широкое применение экспериментального метода. И первый, и второй камень стали, условно говоря, главными инструментами продвижения галилеевской мысли в ее постижении законов природы. Один взаимополагает другой.
Главный удар по аристотелевской концепции «двух миров» был нанесен волей-неволей еще Коперником, поскольку в его модели «подлунность» становилась областью одной из планет, а не фундаментальным уровнем бытия Космоса. Тем не менее Коперник предпочел не акцентировать на этом внимание, поскольку вообще проблема «надлунности-подлунности» для целей его теоретической модели была, по большому счету, методологически безразлична. Для Галилея же это имело значение прямое, принципиальное, поскольку при сохранении границ между мирами эксперимент был бы невозможен. Продолжал бы действовать «антиэкспериментальный» аргумент Аристотеля: нельзя по процессам подлунного мира судить о происходящем в надлунном, нельзя по несовершенному движению (например, падению тел на Землю) судить о движении совершенном (о движении планет и сферы неподвижных звезд). И хотя логически Галилей мог вынести эту проблему за скобки, приняв, в конце концов, тезис о бесконечности Космоса (на этом бесконечном фоне, само собой, конечный подлунный мир просто исчезал в ходе совпадения минимума с максимумом), здесь ученый действовал в основном с опорой на факты, а не на логику.
Как известно, практическим открытием, обеспечившим Галилею успех его начинанию, стало изобретение им телескопа – усовершенствование так называемой «зрительной трубы» (хотя, по большому счету, ученый формально делит здесь первенство с Хансом Липперсгеем). Именно телескоп позволил Галилею обнаружить фазы Венеры, доказывающие ее вращение вокруг Солнца, пятна на Солнце и горы на Луне, доказывающие неидеальную природу последних (ибо рельеф есть на неидеальной Земле, но не на идеально гладкой Луне). И Солнце и Луна принадлежали, по Аристотелю, к надлунному миру, наличие же пятен (к тому же еще и движущихся, что свидетельствовало о вращении Солнца) и рельефа не позволяло утверждать, что у них идеальная природа. Наконец, Галилей обнаружил спутники у одной из планет (у Юпитера), что еще раз опровергало аргумент как противников Коперника о том, что единственным центром вращения в Космосе является Земля, так, кстати, и частичных сторонников Коперника, вроде Тихо Браге, считавших таковыми Землю и Солнце.
Эти открытия, замечательные сами по себе, существенно обогащали знания об окружающем мире, но никакого переворота в науке еще не делали. Более того, некоторые ученые очень скептически отнеслись к показаниям телескопа, поскольку Галилей не мог дать гарантии того, что телескоп не искажает картинку, например, не удваивает изображение, не растягивает его или не меняет его цветовую гамму. Подобные эффекты можно часто наблюдать в системах, составленных из нескольких линз или зеркал, в том случае, если фокусы их подобраны неправильно. Другая проблема – искажает или не искажает телескоп размеров тел, в частности звезд? И если искажает, то насколько? Сам Галилей неоднократно демонстрировал работу телескопа, предлагая посмотреть всем желающим через него на дальние объекты или, как вариант, в чужое незашторенное окно. Любой, таким образом, мог убедиться, что относительные размеры тел передаются без искажений.
Эти опыты вызывали определенный интерес у публики в Падуе, Пизе, Венеции и особенно в Риме, куда Галилей приехал по специальному приглашению папы. Однако у ученых, современников Галилея, в запасе всегда оставался аргумент: здесь мир подлунный со своими законами, а там мир надлунный. В логике науки той эпохи на эмпирическом уровне возразить на это Галилею было нечем. Но дело в том, что для Галилея как мыслителя рассуждавшего в категориях совершенно новой интеллектуальной практики, здесь не было проблемы, поскольку опытное доказательство для него имело иной смысл, нежели для его коллег. Опыт для него стал экспериментом. Схема эксперимента состоит, на первый взгляд, в серии очень простых операций. Берется утверждение, как правило, в контексте физики Аристотеля – Птолемея (а), вводится предположение, как дело должно обстоять само по себе (б), проводится опыт или серия опытов (г) и делается вывод (д) о том, что правильно – (а) или (б). Однако против Аристотеля такая схема не может служить универсальным способом опровержения, поскольку аристотелевские представления неплохо согласуются с данными обыденного повседневного опыта. Поэтому Галилей вводит еще один важный компонент, который не так просто обнаружить с первого взгляда. Попытаемся понять, в чем дело, на конкретных примерах.
Пример 1. По мнению Аристотеля, чем тело тяжелее, тем быстрее оно должно падать на Землю. Если речь идет о падении двух тел одинаковой формы в одной среде, то быстрее падать будет более тяжелое. Представим себе, говорит Галиле, легкое (1 единица) и тяжелое (5 единиц) тела, соединенные цепью, тяжестью которой можно пренебречь. Тяжелое тело, падая быстрее, увлекает за собой легкое, однако легкое тело, падая медленнее, будет замедлять падение тяжелого. Соединенные в систему тела будут в сумме иметь тяжесть в 6 единиц, однако падать эта система будет медленнее, чем падает само по себе тело тяжестью в 5 единиц, поскольку легкое тело в системе замедляет падение тяжелого тела. (Можно вообще представить себе любое сложное тело, состоящее из простых тел разной тяжести, и спросить, будут ли более тяжелые его части падать быстрее, а более легкие медленнее?) Таким образом, обнаруживается фундаментальное противоречие, позволяющее Галилею отбросить одно из существенных положений концепции Аристотеля и выдвинуть свой тезис о том, что скорость падающего тела никак не зависит от его массы. Конечно, вы скажете, что скорости тел в данном случае должны складываться, а не вычитаться, поскольку тяжелое тело увлекает легкое за собой, но это мнение как раз свидетельствует, что мыслим мы в категориях Галилея, а не Аристотеля. Ведь для последнего тяжесть тела есть сущностное качество вещи, имеющей свое собственное место в Космосе и стремящейся к нему. Иначе говоря, в аристотелевской картине мира характеристики движения задаются в том числе и структурой неоднородного и неизотропного пространства, точки которого не выступают по отношению к телам в качестве нейтральных. Галилей же здесь вплотную подходит к мысли о том, что идеальное движение тел может быть и должно быть рассмотрено как движение в пустом однородном пространстве, то есть пустоте, которой, по Аристотелю, не существует.
Пример 2. Аристотель утверждает, что всякое тело стремится занять свое собственное место в мире, в котором его движение прекратится и наступит покой. Иначе говоря, тело стремится к покою, и как только действующая причина прекратит свое действие, покой неизбежно наступит. Так ли это? Представим себе, говорит Галилей, что тело, например шарик, катится по наклонной плоскости А относительно поверхности Земли. К плоскости А в ее нижней точке присоединена еще одна наклонная плоскость В, зеркальная по отношению к А, так что А и В имеют вид раскрытой книги. Если по плоскости А шарик скатывается вниз, то по плоскости В шарик поднимается вверх. Итак, внимание: шарик начинает движение по плоскости А с определенной высоты, достигает точки пересечения плоскостей, которая может быть принята как нулевая высота, двигается далее по плоскости В. До каких пор должен двигаться шарик по плоскости В? Где та точка, в которой шарик остановится и начнет обратное движение? Галилей доказывает: шарик должен подняться на ту же высоту, что и высота начала движения на плоскости А, независимо от угла наклонов плоскостей относительно друг друга и земной поверхности. Чем ниже угол наклона плоскости В к земной поверхности, чем более В полога, тем дальше должен проникнуть шарик по В. Следовательно, шарик, пущенный из одной и той же точки на плоскости А, будет проходить все большее расстояние по плоскости В с уменьшением ее наклона. Но что произойдет, если угол наклона В станет равен нулю, то есть плоскость В станет горизонтальной? Шарик, предполагает Галилей, будет двигаться, пока не достигнет высоты, с которой стартовал на плоскости А, то есть если не возникнет никаких препятствий… бесконечно.
Пример 3. Упростим приведенную выше ситуацию. Представим шар, двигающийся по наклонной к поверхности Земли плоскости из верхней точки в нижнюю. Для того чтобы шар начал движение, необходимо сообщить ему некоторый импульс (количество движения). Далее шар начнет равноускоренно двигаться к нижней точке. Теперь представим, что плоскость наклонена к поверхности Земли под другим углом (подобно плоскости В в предыдущем примере). Шар в таком случае будет двигаться замедленно до полной остановки в той или иной точке. И в первом и во втором случае еще возможно аристотелевское объяснение, согласно которому легкие тела стремятся вверх, тяжелые – вниз. Тяжелый шарик будет стремиться к «наилучшему» положению. Далее, предположим, что плоскость параллельна, горизонтальна поверхности Земли или совпадает с ней. Так что шарик будет двигаться не вверх или вниз, а горизонтально. Как будет в таком случае двигаться шар? Ответ Аристотеля: пока не остановится на «своем», «наилучшем» месте уже исключен или выведен за скобки структурой экспериментального вопроса. Потому ответ Галилея: бесконечно вперед, пока какое-либо вмешательство не остановит его или не изменит характеристик его движения.
Особенность приведенных выше экспериментов в том, что их невозможно в чистом виде реализовать практически с заданными результатами. Более того, если мы их реализуем, то результат будет близок к аристотелевскому. Возьмем первый эксперимент, который Галилей, по легенде, сам проводил на Пизанской башне, сбрасывая вниз тяжелые и легкие тела. Легко обнаружить, что в построении этого эксперимента больше логики и рассуждений, чем опыта. Кстати, сегодня при помощи так называемых «трубок Ньютона» можно наблюдать свободное падение тел в вакууме, когда дробинка и пушинка падают с высоты вниз одновременно. Уже в ХХ в. американский астронавт Д. Скотт на поверхности Луны наблюдал, как молоток и перышко, одновременно брошенные с одной высоты, падали также одновременно. Однако в условиях земной гравитации при отсутствии особо точных приборов, галилеев результат выглядит неубедительно: в воздушной среде в реальном опыте быстрее падает более тяжелое тело. Дело заключается в том, что Галилей не просто проводит опыт в качестве давно известного научного метода, он обосновывает необходимость опыта, включенного в эксперимент, причем эксперимент мысленный, а не чувственный. Отсюда первый парадокс Галилея: призывая получать знания непосредственно у природы, а не из схоластических книжек, ученый призван работать не с природой чувственной, как она есть, но с природой, уже схваченной разумом и им в той или иной степени осмысленной.
Еще раз внимательно посмотрим на эксперименты Галилея. Легко заметить, что каждый из них в какой-то момент времени включает процедуру идеализации, то есть от видимых глазу процессов разум каким-то таинственным образом должен перейти к процессам невидимым непосредственно, но с необходимостью очевидным нашему интеллектуальному взору. Так, мы можем наблюдать движение шарика по горизонтальной поверхности лишь какое-то время, пока шарик не достигнет ее границ. Но в момент, когда ее границы достигнуты, наше зрение должно особым образом переключиться с конечной плоскости на бесконечную. Так здесь начинает работать новый принцип новой эпохи – осмысление конечной реальности через бесконечное целое уже не на символическом (как у Кузанца), а на онтологическо-гносеологическом уровне (как у Бруно). Так Космос Аристотеля начинает превращение в знакомую нам всем Вселенную.
В этом, отмечают многие исследователи, и заключается одна из тайн эксперимента Галилея – в перемещении конечных процессов, событий, объектов, данных нам тем или иным образом как конкретно-чувственные, в контекст бесконечности, который нельзя ощутить, но который можно раскрыть в мышлении. Галилей не столько опровергает Аристотеля реальным опытом, как он сам заявляет, сколько переносит анализируемые опыты в качественно иной контекст. Каждый опыт, таким образом, дополняется важной системообразующей деталью: опыт происходит не сам по себе, но в контексте целого, бесконечного мира, развернутого мыслящим разумом для самого себя и внутри самого себя. Наблюдать в опыте теперь нужно не сам по себе опыт как последовательность событий, не чувственно данное, не конкретно происходящее, но некие действия в бесконечности, рассмотренные как нечто абсолютно целое, завершенное и совершенное.
Любой конкретный опыт становится, таким образом, для разума незавершенным, а значит, ни о чем не говорящим. Из того, что я вижу, что, например, кусок свинца и кусок дерева упали с высоты на землю не одновременно, я не могу извлекать никаких следствий, ибо само по себе это вообще ничего не значит. Данное падение необходимо рассмотреть под особым углом интеллектуального зрения, а именно – в контексте падения тел в пустоте, в бесконечности, при отсутствии сопротивления среды. Конечно, наблюдать такое невозможно. Возможно наблюдение в средах различной плотности, где со снижением сопротивления среды скорость тел, имеющих разную массу, становится все менее и менее различной. Это бесконечное уменьшение сопротивления среды, пропорциональное бесконечному уменьшению разности скоростей, можно проводить до бесконечности, как и любой чувственный опыт.
Для того чтобы сделать вывод абсолютный, завершенный и законченный, необходимо от бесконечного опыта как основы рассуждений перейти к бесконечному Космосу (Вселенной) как целому, определяющему в себе любой конкретный опыт. Такой переход Галилей совершает введением пустоты и одновременно-одномоментным уничтожением разности скоростей падающих тел. Особое свойство тела не открывается в эксперименте, оно вводится им как характеристика идеального «невозможного» объекта, существующего не в пространстве чувственного наблюдения, но бесконечного целого Космоса, открытого в своей бесконечной целостности разуму.
Такой исчисляемый разумом Космос должен иметь математическую структуру, а значит, точно описываться имеющими математическую форму и способы выражения законами. Именно это и позволило Галилею сказать ставшей уже хрестоматийной фразу: «Книга природы написана на языке математики». Речь, конечно, идет не о непосредственно данной в опыте природе (мы уже видели, что с этой природой разум фактически не имеет дела в своих экспериментах), а о природе, развернутой перед разумом в своей целостности и бесконечности. Пространство здесь становится геометрическим, то есть однородным и изотропным; объекты превращаются в идеальные фигуры и т. д. Это опять же становится возможным в системе целостного бесконечного Космоса, в котором исчезают и порождаются все различия, в котором все тела становятся соизмеримыми, в котором можно осуществлять превращение кривой в прямую и обратно. Такое становится возможным при перемене фокусировок нашего интеллекта, четко понимающего и осознающего свои задачи и цели и реализующего их через эксперимент.
На этом фоне теряет смысл старое, еще античное понимание невозможности применения математики для описания происходящих в реальном мире процессов, поскольку любая работа математики требовала точности измерений. Последними не могла похвастать ни античная, ни средневековая теоретическая мысль. Галилей настаивает, что математический аппарат можно и нужно использовать для формулировки законов природы, однако эти законы и не даны человеку в чувственно ограниченном мире несоизмеримых и неповторимых качественно определенных объектов. Тот мир, законы которого открывает Галилей, позволяет соизмерить и соотнести в бесконечности любые объекты. Введение эксперимента открыло путь к математизации естествознания. Сам Галилей проделал огромную работу, чтобы доказать, что задача измерения тех или иных параметров процесса движения (например, времени) вполне технически решаема, но техническое решение само по себе ничто без метафизического обоснования его необходимости.
Дальнейший успех такой математизации и всей научной программы в целом зависел еще от одного важного следствия работы Галилея. Дело в том, что Галилей радикально меняет фокусировку научного вопрошания: от «почему?» мы переходим к «как?», или иначе, от вопроса о причинах движения, как такового, совершается переход к вопросу о причинах изменения движения, то есть об ускорении. Скорость присуща телу самому по себе. Нет смысла спрашивать, почему тело движется, имеет смысл спрашивать, почему оно движется быстрее или медленнее. Различие же скоростей (разница ускорений) вызывается внешними причинами – средой или другими телами. Задачей науки становится математическое описание процесса движения, а не поиск его исходных причин. Важно не то, каковы причины движения, а то, почему это движение изменяется.
Правда, сам Галилей применяет математику в основном как иллюстративный материал для риторического усиления приводимых им доказательств. Здесь наблюдается та же тенденция, что и с другими открытиями Галилея: стремясь обосновать правоту своих исходных позиций, ученый больше заботится об основаниях и их логической безупречности, чем о следствиях. Поясним примером. Галилей выдвинул тезис, блестяще им доказанный, что движущееся тело может совершать одновременно два типа простого движения, накладывающихся друг на друга. Снаряд, пущенный из ствола орудия, движется горизонтально, одновременно падая на Землю (к центру Земли). Сочетание этих движений в процессе взаимоналожения в реальном сложном движении дает параболическую траекторию движения снаряда, причем горизонтальное движение здесь рассматривается как равномерное.
Однако, распространив этот вывод на движение планетарного масштаба, Галилей пришел к ошибочному результату. Почему планеты двигаются вокруг Солнца? Почему Луна вращается вокруг Земли? Представим себе – как будет двигаться снаряд, если ему сообщить достаточную для облета Земли скорость? Галилей предполагает, что снаряд будет перемещаться строго вокруг Земли, по орбите, напоминающей орбиты современных искусственных спутников. С точки зрения Галилея, рассуждая в масштабах планетарной системы, горизонтальное движение можно рассматривать лишь как частный случай кругового, тем более что в бесконечности можно принять дугу окружности и касательную к ней (прямую) как совпадающие. Поскольку Галилей не мог объяснить иначе природу круговых орбит планет, он вынужден был вернуться к понятию «естественного кругового движения» и предположить, что инерциальное движение возможно и как прямолинейное (частный случай), и как круговое. Окончательно выбор в пользу прямолинейности инерции будет сделан и математически подтвержден Р. Декартом.







