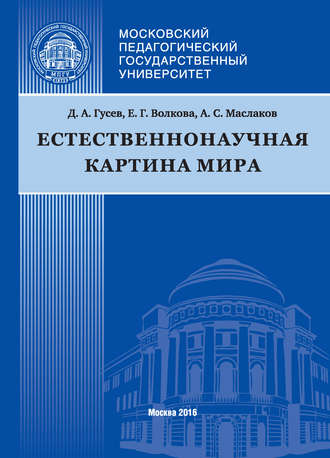
Д. А. Гусев
Естественнонаучная картина мира
§ 3. Разработка методологии: вера или разум?
Радикальное изменение целей познания потребовало радикальной постановки вопроса о методах постижения Истины. Если основная сложность для античных ученых была связана с поиском пути, открывающего соразмерность мысли и Космоса и реализующегося как интеллектуальное созерцание (теория), то основная задача средневековой теоретической мысли выглядела еще более сложной, поскольку предполагала поиск путей не к природе и Космосу (где человек и живет по преимуществу), а за их пределы – к сверхъестественному абсолютному суверенному Творцу. С другой стороны, эта сложность частично облегчалась качественно иным отношением к разыскиваемой истине. Для античного ученого истина условно выглядела как отстраненно-холодная всесовершенная красота, которая всегда остается чуждой человеку внешней силой безжалостной судьбы, с которой невозможно общение, от которой бессмысленно ждать ответа на свои чувства. Для средневекового теолога ситуация была иной. Да, грехопадение разорвало связь человека и трансцендентного Бога, но Бог продолжал оставаться личностью, любящей человека и ждущей от него ответной любви. Отсюда обязательная черта всякой методологии средневекового теоретика: живое чувство к Богу, определяющее и всю методологию в целом в плане ее направления.
Другой контекст методологического развития средневековой мысли – это дискуссия о вере и разуме как путях движения к истине. Дискуссия эта возникла в последние века античности и была связана с теми спорами, которые велись ранними христианскими и античными теоретиками. Суть этих споров вкратце состоит в следующем. В первые века христианство не особо нуждалось в теоретическом обосновании и не вступало в активное противостояние с античной культурой и лежащей в ее основе весьма своеобразной рациональностью. Распространение христианства и его проникновение в среду образованных людей высших сословий заставило античных ученых обратить, наконец, внимание на этот своеобразный феномен. Античная теоретико-философская мысль достойно приняла вызов, создав множество произведений (до нас по понятным причинам не дошедших), с которыми приходилось спорить теперь уже христианским мыслителям-апологетам (защитникам веры). В целом, в христианской апологетике достаточно быстро образовались две линии: латинские апологеты, самым ярким и радикальным из которых был Тертуллиан, призывающие полностью отречься от античного теоретико-философского наследия, мотивируя это самыми разными аргументами, прежде всего, конечно, языческим характером античной культуры; и греческие апологеты, в лице, например, Оригена Александрийского, считавшие, что античное теоретико-философское знание должно быть изучено и по возможности воспринято христианством, поскольку содержит в себе уникальный опыт постижения истины (то есть поиска спасения) задолго до пришествия Христа. Эти две условные линии сохранились и тогда, когда эпоха христианской апологетики завершилась.
Первый этап становления христианской мысли тесно связан с так называемыми отцами церкви и получил название «патристика». Его представители, самым, пожалуй, ярким из которых был Аврелий Августин, несмотря на широкое использование античной теоретической мудрости в своих трудах, отдавали, в целом, предпочтение вере, то есть истине Откровения. Смысл ее в следующем: человек настолько слаб и не способен самостоятельно постичь истину, что рассчитывать ему остается только на Бога, который ему эту истину приоткроет, сочтя его этой истины достойным. Дело истины, как и дело спасения, целиком оказывается в божественных руках, поскольку человек не может подготовиться к откровению или со своей стороны сделаться достойным его вынести – достойным его делает Бог своим актом выбора, никак иначе.
Здесь, конечно, частично сказывается напряженный путь к вере самих представителей патристики. Августин, в частности, испытал весь ужас отчаяния неверия – ужас еще более сильный оттого, что разумом к этой истине он давным-давно пришел. Но, придя к истине разумом после долгих исканий и разочарований, убедившись, что это то, что ему нужно, он вдруг обнаружил, что невозможно совершить последний шаг, без которого обретение истины не состоится, – невозможно поверить и принять истину сердцем, даже если человек очень этого хочет. Этот тот пункт, где человек бессилен без Бога. Впоследствии Августин прямо будет указывать, что сам акт веры нисколько не является заслугой самого по себе человека, поскольку исходит не от человека, а от Творца. К счастью, для Августина все закончилось хорошо, однако он очень хорошо усвоил, что без веры разум слеп, знание пусто, а истина недостижима. Отсюда правило Августина: все, что я понимаю, в то я верю, но не все, во что я верю, я понимаю. И если непонимание спасается верой, то обратный ход не возможен, ибо разум не в состоянии компенсировать отсутствие веры и Божественного откровения.
В начале второго тысячелетия позиция по указанному вопросу несколько трансформировалась. Лучше всего эту трансформацию выразил богослов Ансельм Кентерберийский следующим афоризмом: «я верю, чтобы понимать». Это еще не возвращает разум на ведущие позиции в познании (в средневековую эпоху такой последовательный возврат и не произойдет), но все-таки означает его частичную реабилитацию. Если в эпоху патристики разум часто рассматривался не просто как тупиковый путь сам по себе, а как помеха для веры, помеха, которую нужно убрать уходом в полный иррационализм («абсурдность», как говорил Тертуллиан, должна в таком случае стать критерием истины), то теперь эта человеческая способность трактуется в контексте образа Бога в человеке, наряду со свободной волей и бессмертной душой. Разум становится верующим, вера – разумной. Иррациональная вера, никакого отношения к разуму не имеющая, понимается как вера слабая, как нечто уже почти превратившееся в суеверие. Неразумный крестьянин, посещающий церковь и искренне считающий себя христианином, может молиться святому о дожде, а в случае отсутствия дождя повесить икону незадачливого святого вверх ногами или выбросить ее в наказание в дорожную пыль. Знающий, разумный христианин понимает, что это – язычество, то есть суеверие, и не поступит так никогда.
Отличительной особенностью новой эпохи становится поиск рациональных доказательств бытия Бога. Для чего же философы-теологи ищут эти доказательства? Ведь как люди верующие, они не нуждаются ни в каких доказательствах божественного присутствия, вера дает им знание этого. Одной из причин этого является демонстрация возможностей разума, направляемого верой. Впоследствии, в Новое время, немецкий философ Иммануил Кант придет к выводу, что все эти «доказательства» содержат логические ошибки и по сути своей доказательствами не являются, поскольку вопрос о существовании сверхъестественного абсолютного существа вообще не находится в компетенции разума. Сегодня многие авторы демонстрируют указанные ошибки в доказательствах, в частности распространенную ошибку под названием «логический круг». Но неужели сами теологи Средневековья не видели этих очевидных ныне ошибок? Дело, думается, здесь в ином, а именно в том, чтобы обосновать очень важный для многих из них тезис: правильно мыслящий человек неизбежно мыслит как христианин, даже если он ничего не знает о Христе и о спасении. Верующий разум, таким образом, становится еще одним путем, ведущим к истине, а не от нее. Главное же здесь то, что разум без веры перестает быть разумом – он превращается в рассудок, который сам по себе ни на что не способен, кроме как логически исчислять субъекты и предикаты, не понимая, куда нужно двигаться и зачем. Такое симбиотическое взаимодействие веры и разума величайший теолог Средневековья Фома Аквинский назвал «гармонией», то есть устойчивым соединением.
Сегодня нам эта эпоха известна под названием «схоластика» (лат. scholastica от греч. σχολαστικός – школьный, ученый) – «школьное учение» или учение «учителей». Помимо указанных выше моментов, схоластика определялась еще рядом весьма важных факторов. Первый фактор – появление университетов. Так совпало, что пробуждение разума совпало с пробуждение городской жизни, торговли и интереса к самым разным знаниям. Университеты стали уникальной структурой, объединявшей в корпорации студентов и преподавателей, но и задающей определенный стандарт в преподавании, в том числе и теологических дисциплин. Богослов теперь должен был не только уметь умно и тонко рассуждать об откровении в своей келье, но и отстаивать свою позицию в публичной дискуссии. Это парадоксальным образом привело как минимум к двум важным последствиям. Во-первых, богословие оказалось сильно заинтересованным в формальной логике, прежде всего Аристотеля. На этом фоне реабилитация ряда элементов учения Аристотеля, в том числе и физики, была уже не за горами. Во-вторых, каждый ученый высказывался теперь не столько от своего имени, сколько от имени «школы», то есть от имени богословской истины, как таковой. Радикально изменился приоритет – целью ученого стало не открытие нового знания, а раскрытие новых смыслов и толкований уже имеющегося. Новое знание становилось опасным, поскольку новизна очень близко подводила человека к ереси, даже если сам человек этого не подозревал. Отсюда следование форме, стилю, школе, а также всем нам знакомая система ссылок, система глосс (определений и пояснений на полях книг, отсюда – современные глоссарии) и другие элементы так называемой книжной культуры, дожившие до сегодняшнего дня.
Возникновение университетов хронологически совпало с расцветом эпохи Крестовых походов, во многом ставших главными и знаковыми событиями Средневековья, как такового. Сами по себе походы уже означали – если не брать их кровавую военную составляющую и все, что с ней связано, – мощнейший контакт между Востоком и Западом. Европейская мысль, как сквозь сон, через арабо-сирийские переводы и интерпретации, начала вспоминать свою богатейшую античную предысторию, обнаруживая для себя в ней все новые и новые клады интеллектуального сокровища. Выяснилось вдруг, что идеи поздних эллинистических философов и ученых, почти забытые из-за их споров с христианскими апологетами, а то и просто запрещенные церковью, прекрасно сохранились в различных культурных слоях арабской интеллектуальной культуры. Европейский образованный слой вдруг обнаружил, в том числе и в них, глоток свежей мысли древности, а древность тогда воспринималась как гарантия истинности знания самого по себе.
Сказанное выше позволяет понять, насколько серьезен был вызов, брошенный самой эпохой церкви, уже привыкшей выступать от имени единственного хранителя интеллектуальных традиций и вообще от имени хранительницы Истины. И появление схоластики в какой-то мере является ответом на этот вызов. Церкви вновь приходится вести дискуссии, как и в первые века христианства, с одним, правда, отличием: схоластика разворачивается и реализует себя в условиях уже сложившейся, а не складывающейся традиции, в условиях сформировавшегося Священного предания, а не споров о догматике. Это означает, что одним из положений схоластической методологии становится позиция, согласно которой истина уже полностью дана в Писании и в Предании, и ничего принципиально нового человек не просто открыть не в состоянии – ему ничего нового и не может быть дано. Вопрос только в том, как именно оно дано, в какой форме. Форма эта – символический текст, который, несмотря на то что истина в нем дана полностью, может быть прочитан бесконечное количество раз, поскольку символизация и предполагает такую множественную игру значений. Схоластика, таким образом, становится искусством чтения и комментирования текстов Писания и Предания с целью выявления истины, или истин, уже заранее полностью данных внутри чистого символизма. Здесь огромную роль начинает играть формально-логический аппарат как универсальная основа для любой дискуссии, что во многом приведет усилиями Альберта Великого и его ученика Фомы Аквинского к реабилитации Аристотеля и оправданию его в глазах схоластической теологии.
Тем не менее главным в таком символическом прочтении остается доказательство своей правоты через доказательство своей позиции кого-либо из Святых отцов или какого-то положения Писания. Отсюда – система отсылок к мнениям авторитетов, фактически без изменений дожившая до наших дней. Я говорю не от своего имени, постоянно акцентирует внимание в споре схоласт, я лишь проясняю и разъясняю то, что до меня уже было сказано и признано церковью вполне каноническим. Опасность высказать свое собственное мнение (сравните: своемнение, своеволие) является опасностью высказывания ереси. По большому счету, это и есть та почва, на которой возникает так называемая «Первая инквизиция», целью которой было не просто выявление и наказание ересей, но своего рода «антиеретическая теоретическая» экспертиза различных вариантов толкования текстов. Понятно, что в такой обстановке к откровению начинают относиться более чем подозрительно, ибо всегда в силе остается вопрос, обращенный на суде к Жанне Д’Арк: а откуда тебе известно, что с тобой откровенничает именно Бог, а не дьявол?
Возникновение интеллектуальной потребности в новом знании, появление новых арабских (Авиценна) и иудейских (Маймонид) источников было благодатной почвой для появления все новых и новых отклонений в толкованиях христианской традиции, отклонений, которые действительно могут граничить с ересью, но и по сути являться таковой. Церковь и ее рационализированная в духе Аристотеля теология в этом контексте получали в свои союзники одного из величайших умов древности, несмотря на то что некоторые труды Аристотеля средневековым читателям не были знакомы, а другие были знакомы с изъятиями, во вторичных переводах и комментариях и т. д. С другой стороны, неаристотелевские рациональные практики часто находились под подозрением.
Такой тотальный, часто даже очень мелочный контроль церкви, безусловно, сдерживал научное развитие и ограничивал интеллектуальное творчество, однако с точки зрения самой церкви и ее представителей-инквизиторов он был необходим. Вспомним, что главная цель, к которой было устремлено все существование средневекового человека от теолога до ремесленника, от крестьянина до студента-школяра, – это спасение, бесконечное счастье и блаженство, альтернативой которым является бесконечное страдание души в бесконечной жизни. Ересь как отступление закрывала путь к спасению любому, кто ее исповедовал – и не важно, насколько искренне заблуждался еретик. Именно поэтому целью инквизиторов поначалу было не осуждение еретика (или обвиняемого в ереси), а его раскаяние, то есть возвращение в лоно церкви. Сказанное выше нисколько не оправдывает инквизицию, но скорее позволяет прояснить логику средневекового интеллектуала, не рассматривающего свое творчество как индивидуальное, а потому обязанного постоянно учитывать потенциальную возможность совращения своих менее искушенных последователей на скользкую дорогу отступления от истины, на которой ничего, кроме гибели, обрести уже нельзя.
Тем не менее в XI в. в средневековой интеллектуальной традиции наметились две линии преодоления схоластики. Первая была связана с именем великого Ибн-Рушда (Аверроэса) и его последователями – аверроистами, чьи позиции оказались близки, в частности, взглядам Роджера Бэкона, Сигера Брабантского и Уильяма Оккама. Самым важным для нас в учении арабского мыслителя является учение, получившее позднее название «двойная истина», или «двойственная истина» (сам Аверроэс этот термин не употреблял, поскольку в его учении «две истины» выступали скорее самостоятельными независимыми суверенными путями к истине, не основывающимися друг на друге и потому не опровергающими друг друга). Суть этой концепции, развиваемой в Европе Сингером, заключается в том, что истины разума и истины веры абсолютно самостоятельны как методологически (о чем можно найти у Аверроэса), так и сущностно. Иначе говоря, истины естествознания никак не опровергают и не подтверждают сведения из Святого писания. И наоборот – истины веры не могут выступать как базовые основания рационального познания. Такое решение проблемы разума и веры позволяло ученому в вопросах познания освобождаться от религиозных авторитетов. Разумеется, эта позиция вызвала критику со стороны католической церкви. Аверроизм был официально осужден, а сам великий Фома Аквинский в противовес «двойственной истине» разработал учение о гармонии, то есть единстве разума и веры.
Вторая линия критики схоластики, казалось, возвращала мысль во времена Тертуллиана с его доказательством истинности веры ее абсурдностью. Это направление получило обобщенное наименование «мистика». Собственно, мистика (от греч. «скрытый», «тайный») представляет собой важный элемент любого религиозного мировоззрения, поскольку предполагает наличие сверхъестественных сил и их связей с человеком. Однако мистика, о которой речь зашла у нас, носила, помимо прочего, и явный анстисхоластический характер. Представители этого направления, в частности Майстер Экхарт, видели в схоластике опасное заблуждение: схоластика, по их мнению, порождала иллюзию знания истины, которую человек никак не может знать в силу своего несовершенства. И если схоласты, признавая авторитет веры, пытались придать этой вере разумную форму, а интеллектуальным практикам рациональный характер, то мистики видели в этом лишь самообман и попытки слабого интеллекта ухватиться хоть за что-то в этом мире. Схоласты обнаруживали в священных текстах возможный путь к истине или ее прояснению, для мистиков тесты сами по себе никуда не вели, не ведут и вести не могут. В текстах нет строгой необходимости в свете конечной цели человеческого бытия (ведь разбойник, спасенный Христом, был неграмотным). Не отвергая грамотность как таковую, мистики предлагали делать акцент не на нее, не на книжную отвлеченную мудрость, где за словами не видно Истины, а на живое общение с Богом через «чтение» книги, созданной Им непосредственно, то есть тварного мира – мира, который оказывается забыт схоластикой, подмененный миром пустых понятий. Сверхъестественное мистиками также толкуется символически, но символом здесь выступает не текст, а его природа. Другое дело, поскольку Бог творит и поддерживает творение не столько силой разума, сколько неким онтологическим актом, то и постижение должно быть таковым: через жизнь в тварном мире, через уподобление Богу, через непосредственный контакт с бытием. В этих условиях особое значение приобретает проповедь как живое общение, а не теоретический схоластический трактат, посвященный истолкованиям «сущего и сущности».
Мистическое постижение истины могло бы напомнить теоретическое созерцание античных ученых, если бы не одно «но» – последовательный и однозначный иррационализм мистиков. Для античного ученого, например представителя неоплатонизма Прокла, мистическое постижение Единого как основы всего являлось разумным, точнее сверхчеловечески-разумным, возникающим в тот момент, когда разум в теоретическом развертывании истины в предельный момент своей собственной открытости миру и восприятия мира в себе вдруг сам переходил в новое качество и начинал видеть истину в божественном экстазе. Экстаз преодолевал разум, но на основе разума, открывая и преображая разум в разумном созерцании через самого себя. Схоластическая традиция и борьба с ней этот путь для мистиков если не закрыла, то сделала чрезвычайно труднодоступным. Поэтому озарение мистиков постигало истину в Боге не через движение, напряжение, преодоление разума, а в обход него, через его простое отрицание, фактически вновь отождествляя разум с рассудком. Иначе говоря, античный ученый, слушая космическую симфонию, подобно Пифагору, всегда видел и различал в ней разумный порядок (пусть и не до конца постижимый человеческим разумом), мистик же целиком отдавался потоку Космической литургии, отказываясь от разума как от досадной помехи.
Как не покажется парадоксальным, именно мистическое мировоззрение окажет, пожалуй, наиболее интенсивное влияние на становление современной науки на ранних ее этапах. Более того, схоластика, как-никак оправдывающая рационализм, будет восприниматься практически всеми учеными этой эпохи как основной противник – как и Аристотель длительное время после Средневековья будет истолковываться как пустой формалист и душитель интеллектуальной свободы.







