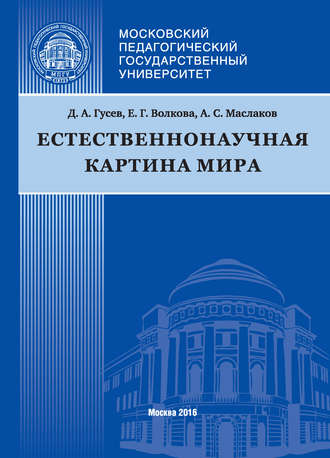
Д. А. Гусев
Естественнонаучная картина мира
§ 8. Механицизм
Становление ньютоновской системы фактически завершило формирование научной картины мира Нового времени в общих чертах. Обратим внимание на ее самые существенные моменты.
Первое, о чем в Новое время заявила наука, что объяснять мир необходимо безо всяких фантазий и вымыслов о каких-то невидимых силах или скрытых основаниях, якобы растворенных в нем. Мир нужно познавать, в сверхъестественное нужно верить. Вера и разум вновь радикально разводятся и в ряде случаев противопоставляются друг другу. Мироздание можно объяснить одними только естественными (природными) причинами и решительно изгнать из картины мира все сверхъестественное и таинственное, считали представители классического естествознания. Наука Нового времени утвердила иной взгляд на мир, по которому он представляет собой не живой организм, а грандиозный механизм. Стройность, упорядоченность и гармония мироздания объясняются тем же, чем гармония и стройность любого механизма: четкой подгонкой всех его частей друг к другу, точными размерами, правильным расчетом, грамотным устройством и безупречной работой. Неодушевленный механизм способен быть таким же безупречным и гармоничным, как и одушевленный организм. Откуда же все это в механизме? Очень просто: любой механизм состоит из каких-то тел, между которыми действуют неизменные силы, подчиняющиеся определенным законам. Эти тела, силы и неизменные законы делают механизм упорядоченным и гармоничным. Надо только открыть механические законы взаимодействия тел и все объяснить с помощью этих естественных законов, безо всяких вымыслов и фантазий. Данные законы должна открывать и исследовать специальная наука – механика, которая поэтому и стала одной из главных в классическом естествознании.
Когда объем научных знаний намного возрастает, тогда происходит и разветвление прежде единой науки на различные направления и разделы, каждый из которых занимается только какой-либо одной областью или сферой природы. И если в античности роль всех наук, как правило, выполняла философия, то в Новое время появились и физика, и химия, и биология и многие другие дисциплины. Вот почему мы говорим, что научное естествознание, как таковое, родилось именно в Новое время.
Представление, по которому мироздание – это грандиозный механизм, пришедшее на смену античному пантеизму, называется механицизмом. Вспомним, что древний пантеизм обуславливал бережное отношение его представителей к окружающей природе. Нельзя вредить живым существам, считали они, потому что у них, так же как и у человека, есть душа. В механицизме Нового времени всякие представления об одушевленности природы были безжалостно изгнаны. Любой объект окружающего мира, как и мир в целом, считали представители механицизма, является более или менее сложным механизмом, бездушной и неразумной машиной, и поэтому вовсе не обязательно относиться к природным объектам бережно. Наоборот, можно делать по отношению к ним, что угодно. Известный французский философ Рене Декарт считал, что душа есть только у человека, а все животные – это всего лишь механические роботы или автоматы, по отношению к которым мы вправе делать что хотим. А другой французский философ – Жюльен Офре Ламетри пошел дальше Декарта, утверждая, что души нет и у человека, что человек – тоже механизм, только очень сложный. Он даже написал книгу под названием «Человек-машина». Не удивительно поэтому, что именно в Новое время начинается активная наступательная деятельность человека по отношению к природе. Начинается ее завоевание, покорение, преобразование.
Итак, согласно механистическому объяснению мира, все многообразие природных явлений сводится к простому взаимодействию физических тел по механическим законам. Иначе говоря, все факты, события и явления окружающего нас мира представляют собой результат движений, столкновений, соединений, разъединений и т. п. частиц, из которых он состоит. И если мы знаем, как в настоящий момент расположены частицы и с какими скоростями они движутся, то можем вполне, в соответствии с механистическими законами, сказать, что произойдет в следующее мгновение с каждой частицей: куда она полетит, с какой силой и под каким углом ударит соседнюю частицу, куда и с какой скоростью она от нее отлетит и т. д., и т. п. Но все это и образует события окружающего нас мира, лежит в их основе. Получается, что мир является предсказуемым, определенным, ясным, «прозрачным»; в нем все закономерно, и случайность не играет существенной роли, так как она – всего лишь не известная нам пока часть закономерности. Кроме того мир является безальтернативным, то есть в каждой точке, ситуации, моменте не существует «развилки» путей дальнейших событий: все должно произойти только так, а не иначе, пойти только по одному единственно возможному, предопределенному или «заданному» всем ходом предыдущих событий пути развития, в результате чего общая картина вещей подобна линии: все события последовательно выстраиваются в одну прямую, строго от одной определенной точки к другой. Представление о мире, согласно которому он предсказуем, определен и ясен, является безальтернативным и линейным, называется детерминизмом. Детерминизм – неизменный и неизбежный «спутник» механицизма. Классической формулой детерминизма считается знаменитое высказывание французского ученого XVIII в. Пьера Лапласа. Но перед тем как рассмотреть его, вспомним не менее известное высказывание древнего ученого Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю». Так вот Лаплас, как бы вслед за Архимедом, говорит примерно следующее: «Дайте мне координаты, импульсы и направления движения всех частиц в мире, и я предскажу все события в нем на все будущие времена». Для человека нашего времени, избалованного достижениями и открытиями в науке, это, возможно, звучит банально. Но для ученого XVII–XIX вв. это звучало совершенно иначе: детерминизм, лежащий как в основании мира, так и любого его объяснения, любого его закона, позволяет говорить о «симметрии времени», то есть наука оказывается способна одновременно в своих расчетах созерцать прошлое, настоящее и будущее.
Отказавшись от древних представлений о пантеистической силе, растворенной в мире, наука Нового времени стала рассматривать его в качестве огромного механизма, а мировое совершенство объяснять неизменными законами, действующими во Вселенной. Однако при таком взгляде на мироздание естественно возникает вопрос – откуда взялись эти законы, почему они именно такие, а не другие, в силу чего они неизменны. И вообще – каким образом появился грандиозный механизм мира, что было его причиной? Не мог же он возникнуть из ничего. Ведь если он существует, значит, откуда-то он взялся, так как все, что существует, происходит из какой-либо предшествующей причины. Естествознание Нового времени могло либо не отвечать на вопрос о происхождении мира (сие не известно), либо отвечать, но очень кратко, формально. Это объясняется тем, что указанный вопрос радикально отличается от классических научных проблем того времени – он выходит за рамки известных нам фактов или, шире, за рамки всякого возможного опыта, а следовательно, и знания, как такового.
В XVII–XVIII вв. таким распространенным формальным ответом был деизм. Это представление, по которому мир создан Богом, было вполне естественным для ученого той эпохи. Другой вопрос, что мы можем знать об этой сверхъестественной причине мироздания. Или же Бог открывается лишь в вере, присутствуя в знании лишь в виде некой идеи формальной первопричины. Согласно деистическому взгляду, после создания грандиозного мирового механизма и наделения его всеми необходимыми законами Бог самоустранился. Мир существует, с точки зрения деизма, сам по себе, он управляется своими естественными законами, без божественного вмешательства. Механические законы вечны, неизменны и всегда будут поддерживать мироздание в одном и том же состоянии. Мир, управляемый этими законами, самодостаточен, то есть для его существования никто и ничто не требуется. Это в Средние века считалось, что материальный, физический мир без ежесекундного контроля потустороннего или внешнего по отношению к нему Бога рассыплется в прах, превратится в хаос, поэтому Бог постоянно держит в своих руках несовершенное мироздание, не позволяя ему погибнуть. Но если мир – это совершенный и безупречный механизм, как считалось в Новое время, тогда его не надо контролировать и оберегать. Точно так же, как и часовой механизм, он работает сам по себе, точно и безупречно, безо всякого вмешательства «часовщика» – Бога. Этот механизм не может сломаться или испортиться, или дать хоть малейший какой-нибудь сбой, потому что он создан совершенным Богом, и поэтому – навеки совершенен.
В деизме Бог превращается в формальную исходную точку существования мира, после обозначения которой наука интересуется только естественным миром и его законами, а не причиной его появления. Понятие о Боге нужно деизму только для того чтобы один раз ответить на один единственный вопрос: «Откуда взялся мир?» «Создан Богом», – отвечает деизм и забывает о Боге, идея которого деизму, как видим, фактически не нужна, поскольку относится не к знанию, а к вере. Бог становится, как отмечал Тома с Гоббс, маркером границы нашего знания и нашей познавательной способности. «Если бы Бога не было, – говорил уже в XVIII в. просветитель Вольтер, – его бы следовало выдумать». Он есть, ибо есть мир, Им сотворенный. На этом знание о нем заканчивается, вера же в рамках классической науки знанию противопоставляется, а не дополняет его. Доказательством Его бытия становится существование тварного мира, но объяснить законы этого мира вполне можно и без Него.
Таким образом, деизм дает нам представление о Боге только со стороны науки, то есть знания. Можно утверждать, что в деизме почти нет Бога, и поэтому данное воззрение очень близко к атеизму – представлению, по которому Бога вообще нигде и никак нет и никогда не было. Однако наука сама по себе не утверждает, что Бога нет, как не утверждает она и обратного. Наука лишь не признает допустимыми доказательства или объяснения, включающие в себя или предполагающие идею Божества как сверхъестественной причины. Еще раз – для науки Бог не является объектом исследований и объяснений; Бога наука спокойно оставляет вере, а не знанию.
История донесла до нас эпизод из беседы Наполеона с Пьером Лапласом. «Почему в своих сочинениях, – спросил его Наполеон, – Вы ни в одном месте не упоминаете о Боге?» «Я не нуждался в этой гипотезе», – ответил ученый. Слова Лапласа можно понимать так. Если для объяснения мира мне потребовалось бы представление о сверхъестественном и всемогущем существе, если я никак не смог бы объяснить мироздание без этого представления, тогда, конечно же, мне пришлось бы говорить о Боге. Но если я вполне могу объяснить мир и процессы, происходящие в нем, одними только естественными причинами, если я в состоянии постичь происходящее без ссылки на высшие и таинственные силы, якобы управляющие мирозданием, тогда представление о Боге мне совсем ни к чему. Приблизительно то же самое утверждал деизм, все дальше уводя человеческую мысль от бездоказательной веры, умозрительных утверждений, фантазий и вымыслов, заставляя ее экспериментировать и доказывать.
Важное место в научной картине мира занимает вопрос о том, как он существует – неизменно или же меняется; полностью он неизменен или же только в отдельных частях и на разных уровнях. Вспомним, что в аристотелевской картине мира материальный мир бесконечно меняется. Это всеобщее изменение носит циклический характер: повторение одних и тех же этапов своего существования совершает и каждая отдельная вещь, и весь мир в целом. Неизменными здесь остаются лишь первоосновы мира так называемые «чистые формы», «формы форм», «идеи» и т. д.
Классическое естествознание Нового времени создало иной взгляд на мироздание, который во многом следует из уже известного нам механицизма, а во многом служит ему основанием. Вселенная здесь – грандиозный механизм, существующий по неизменным законам и созданный деистически понимаемым Богом. С одной стороны, совершенный Бог дает миру вечный совершенный закон, который нет смысла изменять, – совершенство во все времена характеризовалось и трактовалось как неизменность, ибо любое изменение в данном случае есть несовершенство. Механизм Вселенной, созданный Богом, совершенен с точки зрения науки Нового времени. С другой стороны, само понятие механизма предполагает нечто в основе своей неизменное. Организм, в отличие от механизма, может меняться, ведь он растет, развивается. А может ли самостоятельно меняться механизм? Следовательно, мировой механизм является неизменным и существует всегда в одном и том же виде.
Мироздание стационарно, утверждали ученые Нового времени. Оно, конечно же, в каких-то деталях и частностях может немного меняться, но в основе своей оно всегда пребывает в одном и том же состоянии. А если оно неизменно, то возможно нарисовать полную и законченную научную картину мира, к которой нечего будет добавить и в которой нечего будет исправлять. Не меняется мир, не меняются и научные представления о нем. Надо только до конца открыть и исчерпать все механические законы, по которым устроена и существует Вселенная. А поскольку законов этих не так уж много, то получение окончательного знания о мире и обретение полной истины – не за горами, считали представители классического естествознания. Оно еще и потому называется классическим, что считало свои знания о мире исчерпывающими, а его научную картину – завершенной.
§ 9. О неполноте даже самой лучшей теории
И все-таки, несмотря на колоссальный успех, несмотря на огромную объяснительную силу, ньютоновская концепция не могла адекватно описать несколько явлений природы, хорошо известных человеку еще с самых древних времен. Обратите внимание – сам факт такой неполноты не являлся аргументом в пользу отказа от данной теории, как таковой. Наоборот, ученые делали неоднократные попытки достроить и дополнить ньютоновскую модель, вовсе не считая ее слабой, неистинной или неудачной. Что же это были за явления? Остановимся для краткости на трех самых известных и в какой-то степени фундаментальных.
Первое явление – явление магнетизма. Этот феномен был знаком многим ученым в разные эпохи и в разных частях света. На этом эффекте, как известно, основан компас, изобретенный в Китае, ставший известным в Европе с XII в. Уже Христофору Колумбу было известно, что степень отклонения магнитной стрелки зависит от географических координат. В сочетании с другими средствами измерения и наблюдения компас давал неплохие возможности для определения места в пространстве, например, корабля – именно этот момент среди прочих сделал возможными Великие географические открытия, поскольку риск потеряться в океане из-за утери направления (по широте) снижался для мореплавателей многократно. Наконец, Уильям Гильберт в 1600 г. выдвинул предположение, что сама Земля по сути своей является гигантским магнитом с соответствующими магнитными полюсами. Он же установил наличие у магнитов полюсов и описал явление притяжения полюсов одноименных и взаимоотталкивания разноименных. Однако вопрос, что же стоит за колебаниями магнитной стрелки или притяжением-отталкиванием полюсов, оставался для исследователей открытым на протяжении столетий, сводясь в различных вариациях к ссылкам на неких «сродственных» духов, которые заставляют металлы притягиваться к магниту. Дело в том, что уже сама природа магнетизма, с точки зрения исходных позиций теоретических моделей ньютоновской физики, выглядела парадоксально, и странной. Во-первых, сила, притягивающая металлические предметы, исходила как будто бы изнутри магнита, представляясь исследователям его внутренней природой, то есть качеством или аристотелевской формой. Изучение внутренней природы (внутренних качеств) наука, как мы помним, категорически пыталась самой себе запретить еще со времен Г. Галилея, поскольку это представляло собой суть старого, аристотелевско-схоластического знания. Во-вторых, магнит действовал на тела на расстоянии, через пространство. Такое действие присуще и ньютоновским силам, однако сам характер такого действия отличался от ньютоновского, ибо магнетизм воздействует не на все тела, имеющие массу, а лишь на тела определенного типа, металлы. Значит, сам принцип воздействия отличен от известного нам закона тяготения, а определяющим фактором здесь выступают, в общем, не массы. Но если не массы, то что тогда?
Известно, что Ньютон исследованием магнитных явлений почти не занимался. Не занимался он и систематическим исследованием другой группы явлений, которая стала для науки настоящим «передним краем» (Р. Пенроуз) уже через столетие после его смерти. Речь идет об электричестве. Собственно, электрические явления известны также очень давно – с глубокой древности. Само слово электричество имеет греческое происхождение (от греч. elektron – янтарь, ибо именно частички янтаря стали первичным материалом для обнаружения эффектов электрической заряженности тел еще древними греками) и было введено все тем же У. Гильбертом. Явления притяжения и отталкивания электрически заряженных предметов не могли не пробудить идею о внутреннем сродстве электричества и магнетизма. Но от самой идеи до объяснения внутренней природы этого сродства – путь неблизкий. Дело осложнялось и тем, что электричество было весьма непростым и капризным объектом для экспериментального исследования, особенно если речь шла не о статических заряженных телах, а о более сложных природных процессах.
В рамках механистической картины мира природа электричества не могла быть описана и понята иначе как в контексте механического движения – движения тел в пространстве под действием сил. Наука эпохи раннего Нового времени прочно стояла на том, что мир един и законы в нем имеют одинаковую природу – принцип, восходящий к Галилею, разрушившему аристотелевско-схоластическую иерархию миров. Открытый в 1785 г. Шарлем Кулоном закон взаимодействия заряженных частиц, казалось, подтверждал всю плодотворность такого подхода, поскольку формулировка этого закона по своей форме была почти идентична закону всемирного тяготения: «Сила взаимодействия двух точечных зарядов… пропорциональна их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними». Здесь даже формульная запись говорит сама за себя. Закон Ньютона, как мы помним, выглядит так: Fт = GMm/R2; Закон Кулона – так: F = kq1q2/r2, где G и k – константные коэффициенты, M и m – массы взаимодействующих тел, q1 и q2 – заряды (по величине), а R и r – расстояния между взаимодействующими телами. Конечно, различие все же существует, и весьма существенное, – характер взаимодействия заряженных тел (притяжение или отталкивание) будет определяться знаками зарядов, то есть опять неким смутным аналогом «внутренних качеств». Если зарядов нет, то нет и взаимодействия (у Ньютона взаимодействие обеспечивала масса). Чем же эти «внутренние качества» определяются?
Уже в середине XVIII в. на фоне обобщения большого количества чисто эмпирических данных: притяжение-отталкивание, взаимная передача зарядов, обнаружение проводников и диэлектриков, описание «течения» электричества сквозь тело человека (и демонстрация этого явления всем желающим, когда зрителям предлагалось взяться за руки, образовав цепь, а крайнему из них – взяться за оголенный электрод) и ткани мертвых животных – наука выдвинула в рамках механистической картины мира ряд остроумных гипотез. Самая известная и важная среди них – описание электричества по аналогии с некой жидкой субстанцией, флюидом, сделанное впервые Бенджамином Франклином на основе изучения природы молний. Природа молний гипотетически может быть объяснена стечением этой электрической жидкости от высшего потенциала (грозовой тучи) к низшему (земной поверхности). Это предположение легло и в основу знаменитого изобретения Франклина – молниеотвода (громоотвода), – которым мы пользуемся и сегодня и которое многими учеными своего времени (и тем более простыми обывателями) было принято с большим скепсисом и опаской. Это же открытие позволило, в случае отведения тела-проводника молниеотвода не в землю, а в лабораторию, получить источник электричества для дальнейших экспериментов, правда, источник ненадежный и смертельно опасный.
Гипотеза «электрической жидкости» (а затем и «магнитной») оказалась весьма удачной в рамках механической картины мира и позволила относительно неплохо интерпретировать в контексте этой картины явления, связанные с электричеством. Она позволяла объяснить разницу в знаках зарядов (жидкости похожи, но природа в них разная), помогала интерпретировать конкретные процессы, связанные с наблюдениями токов, а также успешно решить (трудами Алессандро Вольты) проблему ее искусственного синтеза в проводнике в безопасных для жизни и здоровья наблюдателя количествах путем открытия превращения химической энергии в электрическую. Более того, она прекрасно согласовывалась с чисто эмпирическим эффектом накопления электричества в первых аналогах электроконденсаторов (так называемые «лейденские банки»). Однако она имела существенный недостаток – ее было невозможно экспериментально подтвердить или опровергнуть. Впрочем, такое объяснение было лучше, чем ничего, хотя и в этом контексте сам факт взаимодействия заряженных тел все равно выступал как большая загадка.
Наконец, третьей группой явлений, чувствующей себя все менее уютно в контексте механистической картины мира, стали явления световые. Здесь наблюдается небольшой парадокс, ибо оптика всегда привлекала и живо интересовала И. Ньютона, а среди его трудов есть специально посвященные оптическим проблемам. И так получилось, что именно эта часть наследия ученого начала обнаруживать свою неполноту быстрее всех остальных изнутри самой механистической картины мира. Впрочем, на фоне общей незыблемости авторитета механики, это до поры до времени было не очень заметно. В области оптики Ньютону также принадлежит ряд фундаментальных открытий. Так именно он дал точное описание разложение белого света в правильной трехгранной призме на семь составляющих (дисперсию). Это наблюдение привело Ньютона к фундаментальному выводу о том, что первичен не белый свет, а его составляющие, зависящие от показателя преломления, тогда как распространенные на тот момент концепции света (например, Р. Декарта) исходили из прямо противоположного, утверждая первичность белого света и вторичность всех без исключения цветов. Однако, с одной стороны, Ньютон воздержался от формулировок окончательных выводов о происхождении и природе света, с другой – его механистической картине как нельзя лучше соответствовала модель, представляющая свет в виде движущихся мельчайших тел, корпускул (уменьш. от лат. corpus – тело). Ньютону с помощью своей теории преломления (при допущении, впрочем, и объяснений с помощью волновых моделей), действительно, удалось создать на тот момент наилучшее теоретическое описание оптических явлений, объединив все известные к этому времени открытия, – дисперсию и эффекты интерференции и дифракции на тонких пленках (подобно пленке масла на поверхности воды).
Тем не менее существовала и альтернативная гипотеза, выдвинутая Христианом Гюйгенсом и Робертом Гуком, рассматривающая свет как упругое колебание плотной эфирной среды. С этой точки зрения воздействие света на наш глаз также является чисто механическим, как, впрочем, и в корпускулярной гипотезе И. Ньютона. И версия Ньютона, и версия Гюйгенса – Гука были одинаково механистическими, хотя и описывали оптические явления по-разному: как, по большому счету, движение частиц и как колебание упругой среды. На начало XVIII в. фаворитом, безусловно, был Ньютон, тогда как концепция его конкурентов обладала меньшей объяснительной силой: так Гюйгенс был даже вынужден поставить вопрос о самом наличии дифракции как реального физического эффекта, а не иллюзии восприятия.
Ситуация изменилась через столетие, когда явления интерференции и дифракции были всесторонне экспериментально исследованы и описаны Томасом Юнгом. Ему же принадлежит и введение данных терминов в научный оборот. Собственно, эти явления связаны с удивительными свойствами света: самоусиливаться и самоослабляться, а также огибать препятствия (некоторые современные авторы утверждают, что интерференция и дифракция суть явления одного порядка, причем второе выступает как частный случай первого). Вспомним опыт, хорошо знакомый из школьного курса физики. Возьмем источник света и направим его на белый экран. На пути света поместим плотный черный лист с прорезанными двумя параллельными вертикальными отверстиями. Свет, проходя через отверстия, будет попадать на экран. Какую картину мы увидим? Если свет – это поток корпускул, то на экране мы увидим две яркие полосы. Но в реальности мы увидим нечто совершенно иное: чередование более светлых и более темных полос. В чем же дело? Основа этого явления как порождения вторичных волн поверхностью, которой коснулась волна, была описана еще Х. Гюйгенсом, однако его описание не включало в себя явление дифракции, поскольку рассматривало свет исключительно как механическое колебание эфира (подобно колебанию желеобразного студня на противне под влиянием чисто механических сил). В XIX в. модель Гюйгенса дополнит Огюстен Жан Френель – и она примет известный нам сейчас вид. Дело в том, что если рассматривать световой поток не как поток частиц, а как волну, то, проходя через отверстия, эта волна породит две вторичные волны. Эти волны могут как совпасть в своих фазах, так и не совпасть. В первом случае мы получим усиление свечения, во втором – ослабление. Отсюда и чередование полос различной яркости. Наблюдаемая картина однозначно свидетельствует о волновой природе света, причем эта волна имеет не чисто механическую, а какую-то более сложную природу.
Казалось бы, ньютоновская корпускулярная модель (напомним еще раз: сам Ньютон не отрицал возможностей волнового описания природы света, но в рамках механистической картины мира корпускулярная модель, конечно, была вне конкуренции) разрушена и должна быть отвергнута. Однако и механическо-волновая теория для описания всех известных явлений тоже не очень годилась. Многим ученым было ясно, что свет имеет природу, не описываемую в уравнениях теории гравитации… и многие продолжали строить свои описания на основании гравитационной модели. Это не удивительно, потому как в науке нельзя так просто отбрасывать теорию без альтернативы. Если же теорию и отправляют в утиль, что происходит очень нечасто, то неизбежно возникает вопрос: чем и как эту теорию заменить? Как мы помним, именно бесконечная уверенность в своей собственной новой гипотезе помогла Галилею отразить натиск сторонников старых моделей и концепций в науке. Но в начале девятнадцатого столетия такой уверенности в правоте какой-то из многочисленных новых гипотез не было, все они были примерно одинаково неудовлетворительны.
Все вышеперечисленное говорило в полный голос, что в начале XIX в. научное сообщество стояло перед серией открытий, не менее замечательных, чем в предшествующую эпоху.







