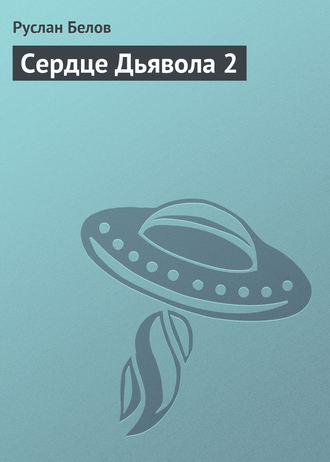
Руслан Белов
Сердце Дьявола 2
5. Законов лучше не нарушать.
Посидев за столом в прострации, Худосоков, решил плыть на остров.
– Баламута с Борисом тебе пришлю. Вы порыбачьте, а я подумаю в одиночестве, – сказал он, перебираясь в резиновую лодку.
Послонявшись по яхте, я остановился у Крутопрухова. Некогда безжалостные его глаза выглядели выцветшими, благодаря сидевшему в них животному страху.
Мне стало жаль его: не люблю, когда меня боятся, и я решил отменить рыбалку. Но, посмотрев на золотое солнце, уже клонящееся к горизонту, вспомнил золотые волосы убитой им Софии, ее звонкий смех, ее влечение к жизни… Вспомнил, как стремился к ней частичкой, нет, частью души, как всем сердцем любя Ольгу, завидовал Николаю, который мог целовать ее не так, как было позволительно другу. Вспомнил, и тут же внутренний голос стал выговаривать мне, что я, вообще-то, в аду, можно сказать на работе, которую надо кому-то делать, чтобы зла на свете стало меньше. И поэтому я должен отбросить в сторону слабости, засучить рукава и сделать так, чтобы этому человеку стало больно, очень больно.
И гуманная моя ипостась, сдалась моей зловредной ипостаси, и та обратила нетерпеливый взор к друзьям, уже наперегонки плывшим к яхте.
Взобравшись на палубу, Бельмондо подмигнул мне и, не мешкая, занялся подготовкой судна к выходу в море. Баламут же, выказывая себя профессионалом, не торопился. Он посидел в шезлонге с баночкой пива из холодильника, выкурил сигарету, и лишь затем занялся Крутопруховым. Достав из рундука тонкий стальной трос, он обвязал им щиколотки своего оцепеневшего кровника. К образовавшемуся узлу троса Николай прикрепил три стальных поводка с большими крючками, два из которых подвязал к запястьям. Крутопрухова, а третий – к шее. Затем потащил за волосы снаряженную снасть на корму. Яхта в это время, чуть слышно тарахтя мотором, уже выходила из бухты. Пройдя около полумили, впереди по курсу мы увидели акульи плавники. Баламут оживившись, заходил по палубе, что-то выискивая.
– Что, спасательных кругов больше нет? – спросил его Бельмондо от румпеля.
– Нет…
– А там, в каюте, на стене?
– Жалко интерьер ломать из-за поганца…
– Да ладно тебе! Ленчик же говорил, что побольше нам яхту найдет – эта на троих маловата.
– А зачем нужен спасательный круг? – удивленно спросил я.
– Понимаешь, – начал объяснять Баламут, – если его в воду без круга бросить, он быстро утопнет и акулы его уже дохлого рвать будут. И еще этим кругом он от них обороняться будет, а это вообще уписаешься…
Баламут сходил в каюту, принес круг с черной надписью "GROBOVAYA TISHINA" и сунул его в руки мелко дрожавшего от страха Крутопрухова.
– Ну что, начнем? – спросил он меня, критически осмотрев наживку с ног до головы.
– Можно и начать… – буркнул я, находясь во власти противоречивых чувств.
– Так иди, разбей ему морду до крови и столкни в воду. Или прикажи, чтобы сам нырнул.
– Сам прикажи…
– А морду?
– А что, без этого нельзя?
– Нельзя, кровь нужна. Без крови акулы с ним кокетничать начнут, а через час будет уже темно – мы же где-то в низких широтах ада, вечера здесь короткие.
– Слушай, Коля, это твой кровник, ты и бей… Мне что-то не климат.
– Ты чистоплюй, да? Ну и черт с тобой! – презрительно улыбнувшись, направился Баламут к Крутопрухову, продолжавшему дрожать мелкой дрожью. Подошел, наливаясь злобой, постоял над ним с минуту. Налившись до красноты ушей, спросил сурово:
– Что, дрожишь? А помнишь мою Софию? А сына моего годовалого? Не помнишь? Так вспоминай, сука, вспоминай! – и, совершенно разъярившись, начал избивать Крутопухова. Расшибив кулаки в кровь, схватил шезлонг и продолжил расправу уже с его помощью…
– Третий шезлонг за два дня, – услышал я сзади осуждающий голос Бориса, по-прежнему стоявшего у румпеля. – Скоро сидеть не на чем будет.
А Баламут продолжал избивать Крутопрухова, тот заслонялся, как мог, Время от времени бедняга оборачивал лицо, искореженное ужасом, к морю и смотрел на акул, привычно круживших вокруг яхты, не раз поставлявшей им поживу. Я понял, что собственно побои Крутопрухову уже не страшны – он вновь и вновь переживает апофеоз наказания, то есть неминуемое свое съедение морскими чудовищами… И попытался представить чувства человека, уже побывавшего в пасти акул, уже знающего, как больно, как невыносимо больно, когда острые и безжалостные зубы раздирают на части твое несчастное тело…
Разломав свой шезлонг на куски, Баламут нашел глазами мой и уселся в него перекуривать. Сделав несколько торопливых затяжек, раздавил окурок в рогатой морской раковине, лежавшей под столиком, встал деловито, подошел к Крутопрухову. Увидев, что тот лежит без сознания, сходил к надстройке, вынул из пожарного шкафчика брезентовое ведро на веревке, зачерпнул им воду и с размаха облил свою жертву. Соленая вода, въевшись в раны, моментально привела Крутопрухова в сознание. Отбросив ведро в сторону, Баламут склонился над душегубом и привел в порядок поводки с крючками, затем наклонился к уху бедняги и прошипел:
– Я тобой, сволочь, еще долго акул кормить буду. Привыкай, гад!
И, выдавив побольше слюны из слюнных желез, плюнул оппоненту в лицо, затем сунул ему в руки спасательный круг и, добавив к плевку еще один, столкнул в воду.
Акулы были тут как тут. Взбудораженные запахом крови, они набросились на Крутопрухова со всех сторон. Через десять минут стальная леса натянулась струной, да так сильно, что Борису пришлось убавить ход яхты.
…Забыв обо всем на свете, я зачаровано смотрел, как бурлит и красится кровью морская вода. В это время кто-то ткнул меня чем-то твердым в спину; я обернулся и увидел Баламута, протягивающего мне морской бинокль. В него я увидел, что все три крючка без поживы не остались. Одна попавшаяся акула была длинной не менее трех с половиной метров, другие две были несколько короче, но, тем не менее, выглядели весьма внушительно.
Баламут сначала не хотел обрубать троса, но яхту так вело, что акул пришлось отпустить. Сделав вокруг освободившегося "кукана" пару кругов, мы направились к берегу, по которому уже минут пятнадцать нервно ходил взад-вперед Худосоков, ходил, призывно крутя рукой.
6. Со злом бороться бесполезно. – Оскар Уайльд об аде. – Нам предлагают сыграть в колодец.
Яхта уткнулась носом в береговой песок уже в сумерки. Выплывшая на небо луна выглядела линялой, но света ее хватило, чтобы мы без затруднений добрались до особняка, белевшего посреди джунглей.
Особняк был самый настоящий "барский" – с башенками, балкончиками, беломраморными колоннами, украшенными чертями, химерами и прочей нечистью. К тяжелой двустворчатой двери красного дерева, вели широкие ступеньки из призрачно иризирующего лабрадорита.
– Нет, лакеев в ливреях в доме нет, – предупредил мой вопрос Худосоков, остановившись у беломраморного фонтана с рогатыми амурами. – Можно было, конечно Крутопрухова с доном Карлеоне попросить прислуживать, но у них такая нервная жизнь… И какие из них лакеи? Руки трясутся, глаза бегают, ноги подкашиваются.
Баламут с Бельмондо присели на край фонтана и закурили. Жизнь казалась прекрасной. Райскую, точнее, адскую тишину нарушал лишь шелест прибоя, из лесу время от времени раздавалось завораживающее пение ночных птиц, иногда оно прерывалось звонким девичьим смехом.
Худосоков присел рядом со мной и, выдержав паузу, заговорил:
– Ты, Черный, много книг прочитал, а ничего не понял…
– Чего я не понял?
– А то, что со злом бесполезно бороться. Или очень тоскливо. Все, что человек может сделать, так это то, чтобы его меньше рождалось. Человек должен вырасти счастливым, тогда он зла совершать не будет… Или мало совершать… Вот как вы… А чтобы человек вырос счастливым, должны быть счастливы его родители… А таких людей на миллион единицы…
Я изумленно посмотрел на Худосокова:
– Ну, ты даешь! В прошлом году об Империи зла толковал, говорил, что только злом мир держится, а сейчас вот как запел… Никак пытки подействовали?
– Когда они меня пытали, я никаких угрызений совести не испытывал. И, тем более не клялся, что "больше не буду". Я только боль испытывал… И если я отсюда выберусь, то опять что-нибудь придумаю… Потому как с несчастными людьми можно только по-плохому…
– Ты же небесный переворот задумал… – проговорил Баламут, искоса любуясь луной, ставшей к этому времени вполне жизнерадостной.
– Это само собой…
– Ну и что ты сделаешь, когда синапсом завладеешь?
– Я сделаю всех счастливыми. Я при рождении вобью людям в головы, что они счастливы и всегда будут счастливы…
– Э, дорогой! – усмехнулся я. – Когда пара потомственных алкоголиков сношается, то знаешь, какие они счастливые? А когда у них дебильный ребенок рождается без неба и с одним ухом, он тоже, в общем-то, очень счастливый… Несчастными люди становятся пересекаясь.
– Ты юродствуешь, Черный! Я просто стану действующим богом, богом, который будет внимать и помогать, помогать и карать за зло…
– Ты? Редкостный злодей?
– А что? Добрый человек не может сделать ничего великого… Да что я тебе говорю… Ты сам когда-то об этом думал…
– Думал, может быть, и думаю, но никогда не… – начал я оправдываться, но, вспомнив, с какими волюнтаристскими намерениями появился в Сердце Дьявола, смешался.
– Ладно, хватит философствовать, пошлите в дом, – усмехнулся Ленчик, прочитав мои мысли, мысли одного из несостоявшихся организаторов компьютерно-правовой революции.
По дороге я поинтересовался у Худосокова, где его сын Кирилл. Со слезой в голосе он поведал, что душа бедняги в настоящее время проходит по этапу в соседнем департаменте, то есть в чистилище. И начал торопливо рассказывать, каким хорошим и перспективным во всех отношениях был его мальчик.
Тем временем мы подошли к дому. По широкой мраморной лестнице Худосоков провел нас в костюмерную – большую комнату, по всему периметру которой располагались старинные шкафы с зеркальными дверцами; в них находились новехонькие одежды многих исторических эпох. Примерив тюрбаны, треуголки, цилиндры перед зеркалами и вдоволь насмеявшись друг над другом, мы оделись в привычные нам джинсы и толстовки и прошли в просторную столовую. На высоких ее стенах, украшенных старинными светильниками, висели потрескавшиеся портреты строгих стариков и дам преклонного возраста, под ними стояли на страже никелированные рыцарские доспехи в сборе. Большой любитель живописи, я спросил Худосокова, кто изображен на портретах и чьей они кисти.
– Рембрандт, Гойя, Веласкес… – ответил он, слегка улыбнувшись. – А изображенных персон вам стыдно не узнать…
И начал тыкать в портреты пальцем:
– Это Александр Македонский, это Нострадамус, это Легран, известный антильский пират, это Витторио Десклянка… На втором этаже другие портреты людей и животных, в телах которых пребывали ваши души… Как-нибудь я покажу их тебе…
– Да-с… – только и сказал я, оторвав взгляд от рыцарей и портретов. – Ад у вас, надо сказать, на все сто…
– В аду все должно быть… – сказал Худосоков, поджав губы. – Абсолютно все. Оскар Уайльд как-то воскликнул: Не получать того, что хочешь? Что может быть хуже!!? Только получать все, что хочешь!
Подивившись начитанности записного убийцы, мы уселись за длинный стол, покрытый накрахмаленными белоснежными скатертями. Не успел я осмотреться, как передо мной возникли большое блюдо с телятиной, языками и прочей мясной и овощной всячиной, бутылка красного десертного вина и хрустальный фужер. Поставила все это на стол изящная белоснежная ручка. Поразившись ее красотой, я обернулся и увидел… Ольгу! Увидел и содрогнулся: это была настоящая Ольга, а не ее копия. Это она загорала на берегу в виду яхты!
– Ты… ты умерла!!? – воскликнул я.
– Да нет, как видишь! – прыснула девушка. Она была в обтягивающем бархатном вечернем платье с глубоким вырезом. Волосы ее были собраны в пучок на затылке, в ушах сверкали крупные бриллианты, бриллиантовый же кулон нежился в ложбинке между грудями.
– Эта девушка из колодца, ты с ней в Центре познакомился, – сказал Ленчик, пристально посмотрев на Ольгу. – А Юдолина твоя жива и здорова… Ее, кстати, ты можешь увидеть, если, конечно, захочешь…
А Ольга-Из-Колодца, поправив лежащие передо мной приборы, вышла из столовой и через минуту вернулась с тарелками для Баламута и Бельмондо. Вино для них принес сам Худосоков. Поставив бутылки, он поблагодарил Ольгу и неуловимым движением подбородка отправил ее прочь.
– Я попросил оставить нас одних, – ответил Худосоков на мой недоуменный взгляд. – Не надо никому слышать то, о чем мы будем говорить. Давайте, ешьте, пейте, а потом начнем говорить.
– А ты, что, сам не ешь?
– Мы же в аду, Женя! А в аду есть и пить вовсе не обязательно…
– И нам, что ли, тоже? – изумился Баламут.
– Конечно… Но для приятности адского существования земные ритуалы и привычки вовсе нелишни. Так что не обращайте на меня внимания и кушайте, а я тем временем позволю себе расширить ваши познания об Аде.
– Валяй! – сказал я и с воодушевлением принялся опустошать свою тарелку.
– Здесь в некотором роде все наоборот, – утонув в кресле, начал рассказывать Худосоков. – Например, здесь вы можете приглашать к себе в гости не друзей, но лишь врагов…
– Приглашать врагов!? Зачем? – изумился Бельмондо.
– Видите ли, здесь можно вечно досаждать тем людям, которые в прожитой жизни досаждали вам… Человек, отягощенный злом, здесь беззащитен. Так же, как там, в жизни, беззащитен человек, отягощенный добром.
– А те люди, которым я досаждал и, о, боже, гадил, могут здесь гадить и досаждать мне? – спросил я, явственно вспомнив некоторых своих знакомых, которые сочли бы за счастье изо дня день заниматься распиловкой моей души при помощи неразведенной двуручной пилы.
– Они могут пригласить тебя в гости, – проговорил Худосоков, пригвоздив меня к спинке кресла холодным взглядом. – Если узнают, что ты здесь.
Глядя на него, я вспомнил, что у Ленчика нет одной ступни, и что оторвана она была взрывом брошенной мною гранаты. А Ленчик, насладившись моим замешательством, тронул губы презрительной усмешкой и продолжил:
– Но ты, Черный, не беспокойся, ногу отпиливать я тебе не буду. Здесь, в аду, подсчет бабок как в преферансе – меньшая "гора" списывается… Но не исключено, что некоторые твои знакомые найдут тебя и скормят акулам, – рассмеялся Худосоков. – Времени-то у них не меряно!
Огорошенные полученными знаниями, мы продолжили трапезу. И я, и Коля, и Борис делали это автоматически – каждый из нас думал, что издевательства над Худосоковым и его пособниками надо, пожалуй, прекратить. А то ведь отпишут, сволочи, куда надо, и позовут нас на рыбалку и пионерский костер с четвертованием эти бесчисленные студентки-практикантки и завистники, которым, ох, есть, что нам предъявить… И не только предъявить… На двуручную пилу и наживку для акул-людоедов мы, вероятно, не потянем, но личико оплеванное скалкой набьют, это точно…
– Да ладно вам переживать! – прервал наши неприятные мысли Ленчик. – Не беспокойтесь! Своих закладывать у нас не принято.
И, взяв со стола серебряный колокольчик, пару раз им звякнул. Тотчас же в комнату влетел дон Карлеоне с подносом, уставленным старинными винными бутылками. Руки его слегка подрагивали, глаза испуганно бегали по лицам Баламута и Бельмондо.
– Бургундское трехсотлетней выдержки, – похвалился Худосоков, когда мы начали рассматривать откупоренные новоявленным виночерпием бутылки. – Пить его надо с трепетом.
Наставнический тон Худосокова, задел Баламута, и он сделал, то, что мог сделать только Баламут: он раскрутил бутылку и мигом отправил ее содержимое в желудок. Ноль целых восемь десятых литра драгоценного вина водоворотом в десять секунд – это, конечно, редкостный аттракцион; мы с Бельмондо покачали одобрительно головами и принялись за гуся, оккупировавшего стол с помощью таинственно улыбавшейся Ольги.
Поев и опустошив бутылки, наша компания перешла в курительную комнату и расселась там в тяжелых кожаных креслах. Ольга принесла коньяк, и ласково пощекотав меня за ухом, исчезла. Худосоков раздал нам по сигаре, переключил верхний свет на нижний и утонул в своем кресле.
– Ты что-то говорил о настоящей Ольге… – вспомнил я.
– А, пустое! – ответил мне Ленчик. – В той жизни ты был влюблен в нее по уши, и она была на двадцать лет, кажется, моложе… И это тебя постоянно мучило… А здесь, в аду, она на двадцать лет тебя старше. И по уши в тебя влюблена. И разыскивает повсюду. А влюбленное сердце, ой, чуткое, оно! Найдет, чувствую, ох, найдет и призовет в свой пленительный альков… И что будет! Представь себе шестидесятипятилетнюю Ольгу. Очень, знаешь такая животрепещущая картина – одиночные волоски на щеках и подбородке, черные точечные угри на губах (не найденные и не уничтоженные по причине слабого зрения) седые волосы, сухая грудь, грудь, полная неимоверной, к тебе Евгений Евгеньевич, любви… И еще представь фиолетовые волосы, подтянутое мраморное лицо, черные очки, чтобы не было видно уставших глаз, немножко артрита, немножко остеохондроза, немножко вазелина и очень, очень много любви к тебе, Евгений Евгеньевич… Или…
– Хватит изгаляться! – прервал Худосокова резкий голос Баламута. – Ты лучше расскажи, что ты там придумал? И вообще, прорезалась "трешка" или нет?
– Нет, не прорезалась… – Худосоков, довольный произведенным впечатлением, не расстроился напоминанию об измене детища. – А придумал я вот что… Завтра, прямо с утра вы вновь попытаетесь вырваться отсюда… Я уверен, на этот раз получится, ведь в прошлый раз вы и не хотели, признайтесь, выбраться, вот Колодец и выполнил ваше подспудное желание позагорать и покупаться в тропиках. Получится, попытайтесь выйти на "трешку", если, конечно, она еще функционирует… Выгорит дело – мы спасены. Учтите: из сиреневого тумана вы можете попасть куда угодно, даже к Господу Богу на именины. Не получится сразу выйти на "трешку", попытайтесь изучить устройство Колодца. Как я себе представляю, на него нанизано множество бесконечных миров, в том числе, вероятно, и разновременных. Во всем этом надо будет разобраться, разобраться с тем, чтобы прекратить это безобразие с ЕГО волюнтаризмом в общем и с переходом В3/В4 в частности…
– Около девятнадцати дней на изучение бесконечных миров… – покачал головой Баламут, взяв протянутую мной рюмочку коньяка. – Маловато будет, товарищ майор…
– Может и хватить, – отчетливо выговорил Худосоков. – Эта штука, как все великое, должна быть устроена очень даже просто… Надо просто узнать, где у нее замочная скважина, потом подобрать отмычку…
– Повернуть два раза, и очутится у Господа за пазухой… – усмехнулся я. – А что касается простоты устройства, так ДНК человека тоже очень просто устроено, однако его полста лет ученые всего мира изучают, и еще на сто лет осталось.
– Нет, Нулевая линия должна быть устроена проще, есть у меня такая уверенность… И вообще в это лучше верить, потому как верить нам больше не во что…
– И это все, что ты хотел нам сказать? – спросил Баламут разочарованно. Ему по-прежнему не хотелось покидать адские места, ставшие такими привычными, если не сказать – родными.
– Да.
– Ну-ну… И ради этого пятиминутного сообщения ты бегал по берегу и руками нам махал?
– Перенервничал. Мне почему-то показалось, что вы откажетесь лезть в колодец… Вы так здесь все притерлись…
– Мы откажемся? – хохотнул я. – Чтобы мы отказались лезть в ж… то есть в колодец? Ты плохо нас знаешь!
– А почему прямо сейчас не полезть? – поинтересовался Бельмондо. – До утра мы часов десять потеряем…
– Нет, давайте спешить не будем… – покачал головой Худосоков. – Может быть, "трешка", наконец, даст о себе знать. Да и время вам надобно, чтобы обдумать свои будущие действия, настроиться, наконец… И поэтому предлагаю сейчас разойтись.
Сказав, посмотрел на меня с ухмылкой: – Дон Карлеоне покажет тебе твою спальню.
* * *
Спальня моя была царской… Все в ней было царским.
Большая беломраморная ванная комната с натурально золотой сантехникой…
Огромная золотая кровать под голубым газовым балдахином…
Пушистые персидские ковры и головастая тигровая шкура на полу.
Чудесные гобелены изумительно тонкой работы на стенах.
И Ольга в обтягивающем платье, Ольга, ожидая меня, заснувшая на пурпурном покрывале…
* * *
Наутро мы позавтракали на скорую руку (кстати, руки у дона Карлеоне уже почти не тряслись, тряслись они у Крутопрухова, да так, что чашечки с кофе мелко дребезжали на подносе) и, распрощавшись с подругами, пошли к колодцу.
– А почему ты думаешь, что он нас не вышвырнет? – спросил я по дороге у Худосокова.
– Почему не думаю? Думаю, – ответил он, простодушно улыбнувшись. – Но, может быть, я ошибаюсь… Мы ведь с Крутопуховым и Карлеоне в Ад, так сказать, по определению попали, вот колодец нас отсюда и не выпускает. А вам по земным заслугам Чистилище полагается, да и затащили вас сюда обманом… А если не получится, не беспокойся, в песок или в море не очень больно падать…
…Колодец с его сиреневой клубящейся начинкой выглядел в то утро особенно загадочным и, я бы сказал – притягательным. Присев вокруг него, мы закурили.
Я думал об Ольге. Той, московской. Той, которая может бросить, и может вернуться. Той, которая единственна. Той, с которой ты не хозяин, а влюбленный. Той, которая не дает полюбить даже совершенную свою копию. Той, ради которой я без сожалений готов покинуть рабский мне остров.
Нервничавший Баламут расправился с сигаретой в три затяжки. Его единственная была мертва. Он видел ее, мертвую, и во второй Софии. Ночью ему в голову пришла мысль, что он мог бы пригласить ее на остров. Ту, первую. И изменять ей открыто. Так, как изменяла она. Под утро он понял, что если останется, то это произойдет. И он потеряет себя.
Вдавив окурок носком ботинка в песок, Николай пожал мне и Бельмондо руки и со словами "Если что-то я забуду, звезды, вряд ли, примут нас" шагнул в искрящуюся сиреневую бездну.
Она его приняла. Вторым подошел к колодцу Бельмондо. Пожав мне руку, он прошелся взглядом по океану, неспокойному с утра, по острову. По его грустным глазам было видно, что Ад ему полюбился и расстается он с ним, как, уходя на войну, с которой нет возврата, расстаются с родным краем… Последний его взгляд растворился в лесу, скрывавшем озеро…
Когда пришла моя очередь исчезнуть в сиреневой неизвестности, меня охватило сомнение. Я пристально взглянул в глаза Худосокова. "Сочинил, гад, все про Трахтенна, чтобы сплавить нас с острова… Перепихивают с "трешкой" друг другу, – думал я, пытаясь найти в желтых его зенках подтверждение своего подозрения.
– Ну, если ничего не получится, – с виноватой улыбкой развел он руками, – то, по крайней мере, я от вас избавлюсь… А за женщину свою не беспокойся… Она тебя найдет.
И гадко усмехнувшись, добавил:
– Я имею в виду ту, шестидесятипятилетнюю.







