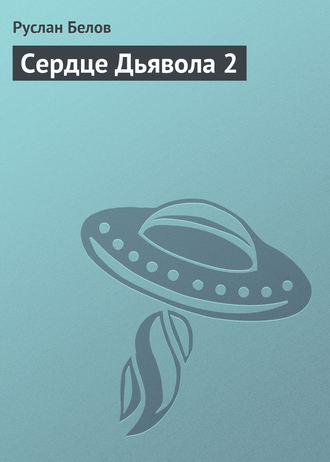
Руслан Белов
Сердце Дьявола 2
3. Сколько же он их съел? – Худосоков на покое. – Хорошо, что дверь открывается наружу…
Лишь только снежный человек скрылся со своей жертвой, до моего слуха донеслись совершенно необъяснимые в контексте событий звуки. В растерянности я забегал глазами по столовой и увидел, что поразившие меня звуки вызываются не чем иным, как ложками! Эти люди доедали то, что оставалось в их тарелках! Их товарища, пусть не товарища – сослуживца, только что унесли на заклание, да что на заклание – на съедение! а они, как ни в чем не бывало, продолжали свою трапезу! Более того, хорошенькая официантка, талию которой я продолжал держать в руках, по-прежнему неотрывно смотрела на меня. И в ее глазах светилось желание доставить мне удовольствие вполне определенного рода.
Я, вне себя от негодования, выпустил талию девушки из рук, сел за стол и придвинул к себе второе.
"Все складывается воедино, – думал я, не чувствуя ни вкуса, ни запаха поглощаемой пищи. – Тот голый Вася, упавший с Кырк-Шайтана на наши головы, эта бритая обезьяна и, наконец, эта явная привычность подземного общества к ее набегам… Не иначе я попал в крааль к тривиальному людоеду… Человек в неделю… Значит, он съел примерно пятьдесят бывших подчиненных Худосокова. Если начал их есть сразу после нашего отъезда. Всего подземных сотрудников было человек семьдесят-восемьдесят… Значит, через пару-тройку месяцев он должен приняться за кишлачный народ. А если их, людоедов, здесь несколько? Вот попал! А эта девица? Судя по ее глазам, у них тут строжайший сухой закон. Ни-ни секса. Хотя нет, какой сухой закон. Это Ленькина обработка. Он ведь все из своих служащих-мужиков выжимал, все, кроме, естественно, служебного рвения. Ладно, хватит размышлений. Бельмондо с Баламутом уже, наверное, беспокоятся".
Встав из-за стола, я взял официантку за руку и отправился к друзьям.
Баламут и Бельмондо сидели в тени машины, о чем-то горячо споря. Увидев нас, замолчали и принялись исподлобья разглядывать мою простодушно улыбавшуюся спутницу. Сев рядом с ними, я закурил и, по-хозяйски посматривая на Клеопатру (так мне пришло в голову назвать девушку, чем-то походившую на египетскую царицу из известного голливудского фильма), рассказал о ситуации в подземелье.
– Я думаю, эта обезьяна – продукт физиологических опытов Худосокова… – выслушав, глубокомысленно изрек Бельмондо.
– А как она на тебя реагировала? – спросил Баламут. – Ты не почувствовал, что она и тебя рассматривает, как объект пищеварения, то бишь обычный продукт повседневного питания?
– Да нет вроде… – ответил я, пожав плечами. – Скользнула по мне взглядом, может быть, даже на мгновение испугалась…
– Испугалась! Ну и прекрасно, господа! – потер Борис руки. – Боится – значит уважает!
* * *
…И раньше Бельмондо был парень не промах, но, испытав душевное потрясение, он и вовсе сделался не знающим усталости демоном. Не знаю, каким образом (не поднимая головы и не покладая рук, я занимался изучением сохранившейся компьютерной техники и иного оборудования), но через сутки все бывшие сотрудники Худосокова смотрели на него как на хозяина и неукоснительно выполняли все его приказы.
Поселились мы в своих комнатах. В тех самых, в которых жили год назад, жили с женами. Николай, войдя в свою, – я шел за ним, – совершенно раскис. Лунатиком он приблизился к кровати, сел. Обнажил подушку, откинув край одеяла. И отпрянул.
Подойдя, я увидел, что его изумило. Золотой волосок Софии.
Я почернел от досады: "Конец Баламуту… Будет теперь бегать по коридорам Центра, крича: "Ау, София, ау"".
Я не ошибся. Николай обратил ко мне лицо. Оно, вся его фигура выражали решимость найти Софию во что бы то не стало.
– Она здесь! – воскликнул он, ожидая от меня немедленного проявления бурной радости. – Она определенно здесь! Я чувствую, понимаешь?
* * *
На следующий день мы выяснили, что добраться до жилы медеита нам не удастся. Потому что подходы к ней взрывал я, никогда не жалевший аммонита. На разборку завалов потребовалось бы несколько недель и это при условии использования буровзрывных работ. Бельмондо посетовал на мою прошлогоднюю рачительность и поручил поискать Волосы Медеи на складах Худосокова.
На второй день работы в Центре я установил, что создание "трешки" вполне возможно без приобретения какого-либо компьютерного или иного оборудования. В обширнейших складских помещениях мне удалось обнаружить все необходимое вплоть до тора. Однако ни медеита, ни неврогаза (или эссенции, как мы стали его называть) мне найти не удалось. И это меня огорчало.
* * *
Да, в деле усовершенствования человеческого общества я решил идти с товарищами до конца. Вопросы самосовершенствования занимали меня постоянно, но собственные успехи в этой области были мизерными и, вдобавок, рассеивались так же быстро, как дым у костров. Возникавшие же в связи с этим рассеиванием реактивные потуги по улучшению окружающих и близких, то есть общества, всегда кончались моим от него отторжением.
Впервые я прокололся на строительстве коммунизма. Будучи старшим геологом геологоразведочной партии и комсоргом крупной экспедиции, я строил коммунистическое будущее самозабвенно: ежедневно изматывался в маршрутах, работал в загазованных и обваливающихся штольнях, питался с голодухи галками и чумными сурками, воевал с несознательными проходчиками, буровиками и начальством…
Я с детства был насквозь пропитан коммунистической идеологией. Однажды, возвращаясь домой с дружеской вечеринки, я вытолкал из автобуса парня, на куртке которого был изображен американский флаг. "Нечего чужие флаги носить, у нас есть свой, советский!" – кричал я ему вслед, потрясая указательным пальцем.
Но прошло несколько лет, и я понял, что происходящее вокруг не имеет ничего общего со строительством коммунизма. Большинство людей и практически все начальство строило не коммунизм, а личное будущее. Они губили нас, простаков, воровали или "закапывали" народные деньги, приписывали, боролись в верхах за неперспективные месторождения. Когда я окончательно понял, что все это не пена, а преобладающий образ жизни, мне стало скучно.
– Получается, что нормальный, честный, добрый человек, радеющий о всеобщем благе – это исключение, щепка среди моря жуликов, – говорил я друзьям. – Или даже не исключение, а несуществующее явление, фантом, химера…
– Успокойся, дорогой, – отвечал мне Борис, прекрасно приспособившийся к теневым особенностям развитого социализма. – Химера, химера… У тебя самого с одной стороны нимб, а с другой – жопа. И вообще, все поэмы о великой любви сочинены импотентами или развратниками. А все своды законов – великими преступниками… А все великие гуманисты были либо безвольными слабаками, либо злодеями, либо просто неврастениками.
С производства геологоразведочных работ я ушел в науку – скопище высоких интеллигентов. И однажды стал свидетелем всенародной ссоры двух кандидатов на должность директора одного из славнейших и старейших московских институтов.
– Я тебя раздавлю! – шипел один. – У меня вице-президент Академии в кармане!
– А я вас обоих с дерьмом смешаю! – злорадствовал другой. – У меня кореш на Старой площади!
И везде, где бы мне ни приходилось жить или работать, всем правило зло и жажда наживы… Но, тем не менее, мечта жить ангелом среди ангелов не истребилась, и я был готов ради этого на любую авантюру.
…Один известный режиссер поставил однажды на российской императорской сцене драму-трагедию по книге Маркса "Капитал". Она провалилась: массовке платили мало, ведущие актеры зажрались, а когда в главрежи закономерно выбилось Ничто, и вовсе развалили спектакль на несвязанные действия.
Так почему же не повторить попытку на новом витке спирали? Тихой сапой, келейно? Массовка спит и вдруг просыпается в обществе справедливости! Причем справедливости не моей, не его, не дяди Сэма, а основанной на лучших кодексах законов!
И еще один момент. Из всемирной истории я знал, что, скорее всего, из нашей затеи ничего не выйдет: игры с народом всегда заканчиваются жестоким поражением. То, что с пафосным таким ударением называют человечеством, беспощадным железным катком прокатывается не только по большинству рядовых своих членов, но и по "чингисханам", "наполеонам", "гитлерам", "сталинам". И поэтому я рассматривал затею Бельмондо, как игру, опасную лишь для нас с Баламутом и, может быть, сотни-другой преступников.
А сам все более и более задумывался об идее, высказанной Худосоковым. А если действительно каждому новорожденному вживлять в голову микрочип, который постоянно и эффективно внушал бы ему то, что пытаются внушить своим детям ответственные родители: "Ты хороший человек", "Ты счастливый", "У тебя отличные родители!", "Все люди хорошие", "Ты не можешь никому причинить зла", "Ты учишься, живешь и работаешь во благо каждого и каждый учиться, живет и трудится в твое благо".
И все! Все вопросы будут решены! Люди перестанут ощущать себя несчастными, перестанут тянуть на себя одеяло и всем его хватит! Не нужно будет религий, которые пытаются внушить людям то же самое, но столетие за столетием терпят поражение из-за лицемерия своих служителей.
А если ничего из этого не выйдет, если человечество не может существовать в атмосфере добра, то пусть оно погрязнет во зле, но во зле уже не лицемерном, а в том, честном, о котором любил говорить Худосоков. И пусть тогда каждый несчастный знает, что его грабят, унижают и убивают во имя великой цели – во имя сохранения человечества!
…И я "рыл землю" – искал эссенцию тотально, обшарил каждый квадратный метр каждой комнаты, каждой камеры, каждого коридора.
И нашел кое-что… Но не газ, а Худосокова… Он, забальзамированный, одетый в синий костюм-тройку, белую рубашку и черные туфли, лежал в красном гробу, стоявшем на покрытом тяжелым драпом помосте.
"Наверное, он так завещал…" – подумал я, вглядываясь в мертвое лицо Худосокова. Оно, тронутое предсмертной усмешкой, было страшным какой-то особой антиживостью, оно жило смертью и не просто смертью, а смертью, дышавшей мне в затылок. Моей смертью, смертью моих друзей и близких… "Он что-то придумал! – замерло сердце. – Его смерть – это продуманное звено его козней, посмертных козней!"
Сотря испарину со лба, я вынул перочинный нож, непослушными руками раскрыл его и вонзил в грудь мумии.
Лезвие вошло в нее, как в рыхлый пенопласт Я успокоился и покинул склеп, насвистывая "Однажды смерть старуха пришла к нему с косой, ее ударил в ухо он рыцарской рукой…"
Приподнятое настроение помогло мне – не прошло и часа, как я нашел эссенцию. Она хранилась в химической лаборатории, в нише, прикрытой фальшивым электрощитом.
Колб с голубым искрящимся газом было штук пятнадцать. Они стояли на металлических полочках и мерцали в унисон, как бы обмениваясь мыслями и впечатлениями.
Взяв одну в руки, я обернулся к потолочному плафону, чтобы посмотреть колбу на просвет и увидел… барф-шайтана. Он, совершенно нагой, стоял и думал, съесть меня прямо на месте или перенести это мероприятие в свое логово – мысли эти были написаны на его зверином лице и в глазах весьма отчетливо. Я инстинктивно метнул в него колбу; она, отскочив от мощной груди природного феномена, упала на пол, разбилась. Рассмотреть, как душевная эссенция высвобождается из заточения я не смог – прямой в челюсть выбросил мое тело в коридор.
"Хорошо, что дверь открывается наружу", – подумал я в полете.
* * *
…В сердце вон Сер Вила закралась печаль. Последнее время он несколько раз в мер посещал релаксатор и полюбил ощущать себя жителем Синии. Трахтенн, как и многие марияне, побывал во многих уголках своей звездной системы, испытал практически все виды удовольствий, в том числе, конечно, и сексуальных, но о таких ярких и удивительных по своему разнообразию ощущениях, он не мог и мечтать…
"Все удовольствия, испытанные мною за всю мою жизнь, не стоят и единственного эха, проведенного с жительницей этой планеты, – думал он, не сводя взгляда с Синии, призывно мерцавшей в иллюминаторе. – И эту удивительную планету я должен уничтожить…
Да, синийки вскружили ему голову. Вон Сер думал только о них. В очередной раз вообразив себе лобок Нинон, покрытый мягким курчавым волосом, вспомнив непередаваемый вкус ее внутренних губок и вновь пережив совершенно невозможный для мариянина чувственный взрыв, Трахтенн огромным усилием воли подавлял в себе добропорядочное желание покрыться голубой слизью и бежал в релаксатор, не остывший еще от предыдущего посещения…
4. Обезьяна в первобытном состоянии. – Людоедствовал! – Баламут падает в обморок.
Очнувшись, я увидел над собой барф-шайтана, лишившего меня нескольких минут сознательной жизни.
– Извините, сударь, – сказала он, прикрывая срам руками. – Так получилось…
Я вытаращил глаза. Если бы не ступни 47-го размера, я подумал бы, что передо мной стоит не говорящая обезьяна, а нормальный человек.
– Я не хотел, вернее, он хотел, не я… – продолжил оправдываться барф-шайтан.
Я замотал головой – говорящая обезьяна не исчезала.
– Выпить хочешь? – попыталась загладить вину обезьяна, и я немедленно пришел к мысли, что в ней очень много человеческого.
– Угу, – сказал я, ощупывая скулу и челюсть. На скуле что-то непонятное обнаружил, исследовал на ощупь и пришел к выводу, что это телесного цвета бактерицидный пластырь с дырочками.
"Дожил… – подумал я, отковыривая его ногтями. – Не-ет, не возьмешь! Сначала пластырь на рожу, потом в уютный кабинет с мягким креслом, пластиковыми папками, кондиционером с дистанционным управлением и смородиновым чаем "Липтон" в одноразовых пакетиках. И так всю жизнь. Брр! Как фикус в кадке".
В это время мои глаза сами по себе сфокусировались на бутылке полусладкого десертного вина. Не мешкая, раскупорив ее, я принялся пить из горлышка. Выпив половину, отставил бутылку и стал ждать, пока поглощенное вино разделается с остатками владевших мной страхов.
– Ты это чего вдруг? – спросил я, когда вино успешно справилось с поставленной задачей.
– Чего чего?
– Зачем синехалатников ел, вот чего.
– А что поделаешь? – погрустнел визави. – Ел, конечно. Я же себя не контролировал… Так сказать, совершал преступные деяния в состоянии невменяемости организма.
– Ну и как? – спросил я, не в силах отвести глаз от чудовищных ступней собеседника.
– Что как?
– Вкусно?
– Ты меня на пушку не бери! Вкусно, не вкусно, я теперь – человек и людьми питаться больше не намерен.
– Молодец! – улыбнулся я. – А как ты до жизни такой дошел?
– Долгая история… – сказал бывший снежный человек, ладонью очищая грудь и живот от щетины. Она удалялась также легко, как обработанная эпиляторным кремом.
– А ты принеси еще бутылку вина, закуски какой и рассказывай. Я послушаю, мне интересно, да и по служебным обязанностям полагается…
Через десять минут Барф-шайтан явился в синем халате и с заказом.
– Ну, повествуй, давай, – потребовал я, разглядывая новоявленного синехалатника.
– Полтора года назад, в Саратове пошел я к одному известному психоаналитику, – усевшись на полу, начал рассказывать мой новый знакомый. – Были у меня проблемы с людьми…
– Ты что и раньше их ел!!?
– Да нет, психологические проблемы… – грустно улыбнулся эксбарф-шайтан. – И этот психоаналитик послал меня к хорошо известному вам Худосокову…
– А откуда ты знаешь, что эта темная личность мне с друзьями известна?
– А я видел вас с ним, да и вы видели меня… Я – Горохов Мстислав Анатольевич. Помните такого?
И я вспомнил, как с друзьями наблюдал процесс извлечения невроэссенции из собеседника. Худосоков тогда рассказал нам его историю болезни – влюблялся в своих женщин до крайности, превращая их и свою жизнь в муку. "А я высосу, – говорил, – из него немножечко души, оравнодушу по краям, и будет самое то – и жена будет довольна, и любовница, и доживет счастливым до девяноста двух лет".
– Так ведь он вас вылечил! Я сам видел ваши равнодушные, холодные глаза…
– А помните, как ваши дочки случайно вошли в главный компьютер, в "двушку"? И Худосокова оравнодушили?
– Ну…
– Так перед тем, как фамилию Худосокова на экране компьютера "кликнуть", и тем под колпак послать, твоя дочь мою фамилию "кликнула". Я уже на пути в Самарканд был, когда меня охранники догнали и под колпак вторично посадили.
– А вы откуда знаете, что именно так и было?
– Китайгородский Константин Сергеевич сказал. Ну, тот, которого вместе со мной околпачивали… Он еще сопричастностью страдал, помните? За эфиопов голодных переживал, за экологию Байкала и рождаемость в Ямало-ненецком национальном округе…
– Конечно помню. И после второго околпачивания ты полностью обездушил…
– Да… Не полностью, правда, а как раз до уровня обезьяны. Потом "двушка" вернула бы меня, наверное, в первобытное состояние, но вы такой тарарам со стрельбой подняли… А без души люди быстро в обезьян превращаются, в том числе и телесно. Смотрите, у меня даже стопа разошлась, совсем обезьяньей стала… И шерсть выросла, как у мартышки…
– А ты, что, брился?
– Да… Иногда… Но сам не понимаю зачем… Видел однажды, как один синехалатник из моей овчарни брился, вот и начал по-обезьяньи подражать…
– Слушай, Горохов! – начал я, немного подумав над словами собеседника. – Значит, это я тебя вылечил?
– Да. Колбой кинул и вылечил…
– Она разбилась, и ты впитал в себя души сколько нужно…
– Да…
– Значит, мы можем всех синехалатников таким же образом в нормальных людей превратить?
– В принципе, да… Но я бы не стал…
– Почему?
– Худосоков из разных людей их делал… Преимущественно из психов и неврастеников. Похлестче нас с Константином Сергеевичем…
– Понимаю… – внимательно посмотрел я в глаза Горохова. И вспомнив манну небесную, свалившуюся с Кырк-Шайтана чуть ли не на нашу палатку, посуровел:
– А чего ты это вдруг, Мстислав Анатольевич, людей есть начал?
– Так никакой другой подходящей пищи не было, бананов или ананасов, например. А картошка ни в каком виде не пошла… Я деревенский, видите ли, сызмальства ею накушался…
– А мясо мороженое с кухни?
– Фу!
– Ну, ходил бы в кишлак кур воровать… Или, того легче, баранов на пастбищах.
– Да ладно тебе меня пытать: обезьянья душа – потемки. Оставь винца-то немного. Я потом еще принесу…
* * *
Поговорив по душам, мы пошли к моим товарищам и обнаружили их в гостиной. С ними творилось нечто необычное: Баламут сидел в кресле бледный, как полотно, а Бельмондо поил его из стакана водой.
– Картина Репина "Приплыли", – начал я юродствовать, – или "Иван Грозный пытается оживить сына".
– Да вот, вошел пять минут назад сам не свой, пролепетал, что в коридоре Софью видел и упал в кресло, как институтка… – обернул ко мне недовольное лицо Бельмондо.
– Софью? – искренне удивился я. – Ковалевскую? А может быть, Офелию? Или тень отца Гамлета?
– Нет, Софью, жену свою бывшую… А это кто с тобой?
– Горохов Мстислав Анатольевич, ваш покорный слуга, – выступила из-за моей спины бывшая обезьяна.
– А… – вспомнил Бельмондо, критически рассматривая огромные ступни Горохова. – Выздоровели, что ли?
– Да, полностью…
– А как вы, дорогой Мстислав… – запнулся Борис, припоминая отчество собеседника.
– Анатольевич, – подсказал бывший шайтан.
– Да, Мстислав Анатольевич, как вы относитесь к благородной задаче спасения человечества от язвы организованной преступности и бандитизма?
– Хорошо отношусь. Мне господин Чернов по дороге сюда разъяснил ситуацию и я готов вам услужить. Тем более, что я специалист по вычислительной технике и связи.
– Понимаете, дорогой Мстислав Анатольевич, – заговорил Бельмондо, натянуто улыбаясь, – нам люди нужны, а потом уже специалисты… Не согласитесь ли вы поработать частью биологического компьютера? Вы же ученый, вам будет интересно…
– Неожиданное предложение… – задумался Горохов. – Разрешите подумать, господин Бельмондо?
– Можете подумать пару дней, а потом – в компьютер! Пора дело делать…
Последнюю фразу Бельмондо сказал рассеянно – в дверях появилась… София.
* * *
В промежутках времени между посещениями релаксатора Трахтенн, размышлял о жизни. Подумать было о чем. Уничтожая себя и Синию, он спасал существующую Вселенную, но уничтожал Будущую, совершенно невообразимую, чудовищную, может быть, а может быть, поразительно чудесную. Уничтожая Естественное Будущее, он сохранял будущее, маленькое, теплое, безопасное, привычное будущее. Вмешиваясь в естественный ход вещей, то есть в помысел Божий, он становился… палачом Естества. Или революционером. Разумное существо может изменять Природу, знал он. Вернее, разумное существо не может не изменять Природу. Но до какой степени это позволительно мельчайшей капельке конформной протоплазмы? А если это изменение суть превращение тысячелетних скал в песок, а вековых сосен в технологическую щепу? Или мариян и других жителей Вселенной в сутолочных черво, как это произошло в объеме галактики 774343/999044 после перехода В2/В3? Имеют ли право живущие изменять Естество ради своего спасения? Имеют ли они право изменять то, что в миллиарды раз сложнее любой известной им сложности? Имеет ли они право окостеневать, вырождаться бесконечно в удовольствиях, лишая Вселенную будущего, без сомнения, бесконечно прекрасного?
Нет, не имеют! – отвечал он себе, тем не менее, зная, что ни при каких обстоятельствах не свернет со своего смертельного пути…







