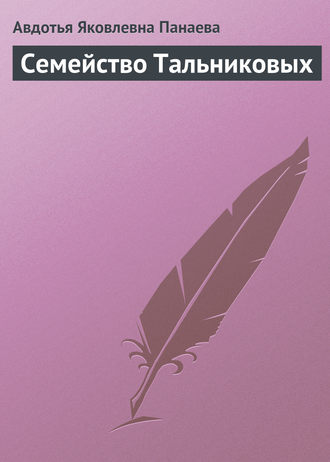
Авдотья Яковлевна Панаева
Семейство Тальниковых
Глава XI
На другой день я встала с красными глазами.
– Уж не об Алексее ли Петровиче изволили плакать? – спросила Степанида Петровна.
– Вам что за дело? Оставьте меня в покое!
И слезы снова блеснули у меня в глазах. Степанида Петровна заговорила жалобным голосом:
– Бедная! Вздумала, что он женится на ней! Да не женится, хоть каждый день плачь с утра до ночи, – заключила она резким голосом, который больше шел к ее лицу.
После такой мучительной ночи я не имела сил терпеливо вынесть ее насмешки; схватив себя за голову, я прислонилась к стене и зарыдала… Меня начали бранить, зачем я плачу так громко.
– Хоть бежать! – проговорила я в отчаянии, сама не зная, что говорю, и вдруг меня образумил отвратительный, торжествующий смех Степаниды Петровны.
– Право! – шипела она. – Ай да Наталья! Вот готовишь сюрприз родителям!.. Уж не к Алексею ли Петровичу? Впрочем, ты всегда смотрела такой…
При имени Алексея Петровича и таких оскорбительных подозрениях слезы мои исчезли; я подошла к ней, и не знаю откуда брались у меня слова, но я не осталась у ней в долгу; я знала, сестра ее была в то время именно в таком положении, какое она мне пророчила.
Раздраженная до крайней степени, Степанида Петровна поклялась сказать все маменьке. И в сумерки она отправилась к ней.
Собиравшаяся гроза, страх, может быть, никогда больше не увидеть Алексея Петровича, предчувствие нового унижения – все это внушило мне отважную мысль: я решилась во что бы то ни стало увидеться с Алексеем Петровичем, все сказать ему и навсегда с ним проститься.
Я упросила брата Ивана сойти вниз, подстеречь, когда приедет Алексей Петрович, и попросить его подождать там меня.
– Ну, смотри, Наташа, если увидят!?.
– Тебя увидят, так ничего, а если меня, так я скорей умру, чем скажу, что ты мне помогал.
– А что ты хочешь сказать ему?
Не вдруг нашлась я отвечать брату на его вопрос.
– Ты пробеги прямо к дедушке, – заключила я, когда он согласился на мою просьбу: – я уж и буду знать, что Алексей Петрович ждет меня.
– Ну, хорошо!
Пришел час, когда обыкновенно приезжал Алексей Петрович и другие гости. Я сидела как на иголках. Вдруг брат Иван с шумом пробежал в комнату к дедушке, – я чуть не выдала себя: так хотелось мне тотчас броситься к двери; но я удержалась, встала спокойно и не торопясь вышла в сени. Там стрелой сбежала я с лестницы, чуть не сбила с ног Алексея Петровича, который дрожал от холоду, и очень испугалась при мысли, не натолкнулась ли я на кого другого.
– Ах, как вы меня испугали!
– Что с вами? Успокойтесь! Я все знаю: мне брат ваш успел рассказать…
Я еще больше испугалась, подумав, не рассказал ли ему брат наших ссор с тетушкой.
– Ах, что он сделал! Вы не слушайте его: он любит болтать!
– Нет, я все знаю и прошу вас не тревожиться…
Он взял мою руку.
– Отчего вы дрожите? Боже мой! Вы в одном платье! Вы простудитесь!
Он хотел прикрыть меня своей шинелью. Я быстро отскочила.
– Нет, мне тепло. Я вам должна скорей все сказать. Маменька знает все, ей…
Алексей Петрович перебил меня.
– Повторяю вам, я также все знаю, и – не бойтесь!
Потом он продолжал голосом, который мне показался торжественным:
– Вы должны будете сказать мне откровенно: любите ли вы меня?
Алексей Петрович взял мою руку и притянул меня к себе. Кровь у меня хлынула к голове, и я сказала:
– Да, я люблю вас.
– Очень?
Я спохватилась и отвечала ему:
– Вам хочется это знать, чтоб смеяться надо мною?..
– Что это значит? – сказал удивленный Алексей Петрович и выпустил мою руку из своей.
– Степанида Петровна уверяет меня…
Алексей Петрович рассердился: он плотно закутался в шинель, потом совсем раскрылся, как будто ему стало жарко, и сказал мне:
– Хорошо! Я сегодня же докажу вам, как я смеюсь над вами, а вам стыдно верить всем.
Мне всегда было весело, когда он сердился: мне казалось тогда, что он меня любит, и теперь сама не знаю как, но я много говорила ему, что очень люблю его. Он просил позволения поцеловать меня, но я твердо отказалась. Он сказал:
– Ведь вы завтра поцелуете же меня как жениха?
– Как жениха! Вы разве хотите жениться?..
– Не сами ли вы сказали, что любите меня?
Когда Алексей Петрович тихо говорил со мной, я сама не знала, что делала, я была совершенно в его власти. Не знаю, как случилось, но я почувствовала его жаркое дыхание, и его горячие губы прикоснулись к моей щеке. Я не противилась; на глазах моих навертывались слезы; я вся горела, но мне было хорошо.
Вдруг раздался голос на лестнице: «Наташа!», и брат уже стоял перед нами.
– Беги скорей! Тебя ищут!
С испугу я все забыла и, схватив брата за руку, хотела тотчас бежать, но Алексей Петрович удержал меня.
– Погодите, – сказал он жалобно.
– Я боюсь: меня тетенька ищет.
– Ну, так до завтра; не забудьте ваших слов. А я теперь пойду говорить с вашей маменькой.
– Ах, нет, погодите! Могут догадаться; лучше вы через час приезжайте!
– Хорошо, прощайте!
И Алексей Петрович поцеловал мою руку. Дрожь пробежала по мне, и какое-то особенное чувство овладело мной: в первый раз целовали у меня руку, будто то был знак, что я уже не девочка… Проходя прихожую, где вечно лежала собака, привязанная на цепи, я думала: вот злая собака сейчас своим лаем известит всех, где я была; но она, свернувшись, дремала и только при моем появлении приподняла и тотчас закрыла опять свои заспанные глаза да стукнула раза два хвостом в знак приветствия. Я вошла в детскую; мне казалось, что на моей щеке губы Алексея Петровича оставили огненный знак; я закрыла щеку рукой, но и на руке мерещился мне тот же знак, – я совершенно смешалась. Но беспокойство мое было напрасно: отсутствия моего не заметили…
Ровно через час собака залилась лаем. Степанида Петровна радостно заглянула в прихожую и с торжественной улыбкой сказала:
– А вот и Алексей Петрович.
Но встретив мой взгляд, полный гордости и презрения, она смутилась и поспешно отвернулась…
Я села в угол и решительно не сводила с нее глаз: она как-то странно конфузилась, вертелась на своем стуле, наконец переменила место: казалось, мои глаза, как огонь, жгли ее совесть… Наконец она не выдержала и сердито спросила:
– Что ты вытаращила глаза?
– Я стараюсь прочесть в ваших глазах, сколько вы сегодня лжи и доносов сделали маменьке.
– Ах, боже мой! Что с тобой? Да ты так дерзко смотришь! Ну, погоди, завтра тебе будет за все.
– Посмотрим! – сказала я так выразительно, что тетушка побледнела и превратилась вся в удивление…
Гости разошлись, но Алексей Петрович еще остался…
Я легла спать в страшном волнении, в первый раз чувствуя какое-то достоинство: меня любят, я выйду замуж, больше никакой мысли не могла я связать в голове… Утром я стала, по обыкновению, сбираться к учителю, но маменькина горничная с улыбкой сказала мне:
– Барышня, маменька не приказала вам сегодня ходить к учителю… поздравляю вас, барышня!.. – прибавила она значительно.
– С чем? – спросила я, невольно вздрогнув.
– Полноте, барышня! Я ведь слышала, как Алексей Петрович разговаривал с маменькой; вы теперь невеста… так подарите мне старый салоп.
Степанида Петровна еще лежала в постели и, казалось, спала, мы говорили тихо, – но при слове «невеста» она вскочила, с испугом осмотрелась кругом и дико закричала:
– Кто? Какая невеста?
Я знаком просила горничную молчать. Тетушка взволновалась. Я начала смотреть на нее по-вчерашнему.
– Что же ты нейдешь? Уж половина десятого, – сказала она с беспокойством.
– Не хочу, – отвечала я презрительно.
Она все заметней терялась, но когда Александра Семеновна радостно поздравила меня как невесту, Степанида Петровна задрожала и рухнулась на стул… ноги ей изменили… она закрыла лицо руками и заплакала.
Вдруг все засуетились в детской, глухой шум пролетел всюду: «Маменька идет! Маменька!..» Еще в прихожей слышались твердые шаги, – маменька величественно вошла в детскую.
Я поцеловала ее руку и возвратилась на свое место… Маменька начала так:
– Очень хорошо! Так-то вы себя ведете? Я все знаю… – Тут она склонила голову на сторону, отчего во всей ее фигуре еще резче выразилось чувство материнской гордости, и продолжала: – Ваше счастие, что вы имеете такого отца и такую мать… вы думаете, что он женится за ваше лицо? Нет, из уважения к вашему отцу и матери… – И, переменив величавый тон на простой и снисходительный, она заключила:
– Отчего ты не сказала мне, что он хочет жениться на тебе? А?
– Оттого, что я вас совсем не видала…
Маменька, немного смущенная смелым моим ответом, трагически сказала:
– Хорошо! Теперь все кончено! Желаю, чтоб вы жили так же, как ваш отец с матерью.
У меня невольно вырвалось:
– Не дай бог!..
Заметив только движение моих губ, маменька сердито спросила:
– Что?..
Я молчала. Видя в своей дочери такое равнодушие, она поспешила покончить сцену, обещавшую ей гораздо больше эффекту…
– Ну, поздравляю – и вот тебе мое благословение! – Она сделала крест на воздухе и выразительно протянула мне руку… Но, не знаю, что-то удерживало меня поцеловать ее… Напрасно Александра Семеновна тихонько делала мне умоляющие знаки: какое-то новое, странное чувство говорило во мне все громче и громче, и я не двигалась… Наконец маменька, оскорбленная, прижала отвергнутую и усталую руку к груди, с презрением осмотрела меня с ног до головы и быстро пошла из детской, сосредоточив в своей походке весь оста ток величия…
Сестры и братья радовались моей смелости, Александра Семеновна бранила меня и охала. Степанида Петровна сидела как убитая, с поникшей головой; коса ее была распущена, она держала в руках гребенку и бессмысленно смотрела на нее; только изредка ее взгляд падал на меня… Наконец она наскоро оделась и ушла с чрезвычайной поспешностию…
Вечером, когда приехал Алексей Петрович, папенька привел его в детскую и сказал:
– Вот вам и жених!
И больше ничего…
Сватовство происходило очень оригинально, как рассказал мне Алексей Петрович. В первую минуту маменька не могла скрыть удивления, что он женится на мне, и поправилась так:
– Впрочем, вы не смотрите на нее, – если ее приодеть, она будет очень недурна…
Он просил ее до времени держать его предложение в тайне, она обещала, но в тот же день поехала рассказывать своим знакомым, что вот каким они пользуются уважением: на дочери их женится богатый человек, дворянин, да уж и у другой дочери есть жених, хоть не так богат, но зато ума и учености необыкновенной…
А на другой день, когда Александра Семеновна чесала ей голову, она говорила ей:
– Да что она думает о себе! Разве я не имею над ними власти? Я мать! Хоть я и жена музыканта, а и смотреть не хочу на Алексея Петровича, даром что он дворянин. Да еще посмотрим, правду ли он говорит: может, просто деревнишка в пять голодных душ… – Тут она заливалась смехом. – Пожалуй, дворянки-то наши придут опять к отцу, к матери за куском хлеба… Только скажите им, что выгоню вон… ничего не дождутся! – И она так горячилась, как будто ее дочери уже стояли перед ней в рубище, окруженные кучей голодных детей, с протянутыми руками…
Дедушка не выпускал из рук календаря, читая всем нравы, наклонности и будущую судьбу моего жениха… Бабушка с радости выпила лишнюю чарку. Дяденька в первый раз поцеловал меня в лоб и сказал:
– Поздравляю тебя, мамзель На-та-ли-я!
Степанида Петровна не возвратилась домой; она осталась у бабушки и написала маменьке письмо, наполненное упреками за сближение ее сестры с сыном важного человека, за тиранское обхождение с ней самой и за многое другое…
Гнев маменьки обрушился на бабушку…
Наконец и сестра Софья сделалась невестой. Маменька объявила, что ей не из чего давать нам приданое, и мы стали думать о нем сами. Когда Алексей Петрович делал мне подарок, маменька приходила в детскую и ласково говорила тетеньке:
– Посмотрите, какой мне подарок сделал Кирило Кирилыч: да-с, не дворянский подарок: он только триста рублей стоит… – Наконец, раз она призвала нас и торжественно вручила нам по триста рублей самыми мелкими ассигнациями, так что пачки казались довольно велики, и по старому шелковому платью; я не хотела брать, но побоялась новой сцены…
Брат Иван успел наговорить дедушке о наших женихах бог знает каких чудес. И старик вечером, когда тетенька разливала чай, садился к ней и начинал говорить:
– Сидишь себе, ничего не знаешь, а ведь, как подумаешь, нынче не то, что прежде: бывало, генерал старый, а нынче едва борода покажется, уж и генерал!
– О каком генерале вы говорите, Петр Акимыч?
– Ну, разумеется, о каком! Посмотришь, такой худой…
Дедушка считал моего жениха генералом…
Глава XII
Между тем дяденька почти жил у нас: так завладели им карты.
Раз прибежала к нам бабушка впопыхах.
– Здравствуйте, мои голубчики! Что мне делать с Семеном? Он все ловит какую-то крысу! Лег спать да кряду двои сутки и проспал; ничего не ест, не пьет, а глаза большие, большие… А все проклятые карты, Наташа! Месяц тому он проигрался – вынул ломбардный билет, слышу: всё деньги считает, а потом я уж их не видала… Господи! Право, наказанье! Страшно домой итти. Говорит: маменька, посмотрите, крыса бежит, а ей-богу, Наташа, никакой крысы нет… Крадется за ней, ловит ее – все вверх дном перевернет, да еще бранится: вы, говорит, мешаете мне поймать ее, вы ими, говорит, меня кормите, оттого я ничего не ем… Каково? Ведь он просто рехнулся! Сначала я думала, шутит, да он так дико смотрит, что мороз по коже пробегает!..
Мы упросили бабушку остаться у нас обедать.
Вечером в прихожей собака вдруг страшно залаяла… Вбегаю – и вижу дяденьку. Он сбросил с вешалки чужие шубы и сделал из них посреди комнаты гору, а свою шубу старательно растянул по всей вешалке. Собака горячо вступилась за шубы, вверенные ее присмотру, – дяденька попробовал унять ее лаской, вежливо попросил у нее лапу, – но она, шипя и задыхаясь, становилась на задние лапы и почти висла на ошейнике… Я приласкала ее, она замотала хвостом, но все еще глухо ворчала, бросая дикие взгляды на дяденьку.
– Не подходите к Трезору, дяденька! Он вас укусит!
– Ничего, не бойся, мамзель Наталия. Уж меня и так крыса укусила за палец. Так больно! – И дяденька страшно изменился в лице, а потом улыбнулся. – Ну, да я ее! – Он подмигнул мне глазом и дико засмеялся: – Теперь не будет кусаться!
– Дяденька, не стойте здесь; пойдемте в детскую.
– Нет, я пойду в залу. – Понизив голос, он таинственно спросил меня: – А что, играют в карты?
– Играют, дяденька.
– Гм! – И он нерешительно пошел в залу.
Я стала у дверей и следила за ним…
В зале играли в бостон маменька, Кирило Кирилыч и папенька. Ни с кем не здороваясь, дяденька сел у стола. Он внимательно следил за игрой и заливался диким смехом, если кто ошибался. Сдали новую игру. Кирило Кирилыч объявил игру, сделал ошибку и проиграл… Дяденька протянулся через стол, спокойно прицелился и дал ему щелчка в лоб, крикнув:
– Дурак! Ведь дама-то уж вышла!
И он раскрыл взятку и пристально смотрел на роковую даму… Кирило Кирилыч в остолбенении смотрел на своего обидчика… Тот молчал, но глаза его, все еще устремленные на даму, сделались необыкновенно велики. Наконец он первый прервал молчание, заговорив о крысах, которые украли у него деньги.
– Что ты, Семен? Здоров ли ты? – спросила встревоженная маменька.
– Ха, ха, ха! Я болен! Нет-с, извините! Я хочу сбыть старые грехи… У всех, у всех буду прощенья просить… Так уж надо… не правда ли?..
Последний вопрос относился к Кириле Кирилычу. Не дождавшись ответа, дядюшка пошел в прихожую.
Здесь он опять вздумал приласкаться к Трезору; тот разорвал ему полу.
– Тьфу ты пропасть! Его ласкаешь, а он кусается! А дома батюшка?
– Дома.
– Позовите его, я хочу с ним поговорить.
Дедушка явился удивленный.
– Здравствуй, Семен! Зачем тебе нужен отец, которого ты…
– Здравствуйте, батюшка, – перебил его сын ласково.
И дедушка забыл свои жалобы.
– Простите меня, батюшка!
И сын бухнулся в ноги своему отцу, который в испуге обскочил и странно посмотрел на всех нас, будто спрашивал объяснения такому невероятному событию…
Дяденька встал, слезы текли по его бледным щекам; робко подошел он к отцу.
– Вы простили меня, батюшка?
– Бог с тобой, Семен.
И дедушка махал своими длинными руками, которые чуть не касались потолка, и отирал рукавом слезы.
– Дайте вашу руку, батюшка.
– Что ты, Семен, зачем тебе?
И дедушка пятился от него.
– Дайте руку сыну! – сказал трогательно дяденька.
Отец невольно повиновался. Сын благоговейно приложился к его руке и с какой-то напыщенной торжественностию вышел из детской.
Мы были поражены чувствительностию дяденьки, а дедушка не верил своему счастию. Язык его пришел в невероятное движение.
Дня через четыре дядюшка окончательно помешался. Он прибежал в детскую без фуражки; его лицо посинело, голос ослаб…
– Спасите меня, ради бога, спасите! Меня крысы заедят, даже по улице за мной гнались…
Рыдание помешало ему договорить.
Мне стало жаль его… Где тот грозный дяденька, который никого, ничего не боялся? Он дрожит и плачет, как некогда дрожал и плакал перед ним его бедный племянник!
– Дяденька, не плачьте! Останьтесь у нас, – сказала я ему.
Дяденька приподнял голову, посмотрел на меня ласково и тихо сказал:
– Хорошо, Наташа, я останусь… – Но вдруг он вздохнул и с испугом спросил: – А мать! А мать ваша?.. А Кирила Кирилыч?..
На другой день его обманом отвезли в сумасшедший дом. Не скоро с ним сладили. Папенька предложил ему ехать на охоту, он согласился. В охотничьем платье, в огромных сапогах, он невольно рассмешил нас…
– Прощайте, – говорил он самодовольно, расхаживая по комнате: – еду на охоту! Уж задам я Трезору. Жаль, не дают ружья: я бы попробовал убить хоть одну крысу.
Он скоро умер.
Дедушка не хотел верить, что его сын помешался.
– Что вы меня уверяете! Он недавно целовал у меня руку!
– Уж он тогда помешался.
– Вздор, не верю! Говорит: «Простите, батюшка». Разве так говорят сумасшедшие?.. Даже в ноги поклонился… нет, вы меня не дурачьте.
Меня сильно потрясло сумасшествие дяди. Я забыла даже свою скорую свадьбу, но маменька напомнила мне о ней упреками за неисполнение разных обычаев: зачем я не надеваю обручального кольца, не шью себе подвенечного платья атласного? Она ставила мне в пример сестру Софью, которая строго исполняла все обычаи…
Накануне свадьбы, когда мы укладывали чемодан, чтоб завтра ехать прямо из церкви в деревню, явилась в детскую маменька, снова благословила меня, прослезилась и напечатлела на моем челе прощальный поцелуй…
В день свадьбы я оделась очень просто – в белое кисейное платье с высоким лифом; голову причесала гладко; ни одной ленточки, никакого галантерейного украшения не было на мне. Тетенька пришла в ужас.
– Ах, боже мой! Да Алексею Петровичу будет стыдно венчаться с такой невестой. Ну, пожалуйста, надень хоть мои бирюзовые серьги!
Но я не надела.
Пробило двенадцать. Я вышла в залу, где мать и отец ожидали меня с образом, хлебом и солью. Дедушка надел свое парадное платье: белую косынку, скрывшую его вечный галстук, канареечного цвету жилет, синий фрак с золотыми пуговицами, талия которого приходилась на крыльцах, а фалды висели до пят. Сзади головы дедушки не было видно за воротником фрака; он не мог поворачивать ее и по сторонам ничего не видал, точно лошадь с шорами. Демикотоновые розовые, очень узкие панталоны обрисовывали его тощие, бесконечно длинные ноги; на нем были сапоги со скрипом, так что, когда он ходил, казалось, будто он играл на гармонике…
Где же гости? – спросил он с неописанным удивлением. Никого не будет, – сказали ему.
Дедушка просто обиделся.
Но взамен гостей зала скоро наполнилась домашними, которые пришли посмотреть, как меня отпустят к венцу. Даже Трезор, пользуясь суматохой, с веревкой на шее тихонько забрался под стол, откуда с видимым удовольствием следил за всей церемонией.
Меня стали благословлять. По приказанию тетушки я целовала образ и клала земные поклоны… потом началось прощанье…
– Прощай, желаю тебе счастья! – сказал отец с уверенностью и спокойствием, передавая свою дочь на всю жизнь человеку, которого знал только по имени… Зато маменька разыграла сцену трагическую…
Тетенька так плакала, что у меня самой брызнули слезы. Она нас любила; я тоже в ту минуту почувствовала, что люблю ее…
Ваня, растроганный нашими слезами, шепнул мне:
– Что, теперь сама плачешь, Наташа?..
Я отерла свои слезы.
– Прощай, Наташа! – говорила бабушка, которая с горя немножко уж выпила. – Обними свою бабушку!
Я обняла ее, но, прощаясь с ней, не чувствовала особенной горести.
– Прощайте, дедушка!
– Прощай, Наташа! Не забывай: в сентябре ему будет счастие во всем, – октябрь для него нехорош, – февраль…
– Хорошо, хорошо, дедушка; прощайте!
– Нет, ты выслушай: в феврале может делать покупки, продажу…
– Полно, Петр Акимыч! Вот с глупостями пристал! – крикнула на него бабушка.
Он с гневом кинулся к ней.
– Что! Небось, не нравится? А все с досады, зачем правду там сказано: мотовка, сварлива, болтлива!..
И он пропел жене своей всю старую песню…
А я в то время прощалась с сестрами и братьями. Сердце у меня сжалось… Всего тяжелей было мне расставаться с Ваней: не знаю почему, мы всегда с ним делили горе, хоть он был гораздо моложе меня…
– Ваня, не шали.
– Теперь можно: дяденьки нет!
– Ну, прощай.
И я опять поцеловала его.
– Наташа, поцелуй еще раз Лизу!
И брат приподнял ее до меня, я исполнила его желание… Отец в шубе показался в дверях:
– Пора, опоздаем!
Зарыдав, я еще раз перецеловала всех и выбежала в прихожую: все хотели последовать за мной, но отец запретил, опасаясь, что новые прощанья долго нас задержат… Дедушка махал своими длинными руками и кричал мне вслед:
– Помни же, Наташа, октябрь месяц и март тоже…
Трезор, с веревкой на шее, один проводил меня до кареты.
– Прощай, Трезор!
В ответ он ласково замахал мне хвостом…
– Прощайте, барышня, – сказал Лука, подсаживая меня: – желаю вам всякого благополучия.
Сел и отец; дверцы захлопнулись… Когда карета поехала, я в последний раз взглянула на дом, где столько я плакала: окна были усеяны головами, дедушка все продолжал махать мне… Все мне кланялись, я тоже кланялась… Но скоро все исчезло, только Трезор, с веревкой на шее, уныло сидел на крыльце, провожая глазами карету…
Здесь кончается рукопись, случайно попавшая в мои руки. Что сделалось с ее действующими лицами, я не знаю. В одном месте своих записок героиня называет себя старухой. Из этого видно, что события, описываемые ею, не относятся к настоящему времени. В самом деле, многим событиям ее детства теперь просто не поверят. Во всяком случае, если они своим резким изображением всего грубого и безнравственного, что может быть в домашнем воспитании при беспечности и дурных нравах родителей, – заставят оглянуться на самих себя и устыдят тех, кто сколько-нибудь виноват подобным образом перед своими детьми и перед обществом, – то это, я думаю, может служить достаточной причиной, почему я их печатаю.





