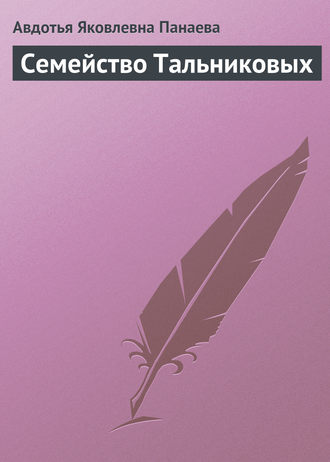
Авдотья Яковлевна Панаева
Семейство Тальниковых
Глава V
Попечения обо мне скоро кончились; как только доктор сказал: «ваша дочь спасена», меня предоставили природе, которая и постаралась оправдать такую лестную доверенность: вскоре я по-прежнему сидела за ученьем, голодала и часов по пяти сряду выстаивала на коленях. Гувернантка со дня свадьбы заметно стала худеть; вечера сделались скучны; Степанида Петровна гостила у молодых, а Александре Семеновне было не до дружеских излияний. В классе наставница наша задумывалась, вздыхала и часто принималась что-то писать; наконец в одно утро, когда мы сидели за уроками, гувернантка объявила тетенькам, что она желает ехать на отъезд, и прочла условие, наполненное такими подробностями и соображениями, которые доказывали глубокое знание практической жизни:
– «Я, нижеподписавшаяся благородная девица, имеющая аттестат, берусь учить семерых детей, девочек и мальчиков, французскому и немецкому языку, истории, географии, арифметике, закону божьему и всем другим наукам, – девиц хорошим манерам и музыке, а мальчиков приличию, вежливости, а в случае надобности, и танцам. Мне же: тысячу двести в год ассигнациями, экипаж крытый рессорный – через воскресенье, – обращаться со мной как с благородной девицей, родственники молодые люди, если есть, должны вести себя со мной как можно вежливее, а лакеи вставать, когда я буду проходить мимо, и называть меня не как-нибудь по-своему, а барышней. Обед один и тот же и за одним столом с господами, место посреди стола, а не на конце. Чай и кофей четыре раза в день. Особую комнату с приличным освещением и меблировкой; в полное распоряжение девку, умеющую чесать, одевать, шить, и девчонку лет десяти, умеющую вязать чулки. Ниток на две дюжины чулок, холста домашнего на дюжину рубашек, дюжину полотенец, дюжину Двуспальных простынь…»
– Как, ma chere, двуспальных? А зачем они вам? – перебила Степанида Петровна. – Разве вы хотите там замуж выйти?
И она язвительно засмеялась.
Гувернантка покраснела и объявила, что ей двуспальные простыни выгоднее, потому она их и написала; но видя, что тетушка продолжает подтрунивать, она, наконец, воскликнула:
– А если б и так, что ж тут странного! Если ваша сестрица вышла замуж, отчего же я не могу выйти?
– За кого? – иронически спросила тетушка.
– Боже мой, ma chere! Почему же я знаю? Ну, может быть, за какого-нибудь помещика…
Тетушка побледнела. «Хороша помещица!» – прошептала она… А гувернантка так расцвела от мысли сделаться помещицей, что позабыла неконченное условие, задумалась, наклонила набок свою рыжую голову и, улыбаясь, что-то чертила на лоскутке. Мы потом его видели весь исписанный вдоль и поперек: «помещица такого-то села», следовало имя ее и отчество, а потом несколько точек, вероятно заменявших фамилию будущей супруги, и, наконец, великолепный росчерк, или просто: «помещица, помещица»…
Радость наша была так велика, что мы не верили нашему счастию до самого дня отъезда гувернантки. Я очень сожалела о девочке, которую она требовала себе в полное распоряжение, и бедных детях, которые в невинности своей не предчувствуют, что их ждут страдания жажды и голода… С тетушкой Степанидой Петровной гувернантка простилась очень трогательно (они даже дали слово писать друг к другу как можно чаще), но маменька, недовольная, что гувернантка отходит и тем на время нарушает порядок в доме, рассталась с ней холодно. Прощаясь с нами, гувернантка прослезилась; но, увидев наши сияющие радостью лица, она так огорчилась нашей бесчувственностью, что непременно бы наказала нас, если б ее не торопили ехать.
Вечером, когда отец воротился домой, мы услышали голос маменьки вместе с именем гувернантки. Тихонько подошли мы к двери. Маменька говорила с жаром:
– Пусть попробует, никто не станет держать такую дрянь!
Отец, предвидя неприятный разговор о детях, с недовольной гримасой сказал лениво:
– Ну, найми другую!
– Нет-с, извините! Я и с одной довольно пострадала! Меня просто в гроб загонят вечные хлопоты да заботы!
И маменька залилась слезами, которые в таких случаях всегда имели полный успех: отец, сразу запуганный, не решался противоречить ничему.
– Ну, полно, делай, как знаешь и как хочешь. – И, махнув рукой, он подпер голову руками. Маменька обратилась к Кирилу Кирилычу, долго рассказывала, как ее мучат дети, и заключила так:
– Всех их пора раздать по училищам… дома только балуются. Вот Мишка опять не ходил в гимназию… Ты, Андрей, его хоть бы высек…
– На него никакое сеченье не действует, – проговорил отец и положил голову в подушку, давая знать, это он теперь совсем не расположен рассуждать о воспитании детей.
– Я их всех раздам! – горячо воскликнула маменька. – Девчонки могут бросить свои книги и заняться шитьем; я вот, слава богу, и без книг живу, дай бог им так жить; да еще увидим, кто их возьмет, даром что ученые! – Маменька усмехнулась. – Михайлу отдам к учителю, авось он его вышколит… Что же мне больше делать?.. Слышишь, Андрей?
Отец отвечал выразительным «гм». Маменька продолжала:
– Федора к брату Семену, пусть учится рисовать.
Тут она остановилась, выжидая вдохновения, куда пристроить остальных детей.
– А который год вашей Наталье? – спросил Кирило Кирилыч.
Маменька смешалась. Убавляя себе лета, она решительно потеряла счет годам своих детей.
– Кажется, десять, – отвечала она – и ошиблась: мне был уже тринадцатый…
– А Ивану?
Маменька рассердилась.
– А кто их знает, кому какой год!
Отец, подумав по внезапному возвышению голоса, что жена о чем-нибудь его спрашивает, опять промычал: «гм…»
Кирило Кирилыч присоветовал отдать меня учиться музыке.
– Прекрасно! – воскликнула маменька. – Ну, а тех двух меньших в гимназию, да на полный пансион! Так, Андрей?
Вместо ответа раздалось храпенье.
– Вот изволите видеть! – воскликнула маменька с гневом. – Все на мне лежит!
Узнав нашу участь, мы побежали к тетеньке Александре Семеновне, окружили ее и заговорили всё вдруг, куда кого отдадут.
– Мишу отдадут к учителю.
– И хорошо!.. Только вы ей скажите, тетенька, – если меня будут бить, я учиться не буду… я сам уйду в солдаты!
Миша говорил так решительно, что тетенька испугалась и начала его уговаривать.
– А Федю к дяденьке учиться рисовать…
– Ну, брат, он тебя научит писать вывески.
– А мы с Наташей будем странствующие музыканты… Надо же пособлять маменьке.
– А вас, тетушка, с Степанидой Петровной, вот погодите, она отдаст учиться танцовать… вы будете играть сильфиду…
– Перестаньте говорить глупости.
Тетенька сердилась, мы смеялись, а Миша все больше свирепел и грозился уехать на Кавказ.
– Поезжай, брат! – кричал ему будущий музыкант. – Я тебе сочиню марш, когда ты будешь полковым командиром.
Весь остаток вечера прошел в рассуждениях о нашей будущей жизни. Меньшие братья, Петр и Борис, горько плакали. Тетенька Александра Семеновна на другой день попробовала заикнуться, что они еще очень малы, но маменька отвечала с гневом:
– Балуйте их! Они малы! Да в их лета другие дети кормят уж своих родителей!..
Точно: в то время два мальчика, немного постарше моих братьев, разъезжали по Европе, давали концерты и собирали большие деньги. Они посетили и Петербург. Маменька в первый раз в жизни решилась купить ложу и забрала нас послушать их… И ни на минуту во весь концерт не переставала она напевать нам, что вот какие бывают дети: отца кормят, а вот у нее не двое, а восемь человек, да никто ни к чему не способен, а только ее огорчают…
Рассортировка наша началась и кончилась очень скоро. Миша отправился к учителю, которого маменька приискала по своему вкусу. Меньшие братья, в своих новых мундирах, горько плакали, расставаясь с игрушками, которые отдали мне на сохранение, и наказывали пораньше прислать за ними в субботу. Александра Семеновна тоже прослезилась и дала им по гривеннику. На другой день маменька сделала ей строгий выговор за баловство; она воротилась к себе вся в слезах… Мы вслух бранили и проклинали шпионов, очень хорошо зная, что на нее насплетничала Степанида Петровна, которая после такого подвига обыкновенно убегала к своей матери и возвращалась только на другой день, когда буря стихала.
Дяденьку, к которому отдали учиться брата Федора, мы не любили, как человека необычайно грубого. Он находил, что братьев мало секут, и говорил так: «Уж если бы мне дали вас высечь, уж вы бы у меня!..» И голос его звучал таким чувством, как будто то были самые приятные мечты его и желания в жизни. Фигура его была очень оригинальна: лицо длинное и рябое с вечно глубокомысленным выражением, нос большой и топорный, руки, ноги – все неуклюже; серые небольшие глаза до того невыразительные, бессмысленные, что не делай он движенья ногами и руками, его можно было бы принять за дурно сделанную чучелу. Грубость натуры и необразованность выказывались в нем на каждом шагу. Походка его была тверда и медленна, одну руку он вечно держал за спиной, как будто она приросла там. Являясь в детскую, он целовал в лоб свою любимую племянницу Соню, а для приличия и Катю: «Ну, здравствуй, Соня; здравствуй, Катя…» Когда же очередь доходила до меня, он отворачивался и сухо говорил: «Ну, здравствуй, мамзель Наталия». Затем неизбежно следовало восклицание: «А как у меня болит поясница, Сашенька!» – так он называл тетеньку Александру Семеновну, или: «А какой у меня геморрой, Сашенька!» С родной сестрой своей он здоровался очень холодно: они не любили друг друга, и Степанида Петровна явно над ним смеялась. Он очень любил рассказывать, но говорил так, что никто не мог понять его; кончив рассказ, он громко смеялся. Я всегда присоединялась к нему: меня ужасно смешил глубокомысленный его вид и уверенность, что он очень умно говорит. Ему случилось долго быть в Курске, и все сведения, которые он вывез оттуда, состояли вот в чем:
– Представьте себе, Сашенька… ха, ха, ха!.. Там виноград гривна фунт… ха, ха, ха!.. Здесь просто дрянь, а уж в Курске я видывал, так с аршин…
– Хорош город Курск, дяденька? – спрашивала я с насмешкой.
– Хорош! Идешь, так тебе и суют виноград, право, кисть в аршин, мужики едят… ха, ха, ха!..
Он жил с своими родителями. Я часто гостила у бабушки и видела, как они жили. Квартира у них была маленькая, всего три комнаты и кухня, прислуги никакой: бабушка сама отправляла должность кухарки и горничной. У дедушки были свои любимые занятия, которых он не уступил бы никому в свете: топить печки, чистить самовар, подсвечники и ножи. Дяденька занимался живописью и служил в герольдии, но служба была легкая, частной работы мало, и потому он проводил время в раскладывании гранпасьянса, в медленном курении коротенькой трубки и в грызении своих ногтей, чем он так обезобразил свои руки, что мне делалось дурно, когда я на них смотрела. А иногда он, заложив руку за спину, прохаживался по комнате и напевал:
Молодой матрос корабли снастил,
так печально, что мне делалось страшно; я прижималась к бабушке и просила ее рассказать мне что-нибудь о своей жизни. Но главную роль в его жизни играл сон. Часто он ложился после обеда, а просыпался только на другой день к вечеру, и то благодаря бабушке, которая, испугавшись, что ее сын так долго остается без пищи, решалась, наконец, раскачать его. Он раскрывал распухшие глаза и грубо говорил:
– Что вы ко мне пристали с вашим чаем?.. Не дадут заснуть хорошенько, только ляжешь, и будят: «Вставай, Семен…»
Только приходя к нам, он уверялся, что уж давно другой день.
– Дай-ка мне, мамзель На-та-лия, сегодняшнюю афишу.
Я подавала афишу. Глубокомысленно посмотрев число, он разражался хохотом.
– Ха, ха, ха, Сашенька! Я лег седьмого, а теперь восьмое… ха, ха, ха!..
Ему-то маменька вверила воспитание брата Федора; дяденька встретил его такими словами:
– Ну, брат Федор, не ленись, а то засеку, – и сдержал слово. Забитый и засеченный, бедный мальчик сделался заикой и когда являлся домой, то походил между нами на юродивого…
– Что, Федя, тебя секли и нынешнюю неделю? – спрашивала я.
– Да… пяттть… рааааз, – отвечал он с страшным усилием.
Я плакала, когда он опять шел к дяденьке…
К счастью Федора, его баловала бабушка, которую мы все любили: она каждое воскресенье приносила нам гостинцу, обходилась с нами ласково и никогда не читала нам наставлений…
Заметив, что бабушка потихоньку кормит внучка, дядюшка бранился и грозил запирать его в особую комнату. Сначала он сек брата прутьями из веника; но бабушка сердилась и долго не давала веника, уверяя, что он ей нужен – кухню мести… Наскучив одолжаться и заметив, что хитрая старуха начала носить из бани веники тощие, дядюшка купил целый воз прутьев у чухонца, который кричал на дворе: «метла! метла!», – велел сложить их в чулан, где лежали дрова, а при свидании с маменькой потребовал истраченные деньги…
Рассердившись за какую-нибудь кривую линию, дяденька приказывал племяннику принесть розог из чулана: «Да смотри, хороших, а не то сам пойду, хуже будет!» Племянник, будто получив приказание принести стакан воды, уходил молча. Сначала он пробовал тронуть своего палача, плакал, кидался перед ним на колени, умолял; но палач медленно ходил по комнате, курил и молчал, не обращая внимания на бедного брата… Бледный и дрожащий мальчик с посинелыми губами продолжал стонать и рыдать, умоляя хоть отложить наказание, но дядюшка молчал. В отчаянии он полз на коленях за дядюшкой и целовал его ноги, – ничто не помогало!.. И брат, наконец, оставил бесполезные попытки. По первому приказанию он шел к бабушке за ключом от чулана.
– Что, Федя, разве опять? – спрашивала она с ужасом.
– Да, бабушка, онять.
И брат плакал, тронутый ее участием.
– Да не дам же я ключа… скажи своему злодею!
Но брат умолял ее дать ключ, говоря:
– Хуже будет, он меня до смерти засечет!
Бабушка сама бежала с ним в кладовую, повторив:
– Боже мой, боже мой! Вот жизнь-то моя! Ребенка мучат, а я гляди, да еще розги давай… Хуже всякой каторги! – Достав пучок прутьев, бабушка с внуком начинала выбирать розги.
– Вот тебе, Федя, хорошая розга, – говорила бабушка.
– Что вы, бабушка? – возражал внук и с испугом отбрасывал жиденький прут, чтоб избегнуть соблазна.
– Ну, так вот…
– Нет уж, бабушка, оставьте! Я сам выберу; вы мне даете все жиденькие да сухие…
И он усердно выбирал лучшие прутья.
Дяденька встречал его радостной улыбкой. Сжав чубук в зубах, он брал розги, с любовью осматривал каждую, размахивал ею по воздуху, и розга изгибалась и что-то нежно шипела ему на ухо. Он отвечал ей ласковой улыбкой, будто страстно любимой женщине. Племянник между тем устраивал себе эшафот: он брал доску, клал ее на два стула и укреплял их веревкой, чтоб они не разъехались; потом ложился на доску пробовать ее прочность. Наконец, приготовившись как должно, он ждал пытки, поминутно меняясь в лице… Дяденька медленно ходил и курил… Докурив трубку, он говорил: «Ложись». Вздрогнув и взглянув на суровое лицо палача, племянник молча исполнял его волю, обхватывал доску руками и крепко прижимал ее к сердцу, которое хотело выскочить из его груди и громко стучало в доску, как маятник… Засучив по локоть рукава, разогнув свои члены, палач заносил вооруженную руку…..
Наконец он кричал: «Вставай», а сам шел набивать себе трубку, напевая: «Молодой матрос корабли снастил».
Рыдания племянника сливались с его заунывным пением; он на минуту останавливался, спрашивал: «Ага! Хорошо?» и снова затягивал: «Молодой матрос корабли снастил…»
При виде истерзанного внука бабушка заливалась горькими слезами, жаловалась на свою лютую участь, кормила его пирогом, сейчас вынутым из печи, и обещала сварить ему после обеда кофею. Потом она шла к сыну, пробовала уговаривать его, называла душегубцем и живодером и в отчаянье уходила, восклицая:
– В кого ты злодей такой уродился?
– Разумеется, не в вас, – кричал он вслед ей с гордостью.
Дедушка также раз попробовал защитить своего внука, но сын мрачным голосом попросил его не мешаться не в свое дело… После того дедушка, великий трус, в таких случаях убегал в сени и, зажимая уши, кричал: «Господи! Убьет! Убьет! И у кого он, злодей, выучился так драться? Я его никогда пальцем не тронул…» Первая такая сцена произвела волнение во всем доме; заслышав неистовые крики, жильцы высунули из окон встревоженные лица. Но скоро все привыкли, а наконец и брат, видя, что его вопли сильней ожесточают дяденьку, перестал кричать. С тех пор наказания происходили молча, и только мальчики жившего в том же доме портного не переставали следить с жадным любопытством за подвигами дядюшки, которые имели на них благодетельное влияние. Бледные лица их заметно повеселели; они не только примирились с своей судьбой, но даже благословили ее, убедившись собственными глазами, что сечь можно и еще больней, чем сечет их хозяин… Зато хозяин-немец потерял к себе всякое уважение, которое все перешло к строгому дядюшке. Встречаясь с ним в сенях, он низко ему кланялся, а увидав бабушку, говорил: «Какой ваш сын молодец!..»
Глава VI
Я очень любила гостить у бабушки, и дни, которые я у ней проводила, были самые счастливые в моем детстве. Я стряпала вместе с ней, раскладывала огонь к ужину, осыпала ее расспросами, и добрая бабушка охотно и ласково отвечала мне… В такие минуты я была совершенно счастлива… Дедушка, беспрестанно ворчавший на бабушку, придирался иногда и ко мне, когда я что-нибудь уроню или переставлю, но его гнев ограничивался одним ворчаньем…
Ему было лет 60; он был высок и страшно худ. Щеки впалые, ноги похожие на сухие прутья; нос длинный-предлинный, как будто тоже от худобы погнувшийся немного накриво, маленькие глаза, огромный рот, голова небольшая, покрытая жидкими русыми волосами почти без седин, – вот его фигура. Бороду брил он только раз в неделю – из экономии, и оттого еще страшнее казался с первого взгляду. Походку имел скорую и шагал очень широко; словом, он очень походил на Дон-Кихота, за исключением спокойного и величественного выражения в лице; дедушка был труслив, как ребенок… Лет десять ходил он в одном и том же бараньем тулупе, покрытом зеленой нанкой, которая превратилась в черную с блестящим отливом; а от меху остались только клочки; телесного цвета нанковые панталоны, завязанные внизу тесемками, толстые чулки и неуклюжие туфли вроде калош – вот его костюм. Но особенно кидался в глаза его исполинский галстук, делавший шею дедушки обширнее его талии. Сделал его сам дедушка в припадке белой горячки, когда ему чудилось, что какие-то бесы хотели его задавить. Галстук отличался необыкновенной толщиной и упругостию, которая назначалась задерживать действие враждебной веревки, если б ее накинули дедушке на шею. С тех пор он уж никогда не снимал спасительного галстука, а если шел куда-нибудь, то повязывал на него косынку. Впрочем, такие случаи бывали очень редки. Он не выходил из дому больше двух раз в год, боясь оставить свою кровать, в которой заключалось все его сокровище. Вышедши по болезни в отставку с пенсионом, он стал копить деньги и прятал их под тюфяк в старые ноты. Опасаясь, что украдут его деньги и выпьют ром, он никому не позволял прикасаться к своей кровати, которая стояла у самой печки. Натопив печку до последней крайности, он закрывал ее с огнем и растягивался во весь рост головой к печке, кряхтел от удовольствия и скрипел зубами… Он не знал угара и не верил в его существование, и когда бабушка лежала без памяти, он приписывал ее головную боль вину, ворчал, бранился, а сам тихонько тянул ром из бутылки, спрятанной в кровати. Начав копить деньги, он стал прижимать бабушку; вынув синюю ассигнацию на расход, он клал ее на стол возле себя и дразнил ею бабушку, говоря, что у нее глаза запрыгали при виде денег. Проворчав часа четыре, он наконец отдавал деньги, но весь тот день попрекал ее, что она его разоряет.
Дедушка занимался и чтением, но читал постоянно одну книгу: Брюсов календарь. Приставив к одному глазу зажигательное стекло, а другой прищурив, он держал книгу четверти на две от себя и читал мне вслух, что «такая-то отроковица, родившаяся между пятнадцатым такого-то месяца и пятнадцатым такого-то, упряма, мотовка, любит рыбу, склонна к неге; снаружи духовного поведения, но внутренно жестокою заражена любовью. Вышед замуж, не будет мужа любить, но последует прежней склонности», – и восклицал: «Вот портрет твоей бабушки!..» Я просила прочесть толкование на день его рождения; в пылу своей горячности он начинал: «Отроче, родившийся от пятнадцатого октября до тринадцатого ноября: тот бывает холоден и влажен, натуру имеет женскую, притом скуп и жесток во гневе…» – Ну, это хочешь верь, хочешь не верь, Наташа. – И дедушка закрывал календарь или возвращался к бабушке, доказывая мне, что слова: «жестокою заражена любовью» намекают на ее страсть к вину.
Дедушка всеми силами старался помешать бабушке лечь спать после обеда. Видя, что она скоро уберется в кухне, он кидался на большую кровать с ситцевыми занавесками, которая в старину была их брачным ложем, и с наслаждением ждал появления бабушки… Увидав растянувшегося дедушку, я бежала сообщить мое горе бабушке, с которой хотела лечь, чтоб слушать ее сказки и рассказы о прошлом житье-бытье… Что было делать? Как выжить дедушку? Я уходила в его комнату, нарочно с шумом что-нибудь роняла и пряталась за дверь. Услышав стук, он вскакивал и бежал к себе, а я бежала к бабушке с известием, что кровать свободна. Мы ложились и в свою очередь с торжеством ожидали дедушку. Он приходил, садился к столу, барабанил пальцем и наизусть читал из Брюсова календаря, что бабушка мотовка и сварливая, любит негу и роскошь. Мы притворялись спящими, я нарочно храпела, и дедушка, поскрипев зубами, с ворчаньем уходил к себе. Мы тихонько смеялись нашей хитрости, и я упрашивала бабушку что-нибудь рассказать мне.
Бабушке было с лишком пятьдесят лет. Ее лицо сохранило еще признаки прежней красоты, несмотря на долгие труды, нужду и вино, к которому приучило ее горе. Родные дети обращались с ней и с дедушкой с презрением. Иногда, выведенная из терпения их грубостью и ворчаньем мужа, она выпивала лишнюю рюмку и грозилась всех прибить, но даже и в такие минуты она ласкала своих внучат, приговаривая:
– Знаю, все знаю, Наташа, мать и отец вас не любят, все мои дети злые, а я бедная… – И тут она плакала, а от слез переходила к угрозам:
– Я их всех прибью! Вишь, ругаться пьяницей, да я хоть и пьяница, а не стану мучить родных детей. Небось, выкормила на свою же шею злодеев!
Она изменила голос и продолжала:
– «Вы нас срамите – мы вас знать не хотим!..» Да я вас сама знать не хочу! Ах вы, бессовестные! Я, бывало, за столом по неделе кроме черного хлеба ничего не видала да дрогла в холодной комнате с шестерыми детьми мал мала меньше, тут рад бог знает чего выпить, лишь бы согреться. Бывало, Наташа, соседка услышит за стеной, что я плачу вместе с грудным ребенком, придет с рюмкой, да и упросит выпить: говорит, молока больше будет и ребенок перестанет плакать. Ну, и выпьешь: в самом деле станет теплее, и заснешь крепче. А как ваш дед-то придет тоже весь закоченелый, у него не то, что у вашего отца с матерью, шуба не шуба, а просто фризовая шинель была, да ты знаешь ее, Наташа.
– Знаю, бабушка; с воротничками?
– Ну да! Так вот он в мороз-то в ней ходил; день-то и вечер проиграет в оркестре, а ночью побежит куда-нибудь на бал играть, и веришь ли, часов в пять ночи бог знает откуда придет пешком, извозчика не на что нанять. Вот бы согреться, отдохнуть, а комната холодная, высечешь ему огня да зажжешь огарок, нарочно для него берегла, а вечер без огня просидишь. Сам-то от холоду ничего не может взять, хлопает, хлопает руками – насилу отогреет. Вынешь ему из печки чуть теплые щи, либо каши, что от детей останется. Разденется и станет есть, а мне-то глядеть на него жаль, такой худой-расхудой… Бывало, спросит: «Настя, ты ужинала?» – «Да, ужинала», – а сама думаешь: как же! если б поела, так тебе-то нечего было бы перекусить… Дед-то ваш, Наташа, не был прежде такой злой, ей-богу, правда! «То-то, скажет, Настя, я мог бы и так лечь, у меня есть чем погреться». Вынет из кармана шинели бутылочку, выпьет и мне поднесет, говорит: «Хлебни, Настя, согреешься». Сперва, бывало, рот так и зажжет от одного глотка, а потом и рюмочки по две пивала. Слава богу, выкормила всех на свое горе. А как замуж выдавала вашу-то маменьку, вот-то мы работали – день и ночь: все мне хотелось сделать получше, а теперь она тоже меня гонит, как придешь в залу: «Подите, маменька, в детскую, вам там пуншу сделают». Лучше не срамила бы меня при всех… А вот еще злодей-то, дядя твой, как захворал оспой, – он не был такой рябой, мальчик был славный, оспа, кажись, и душу-то ему испортила, – вот натерпелась-то горя твоя бабушка! Дед-то сколько денег потратил, все дарил фельдшера. А вишь, выкормили какого живодера; да если б я знала, что он будет такой, так я б его сама своими руками задушила, прости господи!
Бабушка подходила к шкафу, наливала себе рюмочку, выпивала залпом, морщилась и продолжала:
– Ох, Наташа, было плохо твоей бабушке: бывало, уложишь детей спать, а сама сидишь, спать не можешь, так сердце и ноет: что-то больной сын? Ведь один только и был мальчьк, а то все девочки. Заложишь гвоздем дверь; замка-то совсем не было; до нас тут жил какой-то сапожник – замок-то, верно, его мальчишки сорвали да продали. Стала я просить новый У домового хозяина, а он говорит: «Да что у вас красть-то?» Правду сказать: бедно жили! Жалованье маленькое; нужно чисто одеваться, просто хоть с голоду умирай, не то что ваша мать с отцом!.. Детское белье, кой-какие платьишки старые, теплый капотишко, да и тот на плечах, – смерть, бывало, холодно зимой-то, – вот и все богатство… А все-таки чуть грех не вышел… Раз вечером сижу одна и слышу какой-то шорох. Дом-то был гадкий; кто тут не жил? И татары, и жиды, даже беглые дня по два приставали. Вишь, дом-то застроили большой, да до половины дошли и остановились – господь их знает, капиталу ли нехватило, тяжба ли завязалась; так половина и стояла без окон, там и целая шайка разбойников могла спрятаться. Мастеровые жили разные и словно разбойники ходили по двору, а двор-то был проходной, поди сыщи вора! Лестница деревянная, – вишь, каменной-то не собрались сделать, – подгнила, развалилась, и мы с другими жильцами ходили по стремянке месяцев шесть, уж насилу сделали потом из старых досок лестницу, почитай, не лучше стремянки. Бывало, станем жаловаться хозяину: ходить, мол, нельзя, а он свое: «Важные господа! И так влезут, как поесть самим да детям захочется!..» Просто разбойник!.. Раз было вздумал меня обнять, да я его порядком проучила. Иду вечером из лавки, в одной руке кувшин с квасом, в другой детям патоки несу, только что хотела ногу занести на стремянку – глядь, красная рожа стоит тут. «Куда изволили ходить?» – «В лавочку». – «Вы, говорит, напрасно себя мучаете; вы такая красивая; да и муж-то ничего не узнает, а я вам дам квартиру сапожника за ту же цену и лестницу сделаю…» А сам так вот и лезет ко мне. Я ему говорю: «Оставьте меня, ничего не хочу от вас», а он как схватит меня да как чмокнет в щеку. Мне так стало гадко, что я б его на месте убила; говорю: «Ах ты, старый грешник, я вот и бедная, а с такой рожей знаться не хочу!» да как плесну ему в лицо квасом, а сама ну карабкаться на стремянку. Он ну чихать, кашлять и тоже за мной, да я молодая-то проворней была, успела до дверей добраться, а он до половины долез и испугался, да ну меня ругать на чем свет стоит. Ты, говорит, такая и такая; погоди, говорит, проучу тебя, моя голубушка, будешь меня квасом обливать; я, говорит, и стремянку-то отниму, да и посмотрю, как ты запоешь, как твои волченята захотят есть. Ни жива ни мертва пришла я домой: дети просят пить, а у меня в кувшине только на донышке, итти в лавку опять боюсь, думаю: как он и в самом деле стремянку отымет, я и останусь внизу. Насилу уняла детей, уж поскорее им чаю с патокой сделала, так замолчали.
– Зачем вы не пожаловались на него дедушке? – спросила я в негодовании на хозяина.
Бабушка усмехнулась и отвечала:
– Хорош ваш дед-то, всегда был трус. Раз увидел вора, так словно малый ребенок испугался. Зато ваша бабушка всегда была казак-казаком, уж сам вор назвал меня лихой бабой!
– Как, бабушка, вы говорили с вором, и он не убил вас?
– Нет, ничего не сделал, только испугал. Вот, можно сказать, натерпелась-то я на своем веку!
И бабушка подперла рукой голову и задумалась. Просидев так минуты три, она махнула рукой, снова подошла к шкафу и начала тянуть уж прямо из графина… Я удивилась, что за охота ей пить такую горечь. Раз из любопытства я попробовала из выпитой рюмки одну каплю, так и тут целый час горело во рту…
– Бабушка, а бабушка! – закричала я, соскучась смотреть на нее.
Бабушка вздрогнула, поспешно поставила графин на место и застучала вилками и ножами, будто убирала в шкафу.
– Бабушка, расскажите мне про вора.
– Постой, Наташа, дай я уберусь, – отвечала бабушка недовольным голосом, захлопнула шкаф и легла на постель, на которой я уж давно ее ожидала. – Ох, о-ох ты, Наташа, устала твоя бабушка-то! Сегодня я бегала, бегала по Сенной; ноги и руки так и закоченели, насилу кулек донесла домой.
– Бабушка, голубушка, расскажите про вора!
И я крепко целовала бабушку.
– Ну, полно, Наташа, мне больно, ты так крепко целуешь. Слушай, расскажу: ну, на чем бишь я остановилась?
– Бабушка, вы сидели одне вечером и услышали, как вор за дверью шуршит, – подсказала я бабушке скороговоркой.
– Ну, вот я сижу одна и слышу, что кто-то дверь качает. Я спрашиваю: «Кто там?», думаю, жилец за огнем; молчат!.. Вижу, дело неладно; дверь еще сильней закачалась. Думаю себе: ну что, если вор какой-нибудь! Оберет последнее детское белье да, чего доброго, разбудит детей, те закричат, а он, разбойник, пожалуй задушит их! Так стало страшно, что мороз пробежал по коже; что делать? Думаю, дай закричу, будто не одна сижу, и ну звать: «Иван! Иван, вставай! Кто-то там ходит. Ну, хоть ты, Федор, встань да отвори!» Кто-то стал красться от двери, но через минуту снова зашатал дверь. Я опять кричать: «Да встаньте, ребята, посмотрите, кто-то шалит дверью!..» Схватила старые сапоги вашего деда, натянула себе на ноги, зевая и потягиваясь подошла к двери, а у самой слезы так и просятся на глаза, сердце так и стучит со страху. Слышу, кто-то сходит по лестнице; я как размахну дверь да как закричу басом: «Кто там шалит? Убью!..» А сама поскорей захлопнула дверь и едва стою на ногах. Заложила опять гвоздем дверь внизу, да и вверх еще другой гвоздь положила и начала ходить по комнате, пристукивая сапогами, и на разные голоса говорить да чихать и кашлять.





