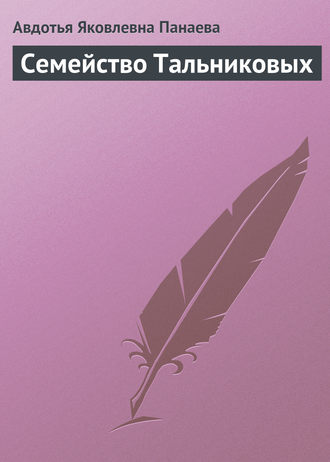
Авдотья Яковлевна Панаева
Семейство Тальниковых
– Что же, они ушли, бабушка?
И я вся дрожала от страху.
– Какое ушли! Послушай. Вечером уж поздно, слышу, стучат в дверь, словно дом горит. «Кто там?» – «Отвори скорее!» Я обрадовалась – голос деда, вынула гвозди и отскочила от двери – такой он был бледный, весь дрожал. «Что ты, Петр Акимыч? Что с тобой?» – спросила я. Насилу мог сказать он, что кто-то в сенях спит, – он споткнулся и чуть не упал. Я стала смела вдвоем-то, говорю: «Посвети, Петр Акимыч, я пойду посмотрю», – а сама себе думаю: знать, мой молодчик улегся! Выхожу в сени и вижу, лежит огромный мужчина в красной рубахе, рыжий такой, и храпит себе на полу, словно дома. Я его ногой в бок. Он вскочил как шальной, осмотрелся, нас оглядел да как шмыгнет вниз… Мне даже смешно стало, я и говорю деду, который свечу поставил на пол, а сам в комнату спрятался: «Чего же ты ему не посветил? Чего доброго, упадет на нашей лестнице с непривычки!» Мы посмеялись; я стала ужин сбирать и говорю: «Теперь боюсь одна итти в сени за кушаньем, возьми свечу и пойдем вместе». Отворила дверь у шкафа, – чорт ее знает, не совсем раскрывается! Нагнулась я, глядь – между шкафом и дровами торчит сапог, слышу, храпит кто-то, я ну тянуть за сапог. Из-за дров сперва показалось что-то косматое… У! Не домовой ли? Я ну молитву творить, да вижу, вылез мужик, черный, рябой, такой дюжий. Волосы словно шапка, борода склокоченная. «Ну, что кричишь, баба?..» Но тут он увидел деда, который успел уж навострить лыжи к дверям. Я ему говорю, разбойнику: «Что ты тут делал?» – «Разве не видишь, что спал!» – «Я вижу, что спал, да разве тут твое место?.. А?.. Отправляйся-ка домой, коли дом у тебя есть, а не то достанется!» А он, разбойник, как поглядит на нас пристально да как закричит: «А что мне достанется? Что я сделал? Украл, что ли, у вас что?.. А?..» Я испугалась, попятилась назад, да потом и сама на него закричала: «Потише, брат, потише! У нас и красть-то нечего!» Он, душегубец: «Да и впрямь, говорит, нечего!», почесал затылок, заглянул в шкаф… «Дай, говорит, тетка, испить квасу, ей-богу, уйду. Мочи нет, в горле пересохло». Я ему и говорю: «Немудрено, вишь ты во всю ивановскую храпел!» «Знаю, говорит, уж с таким пороком родился. Раз чуть себя не сгубил, а что делать? Пословица недаром сказана: горбатого могила исправит…» Нечего делать, подала ему кувшин, он его весь выдул, обтер бороду рукавом, усмехнулся, да и говорит: «Тетка, а тетка! Дай уж и закусить, вот хоть говядины…» А сам к шкафу так и норовит. «Ах ты, говорю, греховодник! Ведь сегодня середа?..» А он мне в ответ: «Да что, тетка, ты уж дай только, а грех-то на мою душу пойдет, – не первый!» – «Ну, возьми». Он положил себе в пазуху кусок говядины и хлеба и сказал: «Спасибо тебе, тетка, давно бы так, чем кричать-то! Хоть ты баба и лихая, а я бы все-таки с тобой сладил. А вон ту сосульку я пальцем бы уложил», – он указал на вашего дедушку, который дрожал, как лист, на пороге… Мне, признаться, стало смешно… «Ну, дядя, с богом! – говорю мужику. – Полно балагурить-то!..» Мужик надел шапку набекрень, свистнул и сказал: «Прощайте, спасибо за угощение». Я про себя подумала: а вас за посещение… Я после долго боялась одна по вечерам, не пришел бы опять за чем мой черный вор. На другой день рано утром выхожу в сени, глядь, лежит на полу нож, такой славный… Я, признаться, обрадовалась, у нас такого большого ножа не было – пригодится в хозяйстве. Кажись, уж теперь годов двадцать, как я им стряпаю, весь сточился…
– Бабушка, так это нож вора, что вы зелень-то чистите?
Но бабушка ничего не отвечала… Она то закрывала глаза, то вдруг их открывала, бормоча: «Вот я тебя… пьяницей!..», а остальное договаривала губами, без слов, вздыхала тяжело и слегка храпела… То вдруг звала меня громко:
– Наташа! Наташа!
– Что вы, бабушка?
– А, ты здесь? – тихо спрашивала бабушка.
– Здесь.
– Ну, спи же, и бабушка твоя тоже заснет: ведь я день-то умаялась!.. Чем моя жизнь теперь лучше? А, Наташа, чем лучше?.. Комната теплее да светло, зато… ей-бо…гу…
Бабушка чуть внятно договорила последние слова и замолкла… Ночник едва горел и страшно моргал; взволнованная, я с испугом смотрела на стенные часы, которые казались мне живыми: в однообразном стуке маятника я находила сходство с биением моего сердца… Ну, если это не часы, а живой человек, которого какая-нибудь колдунья превратила в часы? И что, если я тоже превращусь в часы, буду вечно висеть на стене – дни и ночи, без отдыху уныло качаясь?.. Мне стало страшно, я пробовала заснуть, не могла; когда я опять открыла глаза, мне показалось, что циферблат улыбается, а маятник еще скорее закачался. Я отвернулась, но мне казалось, что часы начали двигаться и опять очутились против меня, только уже теперь они не улыбались, а жалобно мигали мне… Я соскочила с постели, и гири вдруг передернулись, стукнули, я побежала – и часы бежали за мной, постукивая… с шумом отворила я дверь к дедушке и громко закричала:
– Дедушка, вы спите?
Дедушка соскочил с кровати и долго озирался кругом.
– А! Кто меня зовет?
– Я, дедушка.
– А… ты, Наташа? Зачем ты бегаешь? Что, бабка, верно, спит?
– Спит, дедушка.
– Вишь, дворянка какая! Туда же, после обеда отдыхать легла!
И он шел к бабушке в комнату, я за ним. Страх мой исчез… Дедушка поднес свечу к циферблату, с которым его голова приходилась почти наравне, хоть часы висели очень высоко.
– Наташа! Уж седьмой час, пора бабку будить – самовар ставить!
Я ничего не отвечала, а все рассматривала часы и прислушивалась к их стуку: все было, как обыкновенно. Совершенно успокоившись, я брала Брюсов календарь, а дедушка садился у кровати, барабанил по столу и своим ворчаньем будил бабушку…
Глава VII
Скоро я перестала гостить у бабушки: мне с братом Иваном приказали каждый день ходить к учителю музыки. Учитель наш, человек средних лет, не отличался ни умом, ни образованием, но был довольно добр к нам… Родители наши когда-то оказали ему услугу, не знаю какую, и маменька очень ловко намекнула ему, что теперь прекрасный случай отплатить за нее. Он им воспользовался, то есть согласился учить нас даром, – и с тех пор ни проливной дождь, ни вьюга, ничто не могло остановить нас; что бы ни делалось на земле и на небе, мы шли себе к учителю, удивляя прохожих своим костюмом… Брат ходил в шинели, из которой давно вырос; меня насильно облекли в старый маменькин теплый капот, которого юбку подшили, отчего она сделалась вполовину короче талии, приходившейся почти наравне с моими коленями. Калоши, тоже маменькины, беспрестанно спадали у меня с ног, несмотря на огромное количество набитой в них ваты; наконец я ухитрилась сделать из них сандалии, и только тогда они оказались полезными… В глубокую зиму на нас надевали длинные белые мохнатые сапоги, называемые «васьками», которые замедляли нашу походку и делали нас издали похожими на медвежат, сорвавшихся с цепи…
Учитель наш был женат, и часто семейные дела отвлекали его от уроков, к неописанному восторгу брата Ивана. Жена вышла за него по любви: учитель покорил ее сердце примерным безрассудством: в тридцать градусов морозу по целому дню бродил он мимо ее окон… Такое самоотвержение до того пленило молодую девицу, что она, несмотря на сопротивление родственников, сделалась его женой… С тех пор в доказательство любви своей каждый день припоминала она ему, что отказалась от многих выгодных партий для бедного музыканта, – и учитель был счастлив. Он вполне верил ей, да и нельзя было не верить после беспрестанных нежностей, которыми она осыпала его при всех… А о нежностях, которыми она осыпала одного молодого человека наедине, он не знал. Вся квартира учителя состояла из двух комнат. Из спальни в залу, где мы учились, дверь притворялась неплотно, и я часто видела в зеркало, как жена учителя любезничала с своим мужем при молодом человеке, и с молодым человеком, когда учитель, вырвавшись из ее объятий, уходил к нам. Молодой человек почти жил у них. Он был очень беден, а жена учителя очень благотворительна: она упросила мужа приглашать его каждый день к обеду… Так текла их жизнь, пока жена учителя не начала уходить по утрам, говоря, что у ней болит голова и что ей нужен воздух. Раз ее не было дома, а учитель занимался с нами; вдруг прибегает, запыхавшись, молодой человек и что-то шепчет на ухо учителю. Учитель побледнел, схватил шляпу, накинул шубу и в одну минуту, в халате и туфлях, исчез с молодым человеком. Мы очень обрадовались, что урок наш остановился так неожиданно… Через несколько минут в спальню вбежала жена учителя; она переменила шляпку и салоп и опять ушла, сказав нам, чтоб мы не смели говорить, что она приходила домой… Явился учитель в таком бешенстве, что мы перепугались: он все ходил по комнате, хватал себя за голову и все повторял: «Убью, убью его – и тебя тоже!» Молодой человек ходил за ним и старался его успокоить, но когда услышал, что раздраженный учитель хочет и его убить, он спросил обиженным тоном:
– За что же меня-то? Я чем виноват?
– Зачем раньше мне не сказал! – Ты сам говоришь, что сегодня не в первый раз…
Разговор их был прерван приходом жены учителя, которая с улыбающимся лицом пришла в комнату и протянула губы к мужу, сказав:
– Здравствуй, Кокоша…
Учитель с гневом отшатнулся от своей жены и громовым голосом спросил:
– Где ты была?
– Я гуляла, Кокошенька.
– Очень хорошо знаю, что ты гуляла… даже и не одна…
Жена учителя посмотрела с удивлением на своего мужа, потом на молодого человека и сказала:
– Ты с ума сошел, Кокошка!
– Нет! – воскликнул учитель. – Я не сошел с ума! Мы видели, как вы кинулись в сани, завидев нас. Я узнал вашу черную шляпку… Если б тут случился извозчик, я бы вас догнал, сударыня!
И он грозно прошелся по комнате.
– Когда? Как! С кем? В чем!
И вопросы оскорбленной супруги посыпались градом…
– Да вы посмотрите, что на мне надето, какая у меня черная шляпка? Взгляните!..
И жена учителя бросила в лицо мужу свою желтую шляпку. Учитель и молодой человек смутились. Муж побежал смотреть салоп, а жена успела между тем с гневом погрозить молодому человеку рукой и назвать его подлецом. Учитель принес салоп жены и поднес его к самому носу изумленного молодого человека с вопросом:
– Разве такие бывают меховые салопы?
Жена учителя горько заплакала и сказала:
– Вот что значит жалеть людей и делать им добро! Выслушай меня, Кокоша! Он за мной давно ухаживает и хотел оклеветать меня за то, что я не хотела тебя обманывать и грозилась все сказать тебе.
Вопль оскорбленной добродетели наполнил комнату. Молодой человек видимо остолбенел от такого оборота дела; он раскрыл рот, но его оправдания были заглушены криками, угрозами и проклятиями мужа: «Вон, мерзавец! Так вот как ты платишь за нашу хлеб-соль? Долой с глаз моих, или я убью тебя!» И мне казалось, что учитель в самом деле готов убить молодого человека, который все кричал:
– Да позвольте…
– Вон! Вон!
– Она вас…
– Замолчи, мерзавец!
А жена учителя между тем из-за плеч мужа делала носы молодому человеку и всячески дразнила его… Наконец его вытолкнули в дверь, которая чуть не расшиблась, так сильно ее за ним захлопнули… Жене учителя не много требовалось времени, чтоб из торжествующей физиономии сделать угнетенную и вздыхающую… Учитель после напряженно-бурного состояния духа вдруг совершенно оторопел и не знал, как подойти к жене. Наконец после долгого молчания он решился сказать:
– Пипиша, не сердись, я его выгнал.
– Еще бы вы его расцеловали!
И она сердито отвернулась от мужа.
– Ну, прости меня, я дурак, теперь никогда ничему не буду верить!
– Скажите, пожалуйста, как вы могли принять за меня другую?..
И жена учителя улыбнулась.
– Видишь, пипиша; я так был взбешен, так убит, что сам себя не помнил: вижу, идет дама в меховом салопе с каким-то мужчиной… Я к ним, а они в ту самую минуту сели на извозчика и, как нарочно, поехали так скоро, ну, я и подумал, что ты…
Жена учителя залилась звучным хохотом. Учитель, видя, что жена его хохочет, тоже начал хохотать. И они хохотали минут пять сряду…
– Ах, пипиша! Посмотри: я в туфлях… так и ходил… ха, ха, ха!
И опять хохот, а потом послышались нежные поцелуи. Учитель, вспомнив нас, велел нам отправляться домой.
С того дня учитель предоставил жене полную свободу. Очень часто, перемигнувшись с каким-то мужчиной в окно, она нежно прощалась с мужем и уходила, а чрез минуту я видела, как, недалеко от дому, она садилась в сани с тем же мужчиной и уезжала…
Когда учитель уходил на урок, оставляя нас одних протверживать старое, дверь в нашу комнату затворялась, и я слышала за стеной мужской голос, смех жены учителя и поцелуи…
……………………………….
Мы переехали на новую квартиру; антресолей уже не существовало… В будни я страшно скучала, дожидаясь с нетерпением субботы, когда соберутся братья… Сестры Соня и Катя превратились в больших девиц, а тетенька Степанида Петровна, напротив, помолодела, убавив себе несколько лет и начав зачесывать волосы, как сестры… Ей не хотелось казаться старше их…
Однообразие детской нарушалось только посещениями одного бедного чиновника, Якова Михайловича, который обыкновенно уходил на нашу половину, когда другие гости садились за карты… Ему, кажется, очень нравилась сестра Софья, которая кокетничала с ним от скуки… Но Степанида Петровна частые посещения его приняла на свой счет, и надежда на замужство снова запылала в ее сердце.
Дяденька между тем ездил к нам чаще и чаще. Страсть к картам произвела в нем переворот: он сделался рассеян, реже наказывал своего племянника, он даже начал видеть сны, в которых главную роль играли карты, – чего с ним прежде решительно не случалось… Церемониться с племянницами он не любил; поздоровавшись обыкновенным своим способом, посидев и поговорив единственно для собственного удовольствия, потому что никто другой не обладал тайною находить его слова остроумными и даже понятными, дядюшка вставал, брал со стола свечу и мерными шагами удалялся. Возвратившись минут через пять, он с тою же спокойной важностью ставил свечу на стол, потирал руками и, обращаясь к которой-нибудь из нас, говорил: «дас ис кальт»,[6] – выражение, которым ограничивались познания его в иностранных языках… В залу он входил глубокомысленно.
– Здравствуйте, Кирила Кирилыч! Здравствуй, сестра!
– Здравствуй, Семен! – холодно отвечала маменька.
– Ну, сестра! как я сегодня высек Федора!
И дяденька чмокал, приложив к губам пальцы свои без ногтей…
– Чудо! Если не подействует, так уж я, право, не знаю!
Он просиживал за картами часов до трех ночи, а по утрам мрачно ходил по комнате, бормоча себе под нос: «Ах я, дурак, дурак! Мне бы пойти с десятки», или бранил домашних…
Раз, подходя к дому, мы увидели дедушку, как всегда, в фризовой шинели с бесчисленным множеством воротников и в высокой четвероугольной шапке с таким козырьком, который в длине не уступал его носу. Дедушка на улице и не в праздник – такое явление нас удивило. Мы подбежали к нему.
– Здравствуйте, дедушка!
Дедушка шел скоро и что-то говорил сам с собою; наше неожиданное приветствие испугало его.
– А! Кто меня зовет? – закричал он, вздрогнув, но, увидав нас, прибавил: – А, вы! Ну, здравствуйте!
– Вы к нам, дедушка? – спросила я.
– Куда ж больше? Сын родной выгнал… чуть не ударил… а бабка ваша чуть тоже не прибила… Ах, господи ты мой! Недаром сказано: родившемуся под планетою Сатурна в рассуждении душевных качеств – злость и негодная жизнь, любят нечистоту; словом, имеют все негодные качества душевные и телесные.
И дедушка кашлял.
– Пойдемте, дедушка! На нас смотрят.
– Пусть смотрят! Я всем скажу, что меня родной сын выгнал… Фу! Как устал! Бежал как угорелый. Такой разбойник! А та и рада, что ее родной сын буянит. Да какой сын – он антихрист какой-то!
И дедушка качал головой и махал руками, как сумасшедший…
Мы пришли домой. Дедушка настоятельно пожелал тотчас же видеть маменьку. Ее уже предупредили о ссоре отца с сыном; она поздоровалась с дедушкой очень холодно и прямо спросила:
– Что у вас опять там?
– Ах! – И слезы мешали дедушке продолжать.
– Да говорите же, батюшка, что у вас с Семеном?
– Да что! Сын родной чуть не ударил отца – вот какие времена пришли! Такой разбойник… а вашего сына до смерти засечет!
– Ну и хорошо сделает!
Маменька посмотрела на нас.
– Уж, ей-богу, не знаешь, что делать, что говорить: сын выгоняет отца, жена ругает мужа, мать радуется, как сына мучат!
Дедушка зажал себе уши и в каком-то исступлении начал ходить по комнате…
– Да скажите, что же я буду делать? Ну, вы поссорились с своим сыном?..
– Поссорился?..
И дедушка весь задрожал.
– Нет! Он меня чуть не ударил! Я жаловаться пойду!
И он заплакал.
– Полноте вздор-то городить!
Маменька хотела уйти, но дедушка удержал ее, закричав:
– Да погодите! Выслушайте отца, которого сын родной…
Маменька перебила его:
– Чего же вы хотите?
– Я не могу жить с женой; она мотовка! Как в кураже, с ней не сладишь, так и лезет драться…
– Где же вы хотите жить?
– Где-нибудь, только не с женой! Тридцать лет жили вместе: все шло хорошо! Вдруг как белены объелась: каждый день давай денег, ругается, зачем мало даешь, грозится все деньги отнять… А какие у меня деньги? Откуда? А все, я вам скажу, проклятое вино: баба дура, выпила и пошла беситься!
– Ну, знаю, знаю!.. – перебила маменька. – Хорошо, я вам дам комнату, платите мне тридцать пять рублей в месяц; обедать будете в детской… Хотите, так оставайтесь…
И она ушла, не дождавшись ответа.
Дедушка задумался: тридцать пять рублей его поразили, но страх победил скупость.
– Лучше буду последнее отдавать, да не жить с ними! – воскликнул он решительно и, только теперь заметив, что маменька уже ушла, прибавил в отчаянии: – Вот до чего дожил: сын буянит, жена ругается, дочь не хочет слушать. Господи!
Чтоб успокоить дедушку, ему предложили водочки. Выпив, он стал говорить складнее.
– Сегодня я встал, вижу, жена так и шипит, словно змея, пьяна уж третий день сряду! Входит сын, я ему поклон, да и говорю: «Уйми свою мать, Семен, она меня прибьет». А он, разбойник, держит в зубах трубку и молчит, точно без языка! Жена ну кричать и ругаться, так и лезет ко мне. Я плюнул и прочь от греха… Известно, баба дура: умрет, а на своем поставит, в реке тонет, а два пальца выставила, да и показывает, что стриженый, стриженый…
Дедушка всегда приводил в пример женского упрямства знаменитую басню о бритом и стриженом.
– Да за что же вы с дяденькой поссорились? – спросил кто-то из нас.
– Отцу старые кости погреть не дадут!.. Расхорохорился, начал кричать на отца: «Не закрывать рано трубу: угар будет!» (Тут дедушка передразнил голосом своего сына.) Я ему говорю: «Так, по-вашему, дрова даром, что ли, жечь? На воздух топить?..» А он на меня как закричит, а жена-то, мотовка, стоит в дверях, зубы скалит да приговаривает: «Так и надо, хорошенько его, Семен!» Ну, ей-богу, он ударил бы, не убеги я из дому: думаю, пропадай себе добро, уйти от беды, да поскорей и навострил лыжи…
– Полноте, дедушка.
– Нет, я уж давно заметил, что они как-то странно на меня поглядывают, у них глаза-то точно у злодеев…
Наконец нам надоело слушать дедушку, мы понемногу разошлись, и он остался один. Облокотись локтем на стол, он поддерживал рукой свою голову, скрипел зубами, прихлебывал пунш и по временам повторял:
– Разбойник! Отца гнать… Тридцать лет жили вместе… недаром сказано…
И в сотый раз повторив то, что недаром сказано, он сразу допил стакан и улегся…
От сидячей, затворнической жизни, от болезни, от старости дедушка с каждым годом становился трусливей и легковерней. Брат Иван в несколько дней совершенно завладел им: он так его понял, что угадывал его желания, и только ответами брата удовлетворялся любопытный дедушка. Иван спал в одной с ним комнате. То-то раздолье дедушке! Надев белый вязаный колпак, старик вытягивался во весь рост на кровати, покрывался истертым шерстяным одеялом, выставив одно худое лицо свое с длинным, немного кривым носом, и пускался в бесконечные рассказы о том, как родной сын хотел выгнать его из дому, как тридцать лет жил он с мотовкой, женой своей, как в несчастный день ничего не должно предпринимать… Брат давно спал, но дедушка все еще говорил, говорил, пока шевелился язык… Но особенную деятельность обнаруживал дедушка по утрам, когда топили печь. Едва огонь охватывал дрова, он вооружался длинной кочергой, садился против печки и сладострастно следил за возрастающим пламенем, прислушивался к треску дров, которому вторил поскрипыванием зубов. Дрова пищали, свистели, иногда стреляли, причем старик вскрикивал и сердился, зачем сыры дрова и зачем дорого куплены. Клетка дров разрушалась, падала в беспорядке; дедушка с любовью подталкивал головешку в пламя, постукивал ее и радовался, когда она опять загоралась. Наконец, когда дрова превращались в огненную гору, а дедушка в розовый уголь, он загребал уголья к одной стороне, подозрительно оглядывался, не следят ли за ним, и если в комнате никого не было, поспешно закрывал трубу и становился к печке, чтоб отвлечь от нее внимание… Его сожаление, что не позволяют ему заведовать печками целого дома, не имело границ!
По воскресеньям, когда собирались братья, дедушка никогда не мог высидеть обед до конца. Наш беспрерывный говор, мешавший ему говорить, называл он своеволием и восхвалял старое время, когда говорили по старшинству… Если мм рассказывали друг другу что-нибудь любопытное, дедушка хотел непременно знать: за что? почему? как? кого? а между тем был туг на ухо.
– А? Что? Не слышу! – И дедушка чистил себе мизинцем ухо и подставлял его к самому рту рассказчика.
– Кто, а?
– Маменька проиграла в карты.
– Слышу, слышу… Вишь как кричит, точно дом загорелся! Ну, он приехал, мать выиграла?..
Ваня мигом избавлял нас от докучливого соседа, и вот каким способом. Дедушка, вычитав в Брюсовом календаре, что между 15 февраля и 15 марта должно опасаться покушения на жизнь, очень боялся насильственной смерти. Брат объявил ему, что в лунные ночи на него находит какое-то бешенство – все хочется душить и резать. Дедушка заглянул в календарь: так точно! «Отроче, родившийся под такой-то планетою, подвержен припадкам безумия, ему очень вредна говядина».
А брат нарочно протягивал тарелку во второй раз:
– Тетушка, пожалуйте еще говядины!
Дедушка вертелся на стуле, охал и говорил:
– Господи! Взбесится! Взбесится! Посмотрите: у него уж и так глаза налились кровью!..
Брат делал: «брр!», мотал головой и таращил глаза на дедушку… Старик в ужасе вскакивал из-за стола, махал руками и кричал:
– Нашло! Нашло!..
Вечером часов пять сряду он доказывал тетушке вред говядины, ссылаясь на свой календарь; но на брата долго сердиться не мог, а тотчас опять подчинялся его влиянию и даже ничему не верил, чего не подтверждал брат. Если брату хотелось пряников и сухарей, он отправлялся к дедушке.
Старик лежал, растянувшись на своей кровати, и поскрипывал зубами.
– Дедушка, – говорил брат.
– Что тебе, Ванюша?
– Да что-то болит голова.
– А зачем давеча орал на весь дом? До сей поры в ушах звенит!
– Ах, дедушка! Поневоле станешь кричать, взгляните на месяц: сегодня полнолуние… Нашло, так говядины и хочется, – пойду съем!
Но дедушка быстро вскакивал с кровати, шарил в ней и вытаскивал далеко запрятанный пряник.
– На, только бога ради не ешь говядины!
Довольный внук убегал, а старик потихоньку высовывал голову в детскую и, уверившись, что внука тут нет, таинственно говорил тетушке:
– Дайте вы Ванюше к чаю сухарей!
Тетушка пыталась его образумить: напрасно! Он ссылался на календарь, потом переходил к сыну разбойнику, к жене мотовке и заключал басней о бритом и стриженом…
Дедушка сердился, что ему редко доводилось видеть зятя и дочь, но жаловаться не смел. Случалось, отец наш приходил завтракать в детскую, тогда дедушка выходил из своей комнаты, низко кланялся ему и говорил иронически:
– Наконец увидел вас! Кажется, недели две не видались. Как ваше здоровье?
– Здоров, батюшка. А ваше?
– Что мое… плохо-с! (Дедушка кашлял.) Проклятый кашель душит.
– Да вы бы пошли прогуляться, погода хорошая.
– Прогуляться? Нет, покорно благодарю.
– Отчего же, батюшка?
– А вот месяцев шесть тому вышел я погулять, да чуть жив домой пришел: шум, крик, суета! Улицу хочешь перейти, не дают, разбойники, так и едут на тебя, будто не видят, что человек идет. А как гаркнут: «пади!» – ноги подкосятся от страху! На тротуаре толкотня. «Ну, не видишь, что ли? Важная птица! Давай дорогу!..» – Дедушка плевал в сторону и махал рукой. – Бывало, каждый давал дорогу друг другу, а нынче так и лезут на тебя, точно задавить хотят!
– Вы устарели, всё дома сидите, вот вам так и кажется.
– Нет-с, извините, нынче времена такие. Сказано, что настанет время, когда брат будет брату злодей, – где море, там земля будет, – исчезнут целые города, и на их месте дремучие леса вырастут, лютыми зверями обильные…
– А скоро будет такое время, батюшка? – смеясь, спрашивал отец.
– Смейтесь! Вам все смешно, а вот Ванюша… он намедни мне предсказал, говорит: к худу… Так и вышло!.. А все северное сияние…
– Какое северное сияние?
– А вот какое: сижу вечером без свечки – вижу: на небе северное сияние, так и играет… Я за Ванюшей; указал ему на небо: «Видишь, Ванюша?» – «Вижу, дедушка». – «Ну, к худу или к добру?» – «К худу, к худу, дедушка». И что ж бы вы думали? Разбил чашку! Сам не знаю, как выскочила из рук!
– А вот я вашего пророка высеку.
– Так! Знал, что не поверят! Только бы сечь да бить! Вот и сын родной такой же злодей…
Дедушка сердился, упрекал, грозил, припоминал сына злодея, жену мотовку и, наконец, в отчаянии убегал из детской, крича:
– Господи, господи, какие времена!..
Раз, чтоб сколько-нибудь рассеять дедушку, отец принес ему какой-то старый журнал:
– Вот вам, батюшка, почитайте, получше вашего календаря…
Дедушка с сожалением улыбнулся, взял книгу и читал ее ровно год, потому что, если ему замешают, он уж никак не мог найти, где остановился, и опять начинал с первой страницы. Удивляясь умной голове издателя, который, по его мнению, один сочинил такую огромную книгу, он разделял свое удивление с нашим человеком Лукой, когда тот стоял с огромным подносом, пока тетушка поставит ему стаканы с чаем. Дедушка, кажется, считал унизительным поверять слуге свои семейные тайны, и потому разговор их вертелся всегда около литературы и политики. Лука был очень добрый человек, малорослый, с гладкой лысиной и сморщенным лицом, напоминавшим мерзлое оттаявшее яблоко. Прежде он служил денщиком, был в турецкой кампании и, рассказывая братьям свои походы, всегда говорил: «мы взяли крепость, мы побили турку». Дедушка, завидуя, что его слушают, старался сбить и сконфузить его, озадачивал его вопросами из календаря и злобно смеялся его невежеству. Но братья, назло дедушке, заставляли Луку рассказывать про старого барина и походы.
– Вот-с мы отправились в поход, идем-с… мороз страшный… кто нос, кто ухо, кто ноги… Вошли в тепло, хвать – уж и поздно! Фельдшера за бока: резать!
При слове резать дедушка менялся в лице и поскорей перебивал Луку:
– А хитер турка, даром что у них пасха бывает в пятницу… а вот у жидов так в субботу.
– Да-с, видал и жидовок.
И глаза Луки, пристрастного к жидовкам, принимали нежнейшее выражение.
– А что, хороши?
– Кажись, нет их лучше, даром что нехристь: глаза черные, черные, нос длинный, бровь дугой – черная, черная… Раз барин увез жидовку к себе: плачет, болтает на своем проклятом языке, размахивает руками… смотришь, ничего не понимаешь, – язык показывать начнет! Барина-то дразнить не смела, так меня, – чудная такая! Жид, отец ее, приехал – ноги, – а барин мой молодец: глаза черные, волосы черные, а уж сила просто чертовская: хватит, так дня три ухом не слышишь – шумит! Вот-с, – продолжал Лука, подвигаясь к столу, чтоб принять стаканы: – начал он жида-то таскать да приговаривать – такой шутник: «Вот тебе, жид проклятый, вот тебе дочь!»
– Смотри, уронишь стаканы! – кричал дедушка.
– Нет-с, не уроню, мы в походах и раненых таскивали на плечах, да не роняли!
– Чаю! – раздалось восклицание маменьки, которая отличалась удивительно звонким голосом, заменявшим ей колокольчик. Все засуетилось, и смущенный воин, вместо раненого собрата, потащил в залу огромный поднос.
Как только он ушел, дедушка начал уверять братьев, что он все лжет, ничего не знает, а по возвращении Луки с язвительной насмешкой спросил его:
– Ну, ты бывал в походах, а знаешь ли, что такое Сатурн?
– Как же-с, мы штурмом и крепости брали.
– Ну, так угадал! Сатурн – планета, планета! Родившиеся под ее влиянием бывают: скупы, хитры, нелюдимы!
– Дедушка, так вы, верно, под ее влиянием родились?
– Постой, не перебивай!.. Нелюдимы, нелюбимы, памятозлобны, но трудолюбивы… В сии годы примечать должно, какие перемены бывают: весна холодная, лето холодное, с ветром, но июль теплый. Осень холодная, но ноябрь теплый. Жнивы мокрые, яровые худы, вина мало, прибыточно закупать. Молния и гром редко, рыбы мало. Младенцы весною страдают оспой, корью, кашлем и…
– Знаем, все знаем, дедушка! Лучше пусть Лука рассказывает про жидовку!
Но дедушка без запинки продолжал, стараясь перекричать братьев:
– Великие перемены в некотором государстве; новый образ правления в некоей республике; славное побоище, великий государь воцарится; а всего такого должно ожидать в тысяча восемьсот сорок первом или тысяча восемьсот шестьдесят девятом, а не то в тысяча девятьсот двадцать пятом году.
– Ай, дедушка! Да уж вас тогда и на свете не будет… сгниете!..
Дедушка с ужасом вскакивал, хватал себя за голову и кричал:
– Ну, дети! Слова старшему сказать не дадут!
А братья топали, выли волками, свистели, и он, наконец, убегал в свою комнату, оставляя ораторствовать одного Луку, который сопровождал бегство своего соперника победоносным взглядом.
– Ну, Лука, скажи нам теперь о жидовке.
– Ну, вот-с, мы живем; жидовка наша плакала, плакала, да и перестала, только бледная, знаете, такая стала. Барин все ее держит, ему говорили товарищи: «Брось ее, вишь какие у нее глаза-то», нет, говорит, вышколю! Раз говорит ей: поцелуй руку, а она смотреть начала, точно не понимает. А ведь я наверно знал, понимала по-нашему! Барин показывает ей руку: поцелуй! – качает головой. А он, царство ему небесное, был горяч, раз лошадь не послушалась, он соскочил с нее да как порснет саблей в живот, так и хлопнулась! А после сам говаривал, что он ее страх как любил, да, знаете, час такой…
– Ну, а жидовка?
– Ах! – и Лука тяжело вздохнул. – Не поцеловала, дура. Хоть кого злость возьмет, барин как вскочит да хлоп ее в лицо, та и покатилась, я вам говорю, точно муха, и лежит… Мы ее тереть тем, другим – все лежит, только, знаете, вздрагивает. Барин ушел, а мне не велел уходить: сижу. Она, как вы изволите думать? встала да бух мне в ноги. Дай я, вишь, ей ножик. Нет, говорю, не дам. Она плакала, плакала, а потом принесла мне денег, много денег; всё барин ей надавал, уж чего он ей не дарил? Я говорю ей: боюсь! Сами изволите знать, дай ей нож – пожалуй, и самого зарежет. Легла на кровать. Слышу, копошится, глядь, а она и висит да ногами подергивает. Я так и обмер, бегу вон, ну кричать: сюда, сюда! Собрались, развязали: еле дышит. Барин пришел бледный как смерть, – за фельдшером, за доктором! Пустили кровь, наша жидовка открыла глаза и так чудно смотрит… С тех пор стала тихая такая, даже весела бывала, – вино с барином пила… Вот пили они да пили, вдруг раз прихожу домой: жидовки нет, а барин лежит на полу весь в крови: горло бритвой перерезано!..





