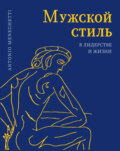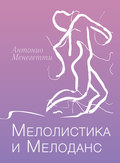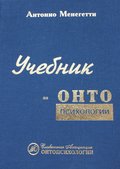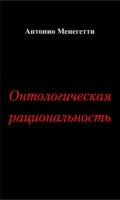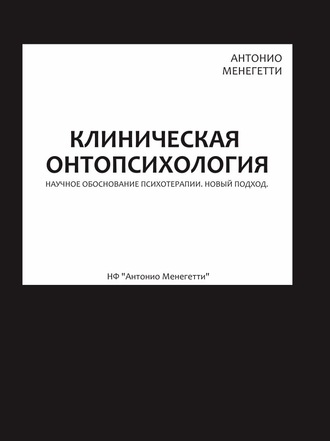
Антонио Менегетти
Клиническая онтопсихология
Два человека, которые находятся один напротив другого, определяют интерактивное поле согласно специфическим структурным образованиям каждого из них. Характер, темперамент, вкусы, привычки, формы поведения, инстинкты, комплексы, вытеснение, защитные механизмы, память, воспитание – все это суть структурные образования понимания экзистенциальной энергии. Чтобы лучше понять это, можно вспомнить о представлении Эйнштейна, согласно которому сущностными для описания физических феноменов являются не столько заряды или частицы, сколько поле, сформированное как промежуточное пространство и представляющее в физике электромагнитную силу*. Человек ассоциирует это с информативным контактом, который за пределами внешних органов чувств действует прежде всего на уровне церебровисцеральной семантики. Речь идет об упорядоченном процессе введения интенциональных данных как о совокупности динамических квантов, направленных на достижение определенного эффекта.
Подобное утверждение не должно удивлять, поскольку на данный момент рассматривается и в рамках философских направлений[2]. Речь идет о том, что любая интеллектуальная и лингвистическая структура есть не что иное, как выбранный модус управления общим (или экзистенциальным) опытом, а не однозначное выражение реальности как таковой. Все мы на самом деле живем и являемся наблюдателями за реальностью, но, чтобы выразить ее для самих себя и других, нам нужны другие правила и протоколы[3].
Человеческое познание осуществляется через копирование внутреннего и внешнего, но вначале единым является фундамент, то есть контакт с вещью-в-себе. Интеллектуальные операции, когнитивное развитие происходят и поглощаются во внутренней, частной, недоступной среде. С другой стороны, они появляются во внешнем поведении как несущественные проявления, полезные лишь как символ, как денежная купюра реальной ценности, хранящейся в другом месте (см. слово). В сущности, вся наша система познания произрастает из процессуально-исторических убеждений и не является самой эффективной. Позитивистская или идеалистическая позиция не изменят эпистемическую ситуацию.
Res* любого познавательного или дискурсивного проявления есть событие контакта, происходящего внутри человеческой индивидуации.
Когда я говорю об онтотерапевтическом контакте, то подразумеваю два аспекта: а) контакт как непосредственное и прямое сознание динамического события между двумя крайними и взаимодействующими между собой точками; б) регулировка, или терапия очевидности факта. Нет нужды, чтобы решение следовало фактической очевидности, чтобы проявлялась очевидность взаимодействия. Это означает, что необходимо констатировать импульсы эротического или деструктивного взаимодействия, и потом при принятии решений субъект может координировать себя в какой угодно области. Переход к решению действенен, если сохраняется достоверность того, что в-себе любого импульса позитивно.
Онтотерапевт в свете контакта с пациентом изучает устраненную реальность пациента: она задает матрицу процесса психотерапевтического взаимодействия. Для онтотерапевта привычно видеть или получать опыт там, где истина вступает в контакт, и потом переводить с помощью символов, образных аналогий, исторических протоколов Ин-се, которое всегда пребывает за пределами. Каждый разговор или утверждение всегда является феноменом, где истина уже случилась. Никакое слово не может воплотить действие Бытия в контакте. Запредельное появляется здесь, только когда индивид достигает онтического сознания или самоочевидного акта. Ради этого онтотерапевт, даже если видит, что творится в святилище человека, должен остановиться у ворот в храм своего пациента, потому что место истины завоевывается в одиночестве. «Во всем том, чему тебя научили другие, тебя еще нет».
10. Некоторые уточнения. Онтотерапевтический контакт рассматривает значимую обусловленность прошлого и настоящее событие в значении одной жизни в действии.
Ощущение того, что ты являешься полем чуждых семантик, не так легко отделить от собственных организмических ощущений. На самом деле тело наблюдателя становится колонией интенциональных эмоций первого действующего лица. Таким образом, я, онтотерапевт, до консультации должен уловить себя со спокойной пассивностью, и наиболее жизненная эмоция связана с ожиданием собственного одиночества. Как только я встречаю клиента, я отмечаю в своем теле другие или новые эмоции: мои органы испытывают возбуждение или удушье, анестезию, отторжение или притяжение. Под органами я подразумеваю любую часть своего тела. Каждый клиент осуществляет со мной симбиотический или колониальный контакт тематического отбора. Я ощущаю активную эмоцию, но я осознаю себя колонией. Расшифровывая эмоции, которые испытывает мое тело-радар, я распознаю семантику другого бессознательного, которое вступает со мной в контакт. Все это происходит до тех пор, пока я воспринимаю другого как луч света. Одновременно с этим мое абсолютное внимание направлено исключительно на другого, и ничто в мире не существует для меня, кроме него. Я вижу его и люблю так, как никто в мире его не любил, смотрю и дотрагиваюсь так, как никто не смотрел и не дотрагивался. В этом опыте я начинаю говорить с ним на основе памяти его моделей. Когда из этого появляется любовь или ненависть по отношению ко мне, то (оставим в стороне трансфер) в тот момент пациент не может понять, любит ли он или ненавидит меня как другого индивида, или испытывает эти чувства по отношению к своей лучшей части, которую я отстаиваю на сцене его сознания.
Онтотерапевт действует в соответствии с тем, чему учит контакт. После консультации я вновь обретаю себя, как и прежде, в ожидании своего одиночества.
1.10. «Сверх-Я»
Фрейд в представлении своей общей теории выделил такую инстанцию как, «Сверх-Я»*. Я не отношу себя к последователям Фрейда, однако до сих пор нахожу удобным в подготовке клиента ссылаться на фрейдовские параметры «Оно», «Я», «Сверх-Я», поскольку фрейдовский подход наилучшим образом располагает к пониманию динамической данности психики.
Что такое «Сверх-Я». Как оно формируется. Из чего состоит. «Сверх-Я» – это реальность, которая всегда предвосхищает сферу сознательного «Я»; это принуждение, которое уже произошло до становления сознания.
«Сверх-Я» – это регламентация, структуризация, преобразование той первичной энергии, которая безвозмездно предоставляется органическим Ид индивида.
Это наиболее компактная и сложная структура, на основе которой регулируются все идеологические, юридические и патологические понятия социума.
На основе заданных параметров органического Ид социальная ситуация вводит информационные данные и путем многочисленных повторений воздействует на человеческий организм до тех пор, пока тот с целью выживания не усвоит эту информацию. Говоря «интроекция»*, мы подразумеваем под ней такое усвоение, когда социальная ситуация становится матрицей научения для организма. Организм должен получить ее как закон собственного выживания, иначе не примет, не усвоит ее. Организм чувствует опасность физической смерти.
Социальная ситуация достигает органического «в-себе-бытия», сокровенности человека двумя способами:
а) Семантическая коммуникация (в данном случае имеется в виду реальность семантических полей); этот организм воплощается в среде, являющейся постоянной психической утробой; человек является фактом, результатом взаимодействий. Каждая наша мысль, каждое наше действие всегда является результатом множественных отношений, преципитатом, конденсатом множественных факторов взаимодействия. Это возможно, потому что человеческий организм всегда расположен к адаптации. Адаптация – это закон жизни, при ее отсутствии жизнь становится невозможной.
Как уже было сказано, «Сверх-Я» формируется в результате ассимиляции* как психофизической детерминанты семантических полей, среди которых находится человеческий организм, и растет всегда как эффект этой семантики, еще до так называемого использования разума.
б) Второй способ: организм ребенка постоянно направляем в своих функциях жизненного взаимообмена, то есть, как только он появился на свет, ему удается выживать до тех пор, пока он способен восстанавливать, заряжаться энергией от окружающей среды.
Жизнь – это процесс взаимодействия между множественными точками, находящимися в зависимости друг от друга. Я могу создать самого совершенного человека в мире, однако, пока в нем есть жизнь, он нуждается в энергетической подпитке, в еде, кислороде и т. п. Этот организм живет до тех пор, пока способен метаболизировать среду, пока является действующей точкой в активном метаболизме. Все мы констатируем эту потребность: на основе данной предпосылки социальная сила симбиотизирована и реализована в матери. Когда ребенку необходима энергия, его организм во всех своих функциях находится под управлением, словно он постоянно вынужден проходить решетку таможни внутри и вне себя, испытывать постоянный шантаж. Манипуляция метаболизмом позволяет социальной ситуации проникнуть вглубь человеческого организма на основании глубинной потребности человеческого организма в метаболизме* со средой. В противном случае человек умрет.
Постоянное повторение этой ситуации неизбежно приводит к следующему: тот, у кого в руках находится возможность метаболизма, выстраивает себя автономным образом в организме, находящемся под его контролем.
«Сверх-Я» – это продукт общества, которому удалось структурировать и воспроизвести себя в органическом в-себе-бытии.
Нужно сделать одно уточнение: этот факт неизбежен. Сама по себе социальная ситуация является жизненным фактом, поскольку в ином случае человек не смог бы выжить. Любой младенец, покинув материнское лоно, умер бы. В связи с этим появляется форма более обширной социальной утробы, продолжающей свое действие, дающее жизненные силы в метаболизме индивидуальной органики. Несомненно, это позитивный жизненный акт, необходимый как источник жизни. Таким образом, социальная ситуация, рассматриваемая в данном ключе, важна и жизненно необходима как формирование отдельного органа в рамках человеческого организма. Поскольку социальную ситуацию формируют взрослые, обладающие памятью фрустрации, несущие в себе какой-то изъян, естественно, что эти страдающие от многочисленных вытеснений взрослые колонизируют других в качестве компенсации*. Испытывающий жажду, давая воды, пьет и сам, голодающий, давая еды, ест и сам. Неизбежно человек, не имевший любви, управляя отношениями любви, забирает любовь для себя, управляя жизнью других, берет ее прежде всего для себя.
Легко понять, какое ощущение испытывает неуверенный взрослый, когда у него есть ребенок – его отпрыск, человек, по отношению к которому по праву и положению вещей он не испытывает страха, чуждости. Только в отношениях с этим ребенком-сыном (или дочерью) взрослый ощущает свободный контакт, воспринимает его как часть себя. С ребенком он не испытывает страха быть обиженным, отвергнутым, то есть в нем продолжается «Я» взрослого. Необходимо обладать определенной неуверенностью сознания, чтобы понять преимущества, которые определенный тип матери ощущает в клонирующем контакте с собственным ребенком: «Он не может сказать мне нет, он не способен на инакомыслие, его удел – согласие». Чтобы понять это, представьте, что бы вы почувствовали, взяв щенка: что-то, что наделяет вас смыслом конкретности, территориальности «Я». Из этого положения можно прояснить многое. Если я – ребенок – оказываюсь рядом со взрослым, который эгоистично ищет возможность удовлетворения своих удовольствий без потребности кого-либо колонизировать, тогда, просыпаясь, я оказываюсь на своей территории. Напротив, если со мной тот, кто испытывает жажду, голод, неуверен, то, когда я просыпаюсь, чувствую себя чужаком на своей территории.
Даже если в организме всегда остается априорный факт собственного блага, когда я пытаюсь выразить его в феноменологическом действии, я должен действовать согласно уже управляемым ситуациям.
У многих людей присутствует ощущение хорошего инстинктивного начала. Однако в момент совершения действия превалирует голос, команда, привычка. За каждым патологическим застоем есть примитивный жизненный инстинкт, не включенный в жизненные функции, непознанный и запрещенный. Каждое инстинктивное направление ребенка должно развиваться согласно определенному параметру, вне которого он не существует.
«Сверх-Я» устанавливает привычку жизни, которая ориентируется на нечто внешнее по отношению к данному организму. Так происходит в патологическом случае. Напротив, «Сверх-Я» важно и жизненно необходимо, когда организм обучается за небольшое количество лет тому, на понимание чего в одиночку ему потребовались бы тысячелетия. «Сверх-Я» – это огромное и, тем не менее, опасное богатство. С помощью структуры «Сверх-Я» организм обучается великим вещам в считанные мгновения. Это означает, что посредством «Сверх-Я» маленькому индивиду удается постичь целый мир как органический факт и почувствовать весь мир как продолжение себя. «Сверх-Я» по своей жизненной структуре предоставляет ребенку всесилие мира. Однако это происходит в том случае, если не происходит обмана со стороны других элементов, испытывающих голод, жажду и не имеющих иного источника их утоления. Как уже было сказано, «Сверх-Я» действует скрытым от «Я» образом. Определенный тип ответственности, сравнение различных параметров, перевод чувств в слова, необходимость вербализации для общения с другим человеком, разграничение между субъектом и объектом – все это уже является «Сверх-Я».
«Сверх-Я» – это не простая интроекция этики или морали родителей, пусть даже в простом фрейдовском понимании: оно структурирует модальность инстинкта и обуславливает любую энергетическую функцию жизни гражданского человека.
«Сверх-Я» – это производная энергия социальной среды, которая вступает в метаболизм с органическим и через соответствующее обуславливание определяет как постоянный условный рефлекс всю деятельность индивида. Таким образом, со стороны организма мы получаем действительное энергетическое увеличение, которое становится структурой жизни в самом организме.
Отождествление «Сверх-Я» с организмическим, тем не менее, не доходит до полного замещения им органического Ин-се: если бы это произошло, то привело бы к смерти. Жизнь возможна, пока органическое Ин-се сохраняет целостность.
«Сверх-Я» можно определить как зону, сформировавшуюся в детстве еще до того, как человек научается использовать разум, то есть отличать добро и зло на уровне индивидуального организмического импульса. В дальнейшем все проявления сознания, «Я», ответственности основываются на допускающей предпосылке первой зоны, или «Сверх-Я». «Сверх-Я» становится точкой первого согласования индивидуального бессознательного и бессознательного среды, индивидуальной органики и организмического среды. Это первое согласование структурируется человеческой средой, обществом. «Я» всегда развивается в рамках абсолютного повиновения «Сверх-Я». Следовательно, не существует отдельного пространства «Я». Все, чем является «Я», вся способность к принятию решений и диалектическому сравнению, возможны лишь в той мере, насколько дозволены фильтром, тщательным отсевом, осуществленным бессознательным и «Сверх-Я». Приводя образный пример, в заданном пространстве большую часть занимает Ид, потом «Сверх-Я», и потом, – «Я». Часть «Я», все «Сверх-Я» и, естественно, Ид составляют зону бессознательного.
Принимая во внимание тот факт, что основные защитные механизмы, несмотря на то что реализуют «Я», появляются под диктатом «Сверх-Я», можно прийти к выводу, что «Я» вынуждено формироваться там, где ему это разрешено, и таким образом, как ему это разрешено.
Как во всем этом действует психотерапия, а именно, онтотерапия. За рамками вседозволенности «Сверх-Я». В тот момент, когда онтотерапевт помогает в-себе-бытию другого человека, он пытается развить зрелую позицию другого, в том числе и ту функцию, которая была выстроена под вседозволенностью «Сверх-Я». Если под «Сверх-Я» подразумевать определенную область – энергетическую зону, модулированную социальными частотами или зону психической энергии, направленную на социальную полезность, – тогда и психотерапевт действует в соответствии с разрешением в этой зоне.
Первая стадия. Несмотря на определенную дискредитацию и, прежде всего, на распространенное поведение в виде сопротивления в отношении психотерапевтов, никто не может утверждать, что они глупцы. Их показывают в фильмах великие режиссеры, о них пишут в книгах выдающиеся писатели, упоминают политики. Уже во время первого контакта пациент испытывает уважительное отношение, и факт прохождения психотерапии одобряет, поощряет определенная социальная прослойка. Психотерапия сначала рассматривается таким же образом, как и многое другое, что принимается ввиду социального комплекса. К сожалению, и психотерапевт сначала отбирается, фильтруется в соответствии с реальной организмической потребностью или потребностью «Я», он допускается с согласия социального порядка.
Вторая стадия. Во время прохождения консультаций мы принимаем психотерапевта, потому что он способен выявить соответствие интенциональности. Пациент думает: «С ним я могу большего достичь в политике, в отношениях с друзьями, в системе образования, я могу достичь более качественных социальных результатов. Если психотерапевт может продемонстрировать и удостоверить то, что хочет общество, он исследует и предоставляет практические доказательства, то есть если он засвидетельствует очевидность достигнутых целей, которые являются также и целями, желаемыми обществом, тогда он мне нужен!». Вследствие этого психотерапевтическая модель, вместо того чтобы искать истинное Ин-се, истинный Ид, фокусируется на области «Сверх-Я».
Третья стадия. Когда человек на месте пациента начинает проявляться по отношению к психотерапевту, то есть использует с психотерапевтом определенные формы поведения, такие как спор, осуждение, любовь, торжество, и в этой фазе он оценивает контакт рациональными параметрами, которые в любом случае закодированы «Сверх-Я».
Тотальный отрыв от «Сверх-Я» происходит тогда, когда человек достигает нейтральности в своем способе существования, улавливает индифферентность модусов, цифр. Когда он постигает сущность – чистое постижение сущности бытия, – в этот момент заканчивается любая психотерапия, заканчиваются взаимоотношения в виде зависимости от другого, потому что в этот момент процветает исключительно инициатива солнечного действия.
Глава вторая
Рождение «Я»
2.1. Введение
До сих пор мне не встретилась ни одна теория, которая объясняла бы структуру и сущность «Я». Хотя многие пытались приблизиться к пониманию «Я», тем не менее, они ограничивались утверждениями о функциях «Я», вследствие чего складывается впечатление, будто все выдающиеся авторы исходят из разделения на субъект и объект, а те из них, кто пытается приложить «Я» ко всему, совсем его потеряли.
В теории Фрейда «Я» («Эго») предстает как одна из трех валентностей личности*. Основная идея психоанализа от Фрейда до наших дней состоит в отдельном рассмотрении двух реальностей: «Я» – с одной стороны, и предметности мира – с другой.
В критическом обзоре данной проблематики А. Моделл[4] ставит под сомнение теорию объектных отношений, а также некоторые из базовых положений психоанализа относительно психической структуры человека, и прежде всего тезис о «Я».
Под «объектом» следует понимать инструмент, с помощью которого инстинкт реализует свою цель. В этом смысле в силу мощнейшей способности к смещению динамического заряда «Я» при вложении его во внешнюю реальность объект может многократно претерпевать взаимообмен. Необходимо также принимать во внимание то влияние, которое оказывают объектные отношения на формирование личности вообще. В данном значении объект можно рассматривать как следствие внешнего опыта в организмическом человека.
В сущности, вся гамма функций «Я» подвергается множеству позитивных или негативных воздействий, оказываемых объектными отношениями и вызываемых действием механизмов интериоризации и интроекции. Но как таковые функции «Я» образуются на основе целого ряда исходных биологических данных.
Как пишет С. Нашт*: «Проблемой понятия “Я” стали опасные попытки присвоить ему пространство, персонализировать его. “Я” уже не идентифицируется не только с человеком-персоной, но даже с его ощущением себя. Наблюдение определенных фактов (в случае, если мы придаем им ценность) позволяет выдвинуть гипотезу только о том, что наблюдаемое поведение предполагает совокупность функций, которые мы тоже присваиваем нашему “Я”. На наш взгляд, эти функции “Я” складываются и развиваются в детстве, с той оговоркой, что наличествуют некоторые условия для установления отношений и созревания. Мы помним, что интегрирование первичных перцептивных и интеллективных процессов усвоения реальности абсолютно аналогично интегрированию самого первичного объекта»[5].
Итак, Нашт все еще разводит по разные стороны организмическую реальность и отношения с объектом. Согласно психоаналитической теории, объектные отношения являются одной из фундаментальных переменных развития, но не они лежат в основании «Я».
Кажется, что в области ортодоксального психоанализа (или, по крайней мере, ответвлений психоанализа) лучше всех проблему рождения и формирования «Я» определила Мелани Кляйн*. Она выделяет несколько основополагающих моментов, которые, по моему мнению, выходят за рамки психоанализа.
Кляйн рассматривает объектные отношения как следствие (или в качестве) ранней интроекции первичных объектов. Это отношение с объектом фактически постулируется как первичный фундамент развития «Я», вследствие чего «Я» становится не чем иным, как результатом своего рода следствий или «осадков», вытекающих из его первоначального расщепления. «Я» «расщепляется» в силу того, что энергетический заряд распознает себя или идентифицирует с объектом, в который вкладывает себя. Поэтому «Я» оказывается результатом таких объектов, которые провоцируют расщепление «Я» на примитивной донарциссической стадии его развития[6].
Даже если на первый взгляд проблема может показаться теоретической, в действительности она имеет под собой мощное реалистическое основание. Много лет тому назад К. Эйсслер выражал беспокойство по поводу неясности отношений между метапсихологией и современной терапевтической техникой*[7].
В психотерапевтической практике философская функция психотерапевта остается основой направленности его действий, а значит, он не может уходить от вышеописанной проблемы, так как каждое действие человека фактически предполагает философию. Ее ясность или отсутствие детерминирует большую или меньшую позитивность деятельности.
Не следует понимать под «Я» только некую сознательную форму, так как в его зоне располагаются также защитные механизмы, широчайшие зоны подсознания, бессознательного и т. д. Речь идет об определенной системе, и ее самый ясный момент именуется также сознанием, которое всегда выражает уже прошедшее время «Я».
«Я» не задано изначально, как не существует души, которая вдруг пробуждается: разум формируется, развивается из всей этой совокупности. Подобно тому как скульптор «извлекает» статую из камня, так же и «Я» выводится из целостного потенциала.
Многие люди, говоря о себе, произносят «Я», но при этом остаются вне органического сознания. «Я» происходит из совокупности, и этот факт предполагает наличие в отправной точке гораздо более обширного потенциала. Множество различных «Я» может развиться из одной и той же совокупности. Форма происходящего всегда задана совокупностью исходной двойственности объективного мира. Каждый человек на уровне своего «Я», и в большей степени – в своей целостности, воспринимает и познает жизнь благодаря встречам, предоставляющим взаимные возможности. В качестве причины случай порождает следствия: познание, восприятие, переживания души.
Когда я смотрю на человека, он становится реальностью моего зрения, мышления, восприятия. Он не является чем-то нейтральным, внешним, отсутствующим: угол зрения определяется мною, но внешняя реальность существует на равных с воспринимающим.
Точка зрения, от которой ведется наблюдение, приобретает права наравне с причинностью. Если решено установить его с одной стороны, тогда чувствую, слышу и вижу именно я. Если с другой стороны – то чувствует, слышит и видит кто-то другой.
Существуют три инстанции, обуславливающие «Я»: органическое строение, непосредственное взаимодействие «тело – окружающая среда», организованное директивное влияние социума.
1) Органическое строение.
Возникает некоторый объект, который становится носителем и структурой реальности в соответствии со своим законом, модусом, основой. С того момента, как жизнь разделяет себя на части и воплощается в индивидуациях, субъект противопоставляет себя другим индивидуациям для защиты своей собственной, своего отличия.
Едва обособившись среди прочих, индивидуация подбирает не любую окружающую среду, а только соответствующую определенной ее потребности. Иными словами, производит тематический отбор среды. Организм взаимодействует со средой, руководствуясь собственным законом, согласуясь с тем, что выделяет его из среды. На этом этапе уже имеется некоторая обособленность в совокупности, но «Я» еще не становится действием. В каком-то смысле это зона «Оно» по отношению к «Я». «Оно» в понимании Фрейда и в смысле тотальности.
2) Непосредственное взаимодействие «тело – окружающая среда».
Организм вступает в отношения с окружающей средой, которая, в свою очередь, взаимодействует с организмом. В момент взаимодействия среда дифференцирует организм. Человек, живущий в странах с теплым климатом, создает цивилизации одного типа, а с холодным – другого. В ребенке, которого окружают спокойные и ясные голоса, неизбежно разовьется чувство экспансивности. Если же он растет среди хриплых, нервных, лишенных уверенности голосов, то станет невротиком. Даже домашние животные формируются в зависимости от семантического поля хозяев. Сам индивид определяет свое сознание.
3) Организованное директивное влияние социума. Организм рождается в комплексной среде с высокой степенью организации и специализации. Если поместить высокоорганизованный элемент рядом с нейтральным, то неизбежный перевес получит первый, поскольку такой элемент в состоянии привести в соответствие со своей формой то, что пока еще нейтрально. Если сравнить ребенка нескольких лет от роду и пожилого человека, то последний окажется более высокоорганизованной системой по отношению к малышу.
На энергетическую целостность организма, который формируется в физической среде, постоянно воздействуют стимулы, согласующиеся с интересами взрослой специализированной среды – общества. Форма мышления индивида есть, кроме всего прочего, продукт многовековой истории общества. На «Я» воздействует совокупность векторов и ограничений, обусловленная типом ментальной организации семьи, в которой растет ребенок.
«Я» представляет собой «осадок» социального окружения: после этой фазы появляется сознание. Сознание пробуждается скорее в силу социальных, нежели органических процессов. «Я» является началом самосохранения организма. В сущности, функция «Я» состоит в защите обособленной реальности, в которую оно помещено.
Эта функция в бытии заключается в опосредовании универсального к индивидуальному. «Я» опосредует и контролирует то, что существует для организма.
Если при исполнении данной функции «Я» получает все большее развитие, оно сможет совершать более полный и экспансивный процесс самотрансформации и пресуществления* при каждой встрече с объективной данностью. Главное, чтобы эта данность соответствовала органической тематике «Я». Тогда «Я» пробуждается как субстанциальная идентичность, как уникальная субстанция, в которой целое восстановлено из одной начальной части.
Когда мы говорим «Я», мы имеем в виду структуру, способную стать посредником между внешней реальностью и организмом. Организм следует, скорее, закону эротической экспансии и расширения удовольствия, а «Я» предстает структурой, которая рождается в момент, когда организм подбирает для себя среду.
В онтопсихологии априорное «Я» понимается как переживание всеобъемлющего знания. Оно возникает, когда историческое «Я» совпадает со всем, чем живет, и становится функцией реальности.
Далее мы рассмотрим некоторые аспекты исторического «Я».