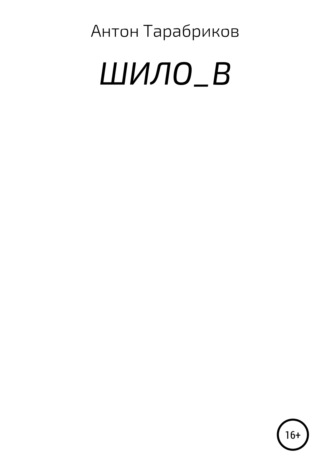
Антон Тарабриков
ШИЛО_В
Матвей, мне кажется, что ты немного вперед забегаешь. Еще же ведь был момент с тем, что нам надо было, чтобы весь концепт и план по нему был принят Управлением и верхами. И этот момент был ключевым на том этапе, так как в противном случае все, что мы рассказывали о снятии с госаппарата «неликвидных» направлений, просто-напросто бы реализовалось. При всем при этом нам надо было убедить Управление в том, что наше предложение носит исключительно исследовательский характер. И вот уже для этого нам понадобился Геннадий Евсеевич, который на тот момент был чуть ли главным консультантом Управления, то есть имел самое большое влияние на верхи среди тех, с кем мы могли договориться. И Авдей Наумович решил изложить Видову все наши соображения и опасения, о которых мы рассказывали ранее. Причем это был их первый прямой разговор за долгое время, после того, как они не сошлись на предмет влияния науки на государство. Мы тоже стали участниками того разговора, и вот как это происходило, примерно: «
Видов: Все, что вы мне сейчас изложили я сам прекрасно понимаю и осознаю, и так же, как и вы, пытаюсь найти решение. То, что вы предлагаете может быть подвергнуто большому количеству интерпретаций и искажений. Нам же нужны однозначные выводы, которые будут очевидны даже для ребенка.
Шилов: Полностью согласен на счет однозначности выводов. Только не очень понятно, как наш план этому противоречит…
Видов: Авдей Наумович, ну вот зачем Вы опять представляете свои решения, как единственно верные и безальтернативные? Я ведь тоже не просто так являюсь сопредседателем академсовета второй десяток лет. Это осознали даже на самом верху, и вы именно из-за этого обратились ко мне, я это прекрасно понимаю. Я лишь говорю о том, что ваш план слишком прямолинеен, и он сразу же раскрывает его смысл, а он должен быть известен только нам.
Шилов: Обратились мы к Вам не только из-за Вашего влияния, но не суть. Уже хорошо, что мы с Вами сходимся в необходимости недопущения сбрасывания с себя государством большого количества социальных функций. А на счет методов недопущения, готовы выслушать Ваши предложения. За этим и обратились.
Видов: И правильно сделали, а-то бы только все усугубили. А если бы изначально пошли пути увеличения научности в государстве, предложенным мной, то вообще бы обсуждаемой проблемы не возникло. Предложение же мое сводиться к тому, чтобы опять развернуть все в сторону более научного подхода в государственном управлении. Тем более, что я в этом серьезно продвинулся, пока вы решали локальные задачи. А конкретнее, я предлагаю смасштабировать ваш план на всю страну, добавив туда процедуры, упущенные вами при его составлении.
Шилов: Но это же реальный риск кризиса и временной остановки функционирования нижнего исполнительного звена госаппарата, как это было недавно…
Видов: Не отрицаю, так и есть, но вынужден констатировать, что по другому они не поймут и не осознают мастшабности всех последствий для себя. А мы и должны показать чем это грозит лично для них. Нет, конечно есть и другой вариант.
Шилов: Просветите, пожалуйста…
Видов: Все просто – они все это скидывают, вы подхватываете и тянете лямку, в конце концов, вы им подобную идею и подали. Но, согласен, это будет не правильно. Поэтому, считайте меня сторонником в вопросе недопущения снятия с себя государством их прямых обязанностей. А по методам и подходам надо договариваться.»
Договоренности договоренностями, но время поджимало, действовать надо было уже «вчера», поэтому было принято достаточно радикальное и неожиданное решение – смасшатабировать концепт Шилова не на всю страну, а реализовать его в рамках той самой программы по развитию малых территорий. Да-да, она к тому моменту еще была жива, по крайней мере формально. И да, номинально ее все еще курировал Евгений Генрихович Лобов, за которым к тому времени уже закрепился статус «командующий вчерашним днем». В общем, его влияние тогда было сжато раз в пятьдесят относительно того, каким он было на пике, мы уже об этом рассказывали. Но, программа уж очень была необходима для реализации шиловского концепта, поэтому Авдею Наумовичу предстоял разговор с Лобовым. И не просто разговор, его еще надо было убедить подключиться к реализации концепта, во что бы то ни стало. А это было ни сколько не проще, чем создать сам концепт. Фактически, нам предстояло вернуть программу по территориям под свое управление. И хоть она уже давно никому не была нужна, сделать это было не просто, с учетом былых предписаний нам, и нашего формального статуса.
Плюс дополнительный фактор Видова, фактор Управления и все в этом духе. Я не хочу нарисовать безысходность, просто, пожалуй, это самая трудная отправная точка, которую я помню, за мою карьеру уж точно. Думаю и друзья-коллеги сразу и не припомнят, была ли сложнее. Вот, соглашаются. И мы, точнее Авдей Наумович, решили пойти по пути взаимной компенсации диаметральных точек зрения. Уточняю, нам нужно было сбалансировать четыре стороны: Видова – с его научно-политическими амбициями; Лобова – с его мстительностью и жаждой вернуть былые позиции; Управление – с его до конца не понятными мотивами; совокупность общественных организаций, в которых вообще был перманентный разброд и шатание. Кстати, большинство общественных организаций все же сходились в одном – в отношении к нам с большой опаской, со времен их попечительства а программе и ГОИ. Вот такой был расклад на нулевом этапе. Радовало одно, что было очевидно кто, кого и чем уравновешивает: Видов уравновешивал Лобова, прежде всего, на почве амбициозности; «ДВиК» должно было справиться с уравновешиванием общественных организаций; мы же, а именно ОАММ, должны были нивелировать воздействие Управления, та еще задачка. И все это надо было сделать до начала реализации концепта. А поскольку разговор с Лобовым назрел в любом случае, решено было начать с уравновешивания Видова за счет Лобова, параллельно перехватывая управление программой.
Надо сказать, что на тот момент Лобов представлял из себя типичного верховода в отставке или на пенсии, то есть «великодержавные» замашки никуда не делись, а ресурсов и возможностей практически не осталось. При всем при этом, он считал себя преданным всеми, и видел он это предательство даже не со стороны «веселой троицы», а со стороны Авдея Наумовича, считая его чуть ли не главным виновником того положения, в котором он тогда находился. Это я так, чтобы еще раз подчеркнуть атмосферу предстоящего разговора. И разговор вышел под стать описанному. Мы на нем присутствовали для статусности, что ли, чтобы показать коллективность и серьезность обращения. Сам же разговор вышел, примерно, таким: «
Лобов: Что прижало вас ребятки? Тут-то вы про меня и решили вспомнить? Излагайте, что у вас, хоть тоску разгоню…
Шилов: Евгений Генрихович, собственно, мы, помня о Ваших былых заслугах перед нами, решили Вам предложить возможность частичного восстановления Ваших былых позиций…
Лобов: Если бы я с вами не связался, не надо было бы ничего восстанавливать. Но, продолжай, может действительно что-то толковое предложите…
Шилов: Есть такая фигура, как Геннадий Евсеевич Видов, с мыслями и мировоззрением которого, Вы прекрасно знакомы по его нашумевшей публикации о «научности в государственном управлении». Да и его деятельность в качестве сопредседателя академсовета говорит очень о многом. Вы прекрасно знаете, что сильные оппоненты, делают каждого из них еще сильнее. Так вот, зная Вашу глобальную позицию, мы бы хотели предложить Вам стать главным публичным оппонентом господина Видова. Ресурсы и сопровождение за нами…
Лобов: Хочешь в отношении меня провернуть то же, что и в отношении этих троих, когда ставил их во главе «ДВиК»? Не слишком ли мелковато это все?
Шилов: Ну, во-первых: методика работает, они же до сих пор являются более, чем легитимными лидерами движения. Во-вторых: уровень и накал противостояния предполагается несколько другой. Да и, если прямо, какие у Вас варианты?
Лобов: Да, не меняешься ты, Авдей, все пытаешься схамить, даже тому, к кому обращаешься. Ладно, допустим интересно. Почему именно я, что сам-то себя не противопоставишься? Ты же все-равно только это и делаешь.
Шилов: Странно от Вас слышать подобную оценку, но мне она не принципиальна. Почему не я? Отвечу прямо – потому, что у меня нет Ваших амбиций, известности и связей. Это главные факторы, из-за которых мы к Вам обратились.
Лобов: Прямее некуда, ценю. А что же ты этого всего не нажил за всю свою деятельность? Можешь не отвечать, не интересно. Излагай план.
Шилов: Подробный план мы Вам переслали. Если коротко, то мы делаем Вас главным приглашенным экспертом ОАММ, это открывает перед Вами множество дверей, а дальше Вы делаете то, что умеете, не забывая, что Ваш главный оппонент – Геннадий Евсеевич. Не мне Вас учить, как всем этим пользоваться. Как я уже сказал, подпитку мы Вам обеспечим.
Лообв: Не боитесь, что против вас могу пойти?
Шилов: Воля Ваша, останетесь без ресурсов.
Лобов: А как же Управление? Оно Вас за такое благодарить не станет, мягко говоря. А я вместе с вами отгребать не собираюсь…
Шилов: Об этом не беспокойтесь, у них сейчас гораздо более насущные задачи, чем Вы. Извините за прямоту, они, первое время, могут Вас вообще не заметить.
Лобов: Ладно, буду надеется, что у тебя все продумано, как всегда, этого у тебя не отнять. Когда приступаем?
Шилов: Уже приступили…»
Мы и правда, к моменту этого разговора, уже запустили процедуру назначения Лобова нашим «главным экспером», так как были полностью уверены в том, что он не откажется от такой возможности вернуться. И, очевидно, были правы. И именно по этой же причине разговор получился такой прямой – чем меньше бы было недосказанного, тем выше вероятность получения согласия. Дальше нам предстояло противопоставить «ДВиК» всем общественным и представительным организациям на территориях.
Мить, мне кажется, что прежде, чем рассказать о том, как мы настроили «ДВиК» под упомянутую задачу, нужно вспомнить о том, что мы же собирались вновь перехватить управление программой. И, должна сказать, оказалось это не так уж и сложно, как предполагал Авдей Наумович. С Лобовым проблем не было, так как она для него была скорее обузой, особенно, в свете предстоящих событий. Но, статуса она ему придавала, так-что с курирования программы мы его снять не могли. На самом деле, не особенно и стремились. Вообще, на тот момент, программа представляла из себя вяло текущий набор процедур, который каким-то чудом исполнялся по инерции, и рассматривался на генеральном госсовете не чаще одного раза в год. Собственно, только тогда Лобов на нем и появлялся, в последнее время. Нам же предстояло переформатировать программу в некое наглядное отображение ошибочности подходов верхов к своим низовым и социальным функциям, а в крайнем случае, в главный инструмент противодействия верхам в этом вопросе. Но, для начала, как я уже сказала, нам нужно было перехватить управление. Вопрос с Лобовым был решен, оставался вопрос нашего статуса, который не позволял нам напрямую руководить программой. Решение было очень неожиданным, но не очень сложным в организации – мы попросили Лобова передать управление программой представительным организациям на местах в территориях. Эти организации очень обрадовались и ухватились за это предложение, в кой-то веке им было предложено управлять чем-то действительно статусным. Возмутилась только «веселая троица», так как программа находилась под формальным управлением их структуры. Хотя, на самом деле, никто в этом направлении ничего не делал. Честно говоря, ничего уже и не надо было делать, так как программа себя давно изжила, и уже давно было пора переходить к третьей или даже четвертой фазе нашего изначального плана по ней, но это я так, к слову. Что же касается возмущения назойливой троицы, то поскольку предложение о передаче управления программой местным было проведено и согласовано с Управлением, то и возмущение этих троих быстро сошло на нет. Убедить же Управление в таком решении, оказалось также не очень сложно, так как контекст данного предложения мы полностью уложили в логику их мировоззрения и действий, указав, что данным решением они ускоряют начатые ими процессы реформации системы.
И вы не видели для себя опасности в подобном решении и конфигурации? Ведь структуры, которым вы передали управление программой не были подконтрольны вам, более того, они были чрезвычайно разнородны, насколько я понимаю.
Правильно понимаете, Юрий. На разнородность и был расчет. Разнородность не позволяла им сформировать единый подход к управлению, что позволяло нам провести необходимые перестроения, которые предлагались, как устраивающие всех альтернативные предложения. Таким образом, мы и не нарушали наши соглашения относительно программы, и решали задачи по перестроению ее под наши задачи. Для представителей же местных, первичным было получение серьезных выходов для реализации своих персональных задач. Поясню, в то время существовало только два пути построения карьеры в госаппарате – либо через госкорпорации, либо через рабочие группы, утвержденные госсоветом. Вариантов пробиться по бюрократической вертикали практически не было, а по тем двум направлениям конкуренция было просто жуткая. Мы, по сути, дали третий, альтернативный вариант построения карьеры в госаппарате, и те, кто действительно нам мог мешать в реализации наших задач относительно программы, сосредоточились на решении своих личных карьерных задач.
То есть получается подход такой же, какой изначально был применен для создания «ДВиК»?
Да, что-то подобное, только в случае движения была сформирована очень четкая и исчерпывающая концепция – зачем, как, методы, принципы и так далее. При передаче управления программой этого сознательно не было сделано, более того, распоряжение об этом было подчеркнуто размытым и не конкретным, чтобы не дать даже малейшей возможности для какой-либо консолидации. Тут надо пояснить, что мы, тем более Авдей Наумович, ни в коем случае не считали местные представительные органы каким-то злом или деструктивным элементом, просто управление программой ну совершенно не их функция, и вероятность вреда от их управления была гораздо выше, чем пользы. Об этом свидетельствует сама история – все, что передавалось в управление представительным органам, превращалось лишь в поле для политиканства, без какого-либо продвижения вперед. Плюс надо не забывать, что мы очень сильно рисковали и так, поэтому оставлять место для каких-то неожиданностей было бы опрометчиво. Вот мы и решили в этом вопросе пойти, так сказать, по авторитарному пути.
Я правильно понимаю, что таким образом было сделано еще и с учетом того, что вам нужно было соответствующим образом перенастроить и противопоставить «ДВиК»?
Да, так и есть. Чем стабильней оппонент, тем проще ему оппонировать. Но, движение никогда не было оппозицией в классическом понимании, оно, скорее, было структурой анализирующей и объясняющей происходящее, а также заостряющей внимание на тех или иных аспектах, не только политики или экономики, но любых других сферах. Хотя главной функции – подпитка кадрами и персоналом ОАММ, с нее никто не снимал. Для решения же задачи противопоставления новоиспеченным управляющим программой, нам нужно было только сформировать и подготовить специальную группу, которая бы подвергала прозрачной, конструктивной и исчерпывающей критике все действия новых управляющих. Разумеется, с предложениями, чтобы обязательно была обратная реакция. Такую группу было решено сформировать из бывших чиновников, уволившихся по собственному желанию и пришедших на работу в «ДВиК» или ОАММ. Почему они? Банально, потому, что у них уже не было особого страха перед госаппаратом, но в то же в время они понимали, чего можно ожидать о аппаратчиков, и знали как с ними выстраивать дискуссии. Разумеется, во главе всего это «противопоставления» стояли мы, по другому и быть не могло. Но, предполагалось, что подключаться мы будем только на самом высшем уровне, либо когда ситуация будет требовать нашего вмешательства. И пару раз действительно пришлось вмешаться, но все это было прогнозировано.
А вот, что мы не смогли спрогнозировать, так это дальнейшие поведение и действия Управления относительно всей нашей возни. Вообще, Управление это такая структура, которая очень сложно поддается каким бы то ни было анализам и прогнозам, даже его состав и структуру практически никто не знал, не говоря уже о его планах. Собственно, в этом нет ничего удивительного, на то оно и Управление. Другое дело, что по их фактическим действиям и результатам можно было достаточно точно определить направления их деятельности. Вот и в отношении задачи по сбрасыванию государством с себя низовых и большинства социальных функций мы посчитали, что делается это для того, чтобы верхи могли сосредоточится на том, что считают важным для себя, в основном на международных геополитических «игрищах». Оказалось, что…
Вадим, теперь ты вперед забегаешь. Реальные планы Управления и верхов Авдей Наумович вычислил уже тогда, когда его концепт работал на полную. А до этого нам еще предстояло этот самый концепт запустить. Мы ведь только изложили первоначальную диспозицию. При запуске же всего обозначенного ранее, был одни назойливый и раздражающий фактор – госкорпорации, в лице «веселой троицы», я бы даже сказала, во главе с ними, так как получив свои назначения, о которых мы упоминали ранее, она начали массово и практически беспрепятственно «консолидировать» огромное количество активов. Беспрепятственно потому, что их действия полностью укладывались и согласовывались с процессами централизации, происходившими в тот период. Проблемы они нам создавали и ранее, мы об этом упоминали не раз, но в ходе реализации концепта Шилова, противодействие нам стало чуть ли не одним из основных направлений их деятельности. Поначалу мы думали, что это связано с их опасениями относительно восстановления позиций Лобова. Но нет, оказалось это связано с тем, о чем начал говорить Вадим Максимович.
Глава 29.
Я правильно понимаю, что помимо всех обозначенных противовесов, вам нужно было еще решать неожиданный вопрос по противовесу госкорпорациям?
Именно! И единственным вариантом, на тот момент, было противопоставление госкорпорациям не конъюнктурного, то есть независимого, научного сообщества. И в этом вопросе уже было недостаточно только лишь авторитета Видова, или репутации Шилова, тут должен был возникнуть реальный и нематериальный интерес у самого сообщества. Иными словами, обычные директивные меры или апелляции к научному любопытству тут уже не проходили, надо было предложить что-то гораздо существеннее. И таким предложением или, если хотите, мотивацией стала возможность, точнее реальный шанс, получения некоторых секторов экономики под науку. Поясню, имеется в виду курирование наукой некоторых узких секторов деятельности: применение научных подходов, получение новых источников финансирования и материальной подпитки, развитие прикладной науки под контролем научного сообщества, а не бизнеса и тому подобное. А таким секторами, например, могли стать: динамическое обновление персональных ИИ, создание «изолированных» персональных пространств в Сети, персонифицированная селекция агрокультур и тому подобное. Иными словами все то, что связано с максимальной персонализацией. Если честно, то все эти сверх персонализированные вещи госкорпорациям и крупняку были вообще не нужны, даже мешали, и логичнее всего было бы, что бы этим занимались малые предприятия, но у них не было ни средств, ни доступа, ни технологий. Вот Шилов и посчитал, что «спайка» науки и малого бизнеса в данных сегментах может быть чрезвычайно продуктивна и интересна, как одним, так и другим. Но это уже детали потенциально возможного устройства, главной же задачей было реализовать все это. А противостояние между научным сообществом и госкомпаниями, в этой связи, как Вы понимаете, вырисовывалось достаточно явное.
Только еще предстояло донести это все до самого научного сообщества. И, как ни странно, формат академсовета для этого не подходил, так как решение о противостоянии государственному бизнесу не должно было быть директивным. Поэтому, решено было пойти несколько издалека: было предложено каждому научному течению, каждой научной сфере высказаться в форме публикации на предмет негативного влияния крупняка на соответствующие сферы. Нашей же задачей было предание наибольшей огласки этим публикациям. Таким образом, решалась и задача начала противостояния науки и госкорпораций, и задача понимания научным сообществом получения под его контроль некоторых секторов экономики. И надо сказать, что реализовано это было достаточно быстро, так как к тому моменту у нас уже были каналы широкого информирования, как собственные, так и появившиеся в связи с участием Лобова. Эффект же получился вполне ожидаемым, вплоть до того, что госкомпании обвинили науку в том, что она недобросовестно пользуется своим привилегированным положением для получения материальной выгоды. Кстати, данное обвинение сильно позабавило широкую общественность, в контексте «кто бы говорил». В общем, процесс противостояния науки и крупняка был запущен, оставалось только перевести его в конструктивное русло, а именно выдавить госкомпании из обозначенных секторов, причем посредством именно конкурентных преимуществ, точнее более точного считывания конечных ожиданий потребителей, в этом наука точно превосходила крупняк. И взялось за эту задачу научное сообщество с ощутимым энтузиазмом, так как очень давно не предоставлялось возможности прямой конкуренции науки и крупного бизнеса. Нам же оставалось следить, чтобы от этого противостояния не пострадали малые предприятия, точнее, чтобы все свои действия в данном направлении наука осуществляла исключительно через малый бизнес. В принципе, по другому и нельзя было.
А параллельно с этими событиями, происходило увеличение активности верхов по сбрасыванию с себя «неинтересных» им функций. Значит, и реализация концепта Шилова по противодействию этим процессам набирала обороты. И уже на первых парах нам стало понятно, что в этом вопросе верхи пошли по достаточно примитивному, но максимально выгодному для себя пути – коммерциализации этих самых «лишних» функций, и передаче их на откуп тем самым, пресловутым госкорпорациям. Проще говоря, они хотели разом, и снять с себя все, что им было не интересно, и получить дополнительные доходы. Признаться, мы ожидали чего-то более изощренного, но тут, видимо, сказалось влияние «веселой троицы», которая, неформально, курировала все эти процессы со стороны крупняка. Правда, не могу сказать, что это упрощало нам задачу, но понимания и осознанности действий это знание, безусловно, добавляло.
Я бы еще добавил, что приступив к реализации концепта Авдея Наумовича, мы выяснили, что среди «низовых» государственных функций, от которых верхи хотели себя избавить, были и такие, которые вообще были либо устаревшими, либо ненужными, либо избыточными. Проще говоря, такие функции, из-за которых непомерно раздувалась армия чиновников. Обнаружив это, мы и, прежде всего, Шилов, решили, что может Управление решило провести ревизию государственных и бюрократических функций и процедур, и избавиться от ненужных? А мы зря начали эту бурную деятельность по противодействию им? Но нет, после того, как начались выступления высокопоставленных лиц в государственных информационных потоках с таким формулировками, типа: «надо предоставить полную самоорганизацию населению в вопросах совладения», «общественные организации должны принимать гораздо большее участие в местном самоуправлении», «нужно расширь возможности и интерес бизнеса для участия в социальных программах» и тому подобное, нам стало понятно, что в оценке происходящего мы не ошиблись. Казалось бы, вполне позитивные утверждения и тезисы, только вот весь наш совокупный опыт говорил нам о том, что если госаппаратчик высказывается в подобном ключе, значит делаться все будет либо диаметрально противоположно, либо только с учетом интересов госаппарата. В общем, все подобные высказывания послужили для нас явным сигналом к тому, что нам надо было активизироваться. И начать мы решили с усмирения круняка и госкомпаний в лице «веселой троицы», дабы лишить верхи, скажем так, коммерческой подпитки в этом вопросе, я, прежде всего, имею в виду технологии блок-чейн-маркетинга и потребительского влияния на персональные ИИ. А так как, противопоставить мы госкорпорациям решили научное сообщество, то и первое значимое действие по реализации концепта было совершено со стороны научного сообщества.
И координатором этого «действия» выступила я. Заключалось он в том, чтобы создать автономную инфраструктуру социального бизнеса, подчеркиваю – социального, без кого бы то ни было участия государственного или иного крупного бизнеса. Точнее, не то, чтобы создать, а обозначить возможность. Причем, ключевым была именно реальная возможность создания такой инфраструктуры, которая былf полностью просчитана и смоделирована научным сообществом, да так, что даже у самых отъявленных скептиков не нашлось бы сколь-нибудь сильных аргументов против этого. Собственно, после того, как демонстрация этой модели была распространена по всем доступным нам каналам, конъюнктурных карманных «скептиков» слышно и не было. А вот общественные организации, «оседлав эту волну», начали «накат» на госаппарат на предмет того, что «Давайте, делать!». Таким образом, мы запустили сразу два процесса: противостояние научного сообщества и корпораций, и противостояния общественных организаций и госаппарата.
Дальше нам предстояло подключить ко всему этому «ДВиК», раз уж включились общественные организации. И движение было подключено со следующим тезисом: «Пусть каждый сам определяет насколько ему нужна и важна социальная инфраструктура, а исходя из этого и должен формироваться вклад каждого в нее. И не обязательно материальный. А чтобы не было тунеядства, иждивенчества или узурпации, должен быть, как минимум, трехсторонний контроль». В общем, ситуация начала накаляться, что не могло не привлечь внимание верхов, поэтому было решено провести внеочередной генеральный госсовет по этому поводу, с целью немного ее охладить, посредством небольших показушных уступок. Собственно, для нас это означало только то, что концепт Авдея Наумовича работает, и внимание и ресурсы верхов, в вопросе сбрасывания с себя «ненужных» им функций, были отвлечены и сам этот процесс был приторможен.
А о каких уступках шла речь?
Я думаю, что сам верным будет ответить на это примерным кратким пересказом того самого госсовета. На котором, кстати, Шилов не присутствовал, по понятным причинам, он должен был оставаться, как можно дальше и дольше в стороне от всего этого. Так-что, фактически, это был наш первый генеральный госсовет без его непосредственного участия, ведь мы-то были приглашены к участию в качестве лидеров «ДВиК». И вот каким вышло наше участие в нем: «
Первый секретарь: Давайте предоставим слово лидерам крупнейшего общественно-политического движения на территориях. Господа и дама, мы все знакомы с вашей официальной позицией по рассматриваемому вопросу. Не могли бы вы ее представить более развернуто?
Я: С нашей точки зрения, все предельно просто… Первое: должно быть оказано противодействие, вплоть до прямого запрета, на использование социальной сферы в интересах крупного бизнеса. Достаточно того, что они безраздельно владеют коммерческой сферой. Второе, сделать социальную сферу максимально удобной не только для пользования, но и для участия в ней граждан. И третье, реформировать социальную сферу исключительно на принципах соучастия, без превалирования одной стороны над другой.
Первый секретарь: Проще говоря, вы поддерживаете видение, предложенное научным сообществом?
Елена Федоровна: В качестве фундаментальных основ, да. Но, предложения научного сообщества очень террористические, собственно, как и должно быть. Мы же предлагаем вполне конкретные решения и программу действий.
Профильный министр: Только вы не предлагаете, а противопоставляете свои предложения, а вместе с ними и себя, официальному курсу…
Представитель общественников: И не только официальному курсу, но всей сложившейся системе, в том числе и общественным организациям.
Профильный министр: И это тем более настораживает, из-за того, что вы уже были первопричиной глубокого кризиса в этой сфере.
Матвей Сергеевич: Ознакомьтесь, пожалуйста, с официальными выводами по этому вопросу. Там даже близко нет того, что Вы утверждаете. Да и сфера несколько другая. И мы, как раз предлагаем, вариант, при котором удастся избежать подобного кризиса в будущем в социальной сфере. Нынешняя система, а точнее, контролируемая бессистемность прямо к кризису и ведет.
Лобов: Согласен с выводами новых лидеров движения, которое когда-то возглавлял. Нельзя отдавать все на откуп какой-то одной стороны, ни бизнесу, ни общественникам, ни исключительно государству. В конечном итоге, каждый из нас является пользователем этой социальной инфраструктуры, так-что вовлечены должны быть все заинтригованные. Точнее те, у кого есть возможности внести качественные позитивные изменения в данную сферу.
Беглый: Я правильно понимаю, Евгений Генрихович, что Вы хотите с одной стороны добавить нагрузку на бизнес в этой связи, с другой стороны вообще лишить его участия в этой сфере? Как-то однобоко получается, не считаете?
Лобов: Во-первых, никакому бизнесу, кроме социального, в этой сфере нечего делать. Во-вторых, судя по недавним отчетам крупнейших компаний, что-то не сильно они нагружаются…
Первый секретарь: Господа, давайте не менять тематику дискуссии, нам нужно принять решение конкретно по социальной инфраструктуре. И на данном этапе оно будет таковым: запустить в экспериментальном режиме на ближайшей к столице малой территории модель социальной инфраструктуры, предложенной научным сообществом, сроком на один год; настройку осуществлять по ходу; привлечь к реализации все присутствующие здесь стороны.»
Как видно по заключению, решение у верхов было еще до начала того госсовета, собственно, как и всегда. Их главной задачей в отношении того вопроса было, как можно быстрее сбросить его с себя, так как набирал обороты процесс «сбрасывания неинтересных функций», и они считали, что озвученное решение полностью укладывается в логику этого процесса. На самом деле, мы на что-то подобное и рассчитывали.


