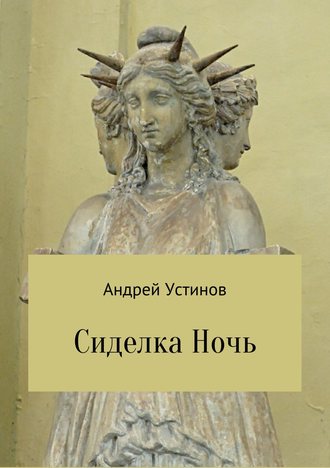
Андрей Устинов
Сиделка Ночь
Ошибка или нет – кто ж теперь скажет? Но уж больно подходящее место –раскрывается понятие “дом” и сделать тут ударение очень кстати. Вот что мы придумали: слово “изместья” – слово-то очень органичное, означающее “корни происхождения”. А так как речь о душе – духовную пуповину, занывшие духовные шрамы… И “пажити” – гораздо лучше соответствуют “the beauty of fair Greece” из первого варианта По, правда?
И, отказавшись от Никейских “ростр”, сложно говорить о гиацинтовом волосе. Пришлось искать замену – причем замену Мэтт потребовал не менее красочную! Так и родилась Эридия – нимфа Эридана. Нагая златобожественная наяда оживает на “Звездной карте” Петера Апиана, прославленного средневекового космографа. Разве не могла бы подобная литография привлечь воображение юного поэта? Что же, вот оно, чудное мгновенье По:
Елена! Благости сестра!
Ты ль, обратясь ладьей певучей,
Вояк-варягов за моря
Влекла, паря над зыбью жгучей,
Услышать Леты зов текучий?
Твои ль, Эридия, рулады
Богам мифической Эллады
Восполонят души изместья –
Пажити Элизиады,
Где гиацинтам час восцвесть?
Чу! В ночь отверста дверь алькова,
И та, кого ваял Канова,
Поденкам внемлет, замерши…
Психея! Ах! Ми беше Слово –
Ты бу́деши!
Обичь и невисть.
За влюбленностью часто следуют сомненья. Эпоха сомнений. Вспомните знаменитое двустишие Катулла:
Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.
Не правда ли, высказывание более философическое, чем лирическое? Лучше всего суть его передается чистым подстрочником:
Я ненавижу – и я люблю.
И зачем ты мучаешь себя?
(Ты можешь спросить.)
НЕ ЗНАЮ.
Но чувствую так
И я распят.
Конечно, в наше удивительное время “кратких” изданий классиков и т.п. античное слово отзывается порой самым нежданным образом. Достаточно помянуть незамысловатый шлягер “I love to hate you” – публика довольна! Но литературная традиция все же требует классической формы. И здесь старание переводчика сосредоточено обычно на двух моментах (по крайней мере, так гласит Интернет):
1) Как “емко” перевести “odi et amo”? Предполагается, что для римлян это были глаголы сильного, длительного действия. А наши “люблю” и “ненавижу” – глаголы, во времени неопределенные (present indefinite).
2) Как обыграть игру слов оригинала: зачем ты это делаешь? – не знаю, это делается само.
По первому вопросу – Мэтт предложил не использовать глаголы вовсе. Зато (все же не современника переводим) опереться на богатые возможности старославянского хоть на слово. Использовать существительные! Существительные, передающие долговременные состояния души – суть людских поступков! Скажем – “любость и невисть”…
Мэтт, для которого грани между братскими языками не столь существенны, предлагал еще варианты: “Обичь и невисть моя” (обич – болгарское слово, означающее земную любовь), “Муци любовны” (муци – слово сербское, означает страдания)…
По второму вопросу… Но все же пора решать. Хотим ли мы оставить двустишие Катулла именно философическим высказыванием по сути? Если да – то перевода выше, либо подобного, вполне хватает. Или – востщимся услаждать слух именно лирикой? Которая будет захватывать каждым словом/звуком не ум только, но и чувства?
Мэтт (тоже мучаясь любовью) проголосовал в пользу чувств.
Какие тут возникают задачи перед переводчиком?
Кроме очевидного пожелания не быть столь буквальным (подтекст! подтекст!), есть еще два наблюдения:
1) А кто же является тем собеседником поэта? Это может быть либо друг, либо… сама его возлюбленная. И то, что совершенно неважно для философского вопроса, для лирического перевода становится живым чувственным моментом.
2) Мэтт раскопал интересный комментарий профессора Уильяма Харриса из Миддлберри. Вот эта цитата: “Я обнаружил, представляя сию поэму классу, что могу достичь нужного эффекта, читая ровно и медленно и затем буквально вскрикивая на слове excrucior”.
Не удивлюсь, если профессор Харрис, подобно моему Мэтту, также не чужд стихотворству. Только поэт мог дать такой верный чувственный комментарий. Представьте: поэт и его друг (или подруга) философически обсуждают вопрос любви и ненависти, и вдруг голос Катулла хрипнет, и оба (оба! плюс читатель!) обнаруживают, что поэт – физически распят на кресте.
Итак, из одного абстрактно-философического тезиса у Мэтта перевелись (можно ли так сказать?) два конкретно-лирических выкрика души – зависимо от личности собеседника.
Вот разговор с другом, неопытным в любви:
Муци любовны. “Зело ли сластны?” – наивно взлопочешь.
Аще затем я на крест триакосой возгвожден!
А вот поддразнивания вертихвостки Лесбии, когда сам поэт – лишь бессильно повторяет свою любовь:
Обичь и невисть. “Ах, что за поэзы!” – взлопочешь лукаво.
Аще затем я на крест триакосой возгвожден.
Но финал-то – одинаков. Для всех поэтов финал всегда одинаков, и не Лесбия тому виной. Никогда не могут поэты остановиться в любви, спускаясь в песенный Аид глубже и глубже.
Вот еще пример – “Песнь отчаяния” почти позабытого ныне Неруды:
За марево над мертвой водой,
За пределы сущего, за край желаний…
О плоть, плоть женщины, которую я познал!
В сей туманный час – кличу душу твою!
Ты была вазой, приютившей бесконечную нежность,
И бесконечное забвение надломило тебя…
И на черном песке островов одиночества –
Там, женщина любви, приняли меня твои руки.
Эра голода и жажды – и ты была яблоком Рая.
Эра похорон и руин – и ты была Даром.
Ах, женщина, как могла ты вынести меня –
В лоне души твоей и на кресте твоих рук!
Я желал тебя ужасно, мановенно,
Беспорядочно, ослепленно, рвал построма…
Кладбище поцелуев, твои могилы еще тлеют,
Жжет глаз пираканты исклеванный грозд…
О, искусные уста, несытые лобзаньями члены,
Изблиставшиеся зубы, заплетенные в косы тела.
О, дикое фанданго мольбы и страсти,
Столкнувшее и разбившее нас…
Ты – нежность, вспорхнувшая над мертвой волной,





