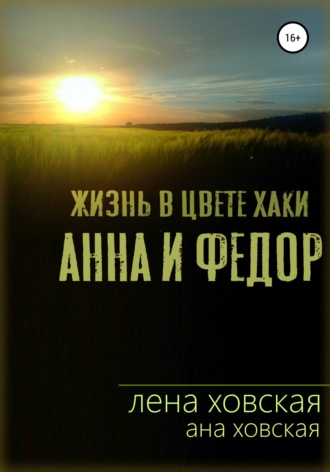
Ана Ховская
Жизнь в цвете хаки. Анна и Федор
Причина
Бывают лампы в сотни ватт,
но свет их резок и увечен…
И. Губерман
Снова пошли будничные дни. В Шуре словно надломилось что-то: она не трогала Аню, но и не привечала ее. А девушка приглашала Верочку к себе, показывала новые вещи, сшитые на заказ, предлагала научиться шить на машинке. Верочка еще совсем мала, усидчивости у нее нет. Наверное, это и не ее увлечение. И сама Аня не знала, было ли это ее делом, что она еще могла делать, кроме этого. Но выполняя заказы, потихоньку откладывала деньги, готовясь тайком уехать в далекий дом.
В поселке открыли почтовое отделение. Улучив момент, потихоньку от всех по пути к магазину (почта была на тракте) зашла и купила конверт. Дома она, таясь от своих, написала письмо Манечке, изложила все, что с ней происходит в поселке, как относятся отец с мачехой, какими делами сейчас занимается, предупредила, что хочет уехать отсюда, и опустила конверт в ящик, который висел на стене почты. Стала ждать ответ, совсем не зная, какова сейчас ситуация там, в Раевке, живы ли родные.
Перед Первомаем привезли в клуб новый индийский фильм, и девчата – сестры Федора – запросто пришли к Ане как к хорошей знакомой и позвали с собой на просмотр. Она согласилась, хотелось какого-то разнообразия в жизни, поглядеть на людей, отвлечься от домашних дел.
Таисия переехала к Павлу, но все равно пришла вместе с Настей к Зарудным, оставив мужа дома, посмеиваясь над ним, называя «нелюдимкой». Аня не без трепета шла с девчатами, те дружно смеялись над смущенной девушкой, дразня ее тихоней. Кино понравилось, и приятно то, что никто не обратил внимания на ее появление в клубе: пришла и пришла. Люди жили своими заботами, Аня же – своими страхами.
А на день Победы – 9 Мая – учителя организовали митинг, украсили школу цветами, зазеленевшими ветками, расставили во дворе школы скамейки, стулья из классов, пригласили всех бывших солдат и вручали им незамысловатые букетики полевых цветов, поздравляя с праздником. Впервые Аня была в гуще событий, многие здоровались с ней, узнавая в ней швею, которая никому не отказывала. А на празднике были и молодые, те, кто вернулся живым и относительно здоровым. Был и Федор, и он не отходил от Ани, которая держала за руку Малайку и не отпускала от себя.
Федору было неудобно разговаривать с девушкой при Малайе, он поглядывал на нее и улыбался. Аня стояла в кремовом платье, в туфельках, перебросив русую косу через плечо, была необычайно хороша собой, но задумчива, как будто пришла на праздник через силу. И ещё он заметил, что на девушку засматриваются и другие мужики, и заволновался. Настя, стоявшая рядом с братом, толкала его в бок, улыбчиво подмигивая: знала его секрет, его неравнодушие к девушке. Но время проходило, а ему все не удавалось поговорить с Аней. А потом отвлекся, здороваясь с Павлом, увидел, что девушка исчезла, ушла и Малайя. Он понял, что Аня избегает его. «Что с ней происходит? Какая-то непонятная она… Не задумала ли тишком смотаться отсюда?»
***
Прошли праздники, снова будничные дни увлекли работой, все занимались своими делами. Аня затаилась, больше молчала, ожидая письма от Мани, как что-то очень важное для себя, для своего будущего. Но время шло, а ответа не было.
Она шила, вышивала, помогала в огороде, так же ходила в магазин. Но в ее жизни появилась сокровенная мечта, поддерживающая на плаву. Ложась спать, долго вертелась на лежанке, не могла уснуть, все мечтая о том, как будет добираться домой, туда, к Манечке. Денег на дорогу маловато, поэтому не отказывалась даже от самых маленьких заказов на шитье. Но не все могли расплачиваться наличностью, приносили больше продуктами: яйцами, молоком, маслом, иногда свежим мясом, соленьями. Поэтому деньги собирались трудно.
После того, как Аня сшила платья матери Федора, с ним она не виделась, да тому и некогда: работа в полях в разгаре, даже вечером не приехать пораньше. Техника была старой, часто ломалась, запчастей не достать, как ни старался председатель пробивать в районе. Негодовал на начальство, которое, спуская сверху план, не помогало решать проблемы. И то сказать, не было запчастей даже в области. Председатель иногда отправлял на базу Федора как специалиста, заранее созваниваясь со старым приятелем с просьбой помочь. Тот хоть и обещал, но не всегда удавалось выполнить обещанное: снабжение шло туговато.
Федор издергался, нервничая из-за неурядиц в колхозе, оттого что не мог видеть Аню, боясь, что кто-то опередит его в планах, увлечет девушку, уведет из-под носа или что сама она вдруг уедет из поселка. Иногда, не выдерживая, возвращаясь поздно с работы, будил Настю, спрашивая ее об Ане, не видела ли она ее, не слышно ли, чтобы кто ухаживал за девушкой. Настя посмеивалась, сердясь за то, что будит ее среди ночи. Самой тоже иногда приходилось спать урывками, потому что часто вызывали по ночам то к роженицам, то к больным. А при небольшом снабжении маленькой больнички необходимыми лекарствами помочь всем невероятно трудно. Настя тоже нервничала, но, как могла, помогала людям. И Федору она могла только сказать, что ничего ни от кого не слышала об ухаживаниях за Аней.
И все же со временем, как-то выкручиваясь на работе, Федор стал приезжать домой пораньше, но не приходить же к девушке ночью, когда та могла уже спать, способа увидеться не придумывалось. Не подкрадываться же огородами, чтобы подсмотреть в окошко за нею, хоть издалека полюбоваться.
***
Пришел день, когда по дороге в магазин Аню остановила почтальонка, два раза в неделю разносившая почту. Молоденькая Дуся, так звали ее, была горбатой, носила почтовую сумку, низко склонившись над землей, изредка поднимая голову, чтобы видеть, что впереди. Она не была заказчицей Ани, но та знала ее и жалела. Дуся дала письмо девушке и сказала, что оно пришло два дня назад, но по времени не могла принести его. Аня была рада, что никто из своих не увидел, что она наконец-то получила долгожданное известие. С нетерпением распечатала конверт и, остановившись у магазина, стала читать. То, что она прочитала, потрясло.
Маня писала, что часто болеет, еле концы с концами сводит, денег нет и взять неоткуда. Варят щи из крапивы и конского щавеля, лепешки пекут с лебедой пополам, картошки нет, жиров никаких, купить в районе не за что, хлеба почти не видят, магазина в деревне нет, а из района доставляют несколько булок, которые делят в полуразрушенной школе на всех поровну.
Народу в поселке осталось мало, в основном старые женщины, вдовы. Изловчились-то печь хлеб из лебеды, но организм же не может принимать все подряд. Похудели, многие еле ноги носят. Валя учится в школе, потом хочет учиться на медсестру. Выросла, одеть не во что, взять негде, Маня перешивает свои платья на дочь, о себе уже и не думает.
Дом, покореженный со времени войны, почти развалился, ремонтировать не за что и некому. В Раевке нет ни одного мужика, никто не вернулся с фронта, а тех, кого расстреляли в период оккупации, перезахоронили на кладбище, сказали, что установят памятник. Все было вроде с почетом, в присутствии районного начальства, военных с салютом, но вот именно после того Маня и заболела.
Нелегко приходится ей: работы по силам нет, в полях надо пахать, таская на себе плуг, так как нет ни тракторов, ни другой техники. А на полях ямы после снарядов, мин и бомбежек – трудно обойти их, выбрать место для пашни. Из района привезли двух быков, которых запрягали, пахали и старались изо всех сил беречь скотину. Не так много удается женщинам сделать за день, а время уходит, посевную давно уже надо закончить, а дело стоит. Одну из женщин выбрали председателем, семян прислали из района, но это почти ничего не решало.
Разрушенные дома никто не мог самостоятельно восстанавливать: не было сил, материала, нет тех, кто мог помочь что-либо сделать. А тут случилась беда: на очередной поляне быки наткнулись на снаряд, погибли не только они, но и две женщины-погонщицы.
Тех девчат и женщин, которые вернулись из Германии, без конца таскают в военкомат в райцентр, допрашивают, кто-то и не возвратился больше. Никто не мог понять, в чем дело, пока в деревню не вернулся один израненный мужик, который рассказал, что всех, кто был в концлагерях, в плену, считали предателями, шпионами, и таких ссылали в другие лагеря, наши, сибирские. Хотя все в деревне знали, что женщин и девчат угоняли же не по их воле, вернулись живы и слава богу. Но кому это можно доказать, чтобы всех оставили в покое, кто будет доказывать, если сами вернулись в разбитые дома, к могилам расстрелянных мужиков и пацанов, чьих-то отцов, братьев, детей. Никто не мог заступиться.
Маня не упрекала ее ни в чем, она будто предупреждала, что жизнь может повернуться непредсказуемо, и никто не поддержит, не заступится: случись что – надеяться не на кого. Возможно, лучше будет, если сестренка там выйдет замуж, сменит фамилию, так ее трудно будет найти, если уж возьмутся преследовать.
Аня читала, и ее душа замирала от ужаса и боли, от страха: мечты умирали, им не суждено сбыться… Растерянно она вошла в магазин, совсем не помня, что хотела купить, взяла первое, что пришло в голову, и тихо вышла на крыльцо. Продавщица пожала плечами: обычно девушка благодарила за обслуживание, улыбалась, а тут…
***
Аня пришла домой, выложила покупки под недоуменным взглядом мачехи, вышла в сад и присела под яблоней, закрыв глаза, обхватив голову руками. Долго она сидела, пока к ней не подошел отец.
– Что случилось, дочка? Ты не заболела ли?
– Н заболела… Я умерла, наверно…– проронила тихо та.
– Что ты такое говоришь! Давай рассказывай, что случилось? Ты почему из магазина совсем не то принесла? Наверно, кто-то обидел… Что ты, как потерянная?!
– Я точно потерянная… Моя жизнь кончилась, еще не начавшись… Как жить теперь, не знаю…
– Да ты скажешь или нет, что случилось?– в тревоге тронул ее за плечо Филипп Федорович.
– Я не могу, не хочу говорить, я умереть хочу… Оставьте меня…
– Ты, девушка, в своем ли уме? Кто из жизни сам уходит? Ты, как Толик, хочешь сделать? Только жить по-человечески начала… Посмотри на себя: молодая, красивая… Парни заглядываются, люди тебя хвалят за мастерство, у меня душа не нарадуется… А она вон что удумала! Да что с тобой приключилось, объясни толком!– почти кричал отец.
– Толком? Вы хотите, чтобы я толком все объяснила? А что я должна сказать: напомнить, что вы сделали с моей жизнью? Что я росла без отца и матери? Что только бог знает, что пришлось пережить мне за мою такую короткую жизнь… Сколько страха и ужаса вынесла, почти благодарна была, что вы меня позвали сюда… А теперь что: Шура и та гадости обо мне по поселку несет. Откуда она взяла, что я была в лагере у немцев? Кто ее просветил, если, кроме вас, никто об этом не знал? Зачем вы позвали меня, если видели во мне гадкую, если так же сами думаете обо мне, как ваша Шура? Как мне с этим жить? Не будешь же всем объяснять, что я чиста, что ничего страшного, как там с другими, со мной не произошло? Кому теперь я нужна? Я хотела уехать, надеялась, что дадите мне денег, спокойно вернусь домой, к Мане. А теперь получила от нее письмо, в котором она пишет, как они там живут, что происходит со всеми, как нищенствуют, голодают… Ботву какую-то едят… Я бы уехала, не побоялась такой жизни, как-то выкрутились бы, а Маня теперь болеет, никто ей помочь не может… Все разрушено, ни денег, ни еды, ни помощи нет… Все бы ничего, но написала, что там трясут теперь тех, кто вернулся из лагерей, допрашивают, некоторых угнали в другие, наши лагеря… Вот что страшно… Потеряно все там, и здесь жизни нет… Только и того, что тут войны не было, ничего не разрушено… Но народ злой, хуже собак… Что еще вам напомнить?– тоже почти сорвалась на крик Аня.– Что вы молчите? Сказать нечего?
– Ты ни разу меня отцом не назвала… все вы да вы… Знаю, что сестра тебе рассказала, как мать померла… Виноват я, знаю и каюсь… да что было, то было: понес я наказание за содеянное, но сам себя не могу простить, и это тоже никому не скажешь,– виновато заговорил отец.– А о тебе я только и сказал, что со многими другими жителями угнана в Германию, так Шура же – это помело: придумала и ляпает что не попадя… Вот бог ее уже наказал: сына забрал, она все не кается…
– Теперь легко и просто свернуть на Шуру, которой много не надо… Почему она срывается на меня? Я же ей не мешаю… Ну уеду я, уйду из дому, ей какая забота? Это ведь неспроста все. И вы знаете что-то, а мне не говорите… Поэтому и чувствую, что я чужая здесь…
– Не чужая… Ты моя дочь, а Шура мне никто, и дети ее мне никто… Только что я тебе скажу: как задумаешь выйти замуж, не просто так же я при тебе допрашивал Федора тогда, помнишь? Так вот: помогу тебе с домом, дам денег. На них Шура зарится. А сама ни ласкова, ни приветлива… А ласковый теленок двух маток сосет, знаешь такую поговорку? Я виноват перед тобой, да… Но хоть как-то я могу загладить свою вину, хотя так это и не назовешь… Не кручинься ты так… Кому надо, разберется, что к чему, а дуракам ничего не надо доказывать… Держи себя с достоинством, живи с улыбкой. Ты достойна лучшей жизни, замуж хоть за кого пойди. Федор – это так: будет сватать тебя, сама решишь – нужен он тебе или нет. Заставлять никто не собирается,– он замолчал, тяжело дыша, положив руку на грудь.
– Ну вот… Сама не знаю, как жить, так и вас напрягла… Все-все, давайте успокоимся: как будет, так будет. Останусь пока… видно, дальше все же что-то придется решать,– тронула его плечо девушка, глядя куда-то вдаль огорода.
– Ты, дочка, только не придумывай ничего с собой сделать… Не зря бог тебя сберег. Надо жить, я сам через такое прошел, что другим и не снилось… знаю, почем фунт лиха. Может, и не совсем сладко тебе у нас живется. Но подумай сама, что Маня написала о себе. Не приедет она сюда, даже если позову. Сергея с собой забрал, хотел ей жизнь облегчить хоть как-то… Неспокойно везде, всем тяжело. И война не закончилась еще, на Дальнем Востоке воюют с японцами… Не знаю, что сказать, слухи всякие идут, узнать не у кого… Но как-то надо держаться…
Он тяжело поднялся, медленно пошел, постучал тростью по забору, потрогал яблоню и двинулся к дому. Анна долго сидела одна, все перемалывая свои слова, сказанные отцу, его ответ, строки письма Мани… Тихо к ней подошла Нина Ивановна, присела рядом, положила руку на плечо, погладила и мягко проговорила:
– Пойдем в дом, давно пора пообедать, ты с утра ничего толком не поела, уже скоро солнце садиться будет. Да и прохладно здесь уже. Поднимайся, простудишься ненароком. Не хватало заболеть.
Она помогла девушке встать, обняла ее и повела в дом.
***
Аня затихла, затаилась. Ночью долго не могла уснуть, все перебирала в мыслях строки письма. Она вспомнила пожилого солдата из конвоиров в усадьбе – дядю Митю, как его называли девушки, который привез их, русских, в комендатуру в Кессельдорфе для допроса. Комендант, полковник Иван Васильевич Федоров, расспросил трех девушек об их жизни в лагере, в усадьбе, писарь все записал, им выдали соответствующие бумаги. Разговаривали с ними негрубо, обещали при первой возможности отправить по домам. Иван Васильевич, ласково щурясь, посматривал на Аню, улыбался…
Она и две другие девушки одеты были хорошо, чисто, аккуратно, свои чемоданчики все время держали при себе. Их поселили в одном домике неподалеку от комендатуры, чтобы больше они не отправлялись в усадьбу, и приставили охрану. Девушки приходили в помещение, делали уборку, с нетерпением ожидая времени отправки, не отлучаясь никуда без разрешения. Иван Васильевич как-то обронил, что лучше было бы, если бы они уезжали не в родные села, а куда-нибудь подальше. Но ничего не объяснил, только задумчиво поглядывал на них.
Смеха ради или для того, чтобы занять чем-то тревожных девчат, выдали им оружие – винтовки – и приказали по очереди стоять на охране у входа. Однажды комендант приехал на машине, подошел к стоявшей «на посту» Ане и попросил ее ружье, будто для проверки состояния. Та, недолго думая, отдала винтовку. А полковник укоризненно покачал головой и сказал: «Чему я вас учил? А ты что сделала? А вдруг я шпион? Вон сколько недобитых фашистов кругом отлавливаем, сейчас бы взял твою винтовку и убил бы тебя? Разве можно свое оружие отдавать чужому?» Аня немного растерялась, но тут же ответила: «Так вы же свой? Я ж вас знаю! А стрелять-то нас все равно никто и не учил: как бы мы отбивались от нелюдей?» Полковник рассмеялся: «Ну что с вас взять…»
Так девушки прожили с мая до сентября, пока не подвернулась оказия для их отправки на Родину. А дядя Митя был здесь же при комендатуре, и как-то разговорился с Аней, расспросил ее о селе, куда она собирается вернуться. Аня не скрыла от него ничего из того, что произошло в Раевке при оккупации, что там осталась сестра с дочкой, и она не знает, жив ли кто еще, но ехать больше некуда. Дядя Митя сказал, что демобилизуется и может проводить девчат до их сел, а там видно будет. Война вроде кончилась, но все равно надо быть очень осторожными.
Позже Иван Васильевич сказал на прощание: «Будет необходимость, Аня, приезжай в Москву, жив буду, найдешь меня, запомни адрес»… и назвал улицу, номер дома и квартиры. Тогда Аня не понимала, к чему велись эти разговоры. Дядя Митя точно доехал с ними через Раву-Русскую до Белгорода, потом проводил ее до Старого Оскола, а там она сама уже добралась до дома. Но, прощаясь с девушкой на вокзале в Старом Осколе, он сказал, что все-таки она зря едет в свое село, и, немного помолчав, достал из рюкзака сверток и подал ей: «Вот, возьми… у меня детей нет, и никого нет, так я хоть тебе чем-то помогу». Девушка развернула бумагу, увидела деньги – свои, русские. Она обняла солдата, со слезами поблагодарила и простилась с ним с какой-то тоской и тревогой.
Все это вспомнилось отчетливо и теперь предстало в ином свете после письма Мани. К утру она все взвесила, решила, что останется в доме отца, а Мане пошлет все то, что заработала шитьем, чтобы хоть как-то облегчить им жизнь. Надо только съездить в район, чтобы никто не знал, и перевести им деньги, не вызывая пересудов в поселке. А с замужеством пока можно и погодить. На том и остановилась, незаметно уснув на рассвете.
***
Страна потихоньку оправлялась после войны. В поселке все чаще появлялись новые люди, солдаты, отлежавшие в госпиталях: кто без ног, без руки или даже без обеих, кто ранен и тяжело болен. Люди страдали, но старались выживать, как могли. Здесь не было войны, но почти в каждом дворе были те, кто воевал на фронтах, и те, кто считал нужным посчитаться с врагом за свою свободу. И нет таких, кто отрицал важность победы над фашизмом. Не каждая мать дождалась своих сыновей, не каждая жена праздновала возвращение мужа, оставшись вдовой смолоду, в одиночку с трудом поднимая детей.
Постепенно, но уверенно восстанавливались заброшенные хозяйства, ремонтировались избы, строились новые дома, прокладывались гравийные дороги, а тракт даже заасфальтировали, потому как это была трасса, как сегодня назвали бы, федерального значения. Между городами начали ходить автобусы, сначала простые пазики, потом побольше, проходя через поселок, подбирая пассажиров. И между поселками района тоже стали ходить по отдельному расписанию маленькие автобусы. Можно побывать в райцентре, где продавались школьные принадлежности, одежда для детей – школьные формы для мальчиков и девочек.
Школа из начальной превратилась в восьмилетку, уже не нужно учиться, как Федору в свое время, в другом поселке, здание расширили: пристроили три помещения, организовали мастерскую, где детей обучали работать с деревом, бумагой, ремонтировать мелкую технику – примусы, керосинки. Прибывали новые учителя, стал преподаваться немецкий язык, который многие считали языком врагов. Ученики сопротивлялись учить его, потому что, как ни крути, взрослые не смогли простить того, что случилось в войну. Но жизнь шла своим чередом.
Подросли ребята, девчата, рождались новые семьи, дети, вскоре открыли детсад. Все это отмечала Аня, потихоньку успокаиваясь из-за разрушенной надежды. Ей нравилось, как благоустраивался поселок, и магазин стал наполняться не только продуктами, но и мелкими товарами первой необходимости. Так что отпала нужда далеко ездить для пополнения запасов и в райцентр теперь можно попасть быстро.
Первые цветочки
Я первой нежности люблю возникновение,
когда еще мечты и чувства полускрыты.
Потом нам суждены лишь бурные мгновения:
на жизненном пути они, как версты, врыты.
Шарлотта Цвейг
Аня побывала в районе одна, осмелилась поехать на автобусе, придумав, что ей надо присмотреть ткани и нитки, иглы и прочие вещи для шитья. Там она нашла почту, перевела деньги Мане, там же написав новое письмо, опустила его в ящик. К вечеру возвращаясь домой, она, к своему удивлению, увидела возле своей усадьбы Федора, который пораньше приехал с работы и пришел к Зарудным повидаться, наконец, с Аней. Она остановилась, держа в руках холщевую сумку с покупками, смотрела на него, как он радостно идет к ней, и успокаивала себя тем, что эта встреча ненадолго. «Ну опять он явился? О чем с ним говорить? Вот привязался…» Федор подошел, поздоровался и предложил понести сумку.
– Ты собрался к нам идти?– недоуменно спросила она.
– Я так давно тебя не видел… Можно посидеть с тобой у вас во дворе? Ты же никуда не выходишь…
– У нас во дворе? Как ты себе это представляешь? Как будто ты родич…
– Ань, что ты такое говоришь? Мы же не чужие с тобой: столько раз встречались – я к вам приходил, помнишь, ты к нам приходила…
– То все по делу, а теперь что?
– Так я увидеть тебя пришел – это тоже дело… Ты на меня сердишься, что ли, не пойму тебя… Скажи хоть что-то?! Нельзя молча обходить меня стороной, я ведь ничего тебе плохого не сделал, а ты шарахаешься от меня… Так давно не видел тебя, просто рядом побыть хочу. Не гони…
Анна молчала, вроде и соглашаясь с его словами, и не зная, как поверить парню, что он действительно искренен. «Ну как тебе верить, если ты говоришь одно, а делаешь другое? Зря скажут люди, что ли?» Покачала головой, проронила горько:
– Я сама здесь чужая, и тебя еще приведу во двор… Что скажут мне родственники!? Давай как-то в другое время встретимся где-нибудь, не здесь. Я сегодня весь день дома не была, ездила в райцентр. Еще не знаю, что подумают мои.
– Может, есть кино какое-то сегодня, сходим давай, побудем вместе? Ну зайди ты домой, скажи, что я тебя пригласил в клуб, и пойдем проверим, есть там что или нет. А там видно будет… Что скажешь?
– Даже не знаю, устала я что-то. Незнакомые места, автобусы, дело не дело, а много разных впечатлений… Может, после как-нибудь?
– Аня, я тебя провожу потом, соглашайся, пойдем сходим к клубу. Я же знаю, ты все работаешь дома, отдохнуть тоже надо как-то… Это не так далеко отсюда, вдруг точно есть какой фильм. Может, на журнал5 опоздаем, запустят все равно. У нас не так строго это. Пойдем, а?
Аня заколебалась. Дома тоже не хотелось сидеть при керосиновой лампе, так хоть время пролетит быстрее. С некоторых пор она стала почему-то торопить часы, желала, чтобы день живее закончился, не хотела долго разговаривать ни с кем, задумывалась без видимых на то причин. Вообще, она и сама себя перестала узнавать после того письма, после разговора с отцом, когда высказала ему все, что было на душе. Сегодня была довольна своей поездкой – задуманное свершилось. Осталось ждать сообщения от Мани, что она получила деньги.
Помолчав, она согласно кивнула парню:
– Подожди меня здесь, я быстро. Предупрежу только и сумку оставлю.
Федор радостно улыбнулся, отошел к забору. Аня скрылась за калиткой, быстро простучала каблучками по двору. Ему стало спокойно, подумал, что зря себя накручивал, что кто-то перебежит ему дорогу. Просто девушка занята делами, как и он. Он совсем не думал о том, что Аня не доверяет ему, его искренности. С чего бы это, если он был занят работой так, что, как говорят, свету белого не видел. «Но, может, Маришка что-то ляпнула где? Вот черт, связался на свою голову…»
Через некоторое время калитка выпустила Аню, одетую для прогулки в прохладное время. Он подал ей руку, она покачала головой, просто пошла рядом. Некоторое время шли молча. Потом девушка спросила:
– Как работается? Что нового в поселке? Я же никого не вижу, ни с кем не дружу, ничего не знаю. Бывает, Малайя что-нибудь скажет через огород – и все новости.
Федор рассказал, что восстановили плодовый сад, поставили нового сторожа, садовода, организовали пасеку в горах, что как-нибудь он свозит ее туда. В колхозе будут выдавать яблоки, мед под трудодни.
– Значит, я не буду получать меда: у меня же нет трудодней, в колхозе не работаю, нахлебница.
– Да я тебя залью медом, хочешь?– засмеялся Федор.– Там знакомый пасечник работает, Мощенко. Теперь буду знать, что ты любишь мед.
– Я и не знаю, что это такое, а ты говоришь – люблю. Никогда не видела его раньше, не пробовала: не было у нас пасек. Были там леса ореховые, ходили орехи собирать. Их я знаю и люблю. Здесь таких не видела, и много чего не видела, не пробовала ни разу в жизни. А ты говоришь – трудодни. Получается, если кто не работает в колхозе, то он и не человек. Одним можно, а другим даже за деньги нельзя купить? Те же яблоки… Хорошо, что в усадьбе яблони растут, хоть побираться не придется.
– Да ты совсем плохо о колхозе думаешь… Так нельзя: везде люди работают, труд их ценится.
– Ну да… А мой труд бесценен… Что сижу порой ночами над вышивкой в угоду модницам поселковским, это не в счет. Почему бы не открыть пошивочную: я бы научила шить кого-нибудь, кто будет иметь охоту и прилежание. Закупили бы пару-тройку машин швейных и, глядишь, все люди ходили бы в обновках. Это ведь тоже ценно: приятно же смотреть на хорошо одетого человека… Разве не так?
– Знаешь, а ты права… Надо идею председателю подкинуть. Но это будет легко, когда колхоз вырастит урожай, будут свободные деньги, чтобы тратить их при нужде. А пока мы в полях только рассчитываем, что будет, а как на самом деле получится, никто не знает. Будет дождь – будет урожай, покосы; будут сыты коровы – будет молоко, а будет молоко – будут сыры, масло, сливки. Все взаимосвязано.
– Да… Ты рассуждаешь правильно. Это я по верхам гляжу. Все потому, что не работаю в колхозе. Но где бы я работала, что бы я делала? Ничего не умею больше. Поэтому и чувствую себя чужачкой и мало кому верю.
– Почему не веришь никому? Тот, кто обижает тебя, не должен убить веру в людей. Ты сама по себе добрая девушка, я же вижу. Ты общаешься с другими, они довольны тобой. Если это не так, народ не шел бы к тебе с заказами. Почему не веришь людям? А вообще, почему ты заговорила об этом? А мне ты веришь, что я к тебе всей душой?– вдруг остановился Федор, как будто что-то понял.
– С народом я только по делу говорю: как сшить, как лучше будет. О каком общении ты говоришь?! А с тобой – не знаю… верю – не – верю… Тут другое…
– Что другое? Ты все время уходишь от разговора, как я тебя не пытаю. Ты во мне сомневаешься? Почему? Опять кто-то что сказал, а ты и настроилась против меня? А я, дурак, маюсь оттого, что не пойму, что случилось, почему ты такая сдержанная, холодная ко мне. Скажи прямо, чтобы все стало ясно. Я бы не ходил вокруг да около, если бы ты мне не нравилась.
– Одного раза мне хватило, чтобы засомневаться. Поэтому я не знаю, как себя с тобой вести. То ли ты точно такой на самом деле, то ли другой… Боюсь ошибиться, чтобы горько потом не было. Лучше не надеяться ни на что, так легче перенести будет все. А, помнится, ты мне обещал какую-то приятную новость сказать, да так и потерялось. То одно закрутилось, то другое… Теперь мне очень трудно, я сама не своя, потому что исчезла надежда на будущую жизнь.
– Что ты говоришь, какая надежда исчезла? Мы же еще ничего не решили? Вернее, я-то решил, а ты все оттягиваешь ответ. А новость для тебя будет точно приятной: мать хотела домик купить для Таси, но та ушла жить к мужу, ты это знаешь. А Настя не хочет ни за кого замуж идти, сказала, что с мамой останется жить. Мы можем жить в том домике, что мама приглядела. Он хоть и маленький, две комнатки, сенцы небольшие, кладовка, но на первых порах будет нам хорошо, а потом свой большой дом поставим. Тебе бы самой посмотреть… наверное, понравится: ты же хотела быть сама хозяйкой в доме. Там усадебка неплохая, она рядом с мастерскими находится, где я работаю, туда можно через огород пройти. Можно будет сад развести, кустарники, цветы, огород большой есть. Сарайку поставить для живности, еще что-то приспособить… Вот как я тебе расписываю, словно уже мы договорились пожениться… А ты молчишь – ни да ни нет. И я в растерянности: то ли у тебя кто-то другой появился, то ли ты меня просто отталкиваешь. А ты, оказывается, мне просто не веришь… Зря ты так…
– Неожиданная новость… А что мама твоя говорит об этом? Или это ты решил так, а она и не знает? А у меня никого другого нет, не собираюсь я пока замуж… Ты первый предложил. Не знаю, не знаю, Федя… Действительно ли я тебе нужна, как ты говоришь? Может, все совсем не так? Ты что, себя или меня проверяешь? Вот нет веры у меня, что это все правда. Вроде рассуждаешь ты верно и хорошо о колхозных делах, видно, разбираешься во многом. Я тоже росла в селе, но рядом были сестра, ее муж – какие заботы были у меня? Ну, училась в школе, даже не знаю, кем бы я хотела быть в жизни, ничего не удалось исполнить, не успела: война проклятая перебила… А потом сам знаешь, я тебе рассказывала… Так и живу как неприкаянная. Но здесь я точно чужая, мне кажется, вообще никому не нужна. Удивляюсь только тебе: почему ты словно прицепился. Ничем особенным от ваших я не отличаюсь. Здесь сколько других молодок красивых и веселых в поселке, а я же и не очень веселая, мне все больше плакать хочется… Будет ли тебе со мной хорошо?
– Мне кажется, ты нарочно так принижаешь себя… Ты себя не знаешь, неуверенная какая-то, почему – не могу сказать. Война ли так подействовала, или что другое, но ты и в самом деле не очень веселая. Я только несколько раз видел твою улыбку, ты бы хоть со стороны на себя поглядеть смогла, как ты хорошеешь тогда. Ты и так красива, а когда улыбаешься, то любо-дорого смотреть. И когда Марко смешил нас, помнишь? Тогда увидел тебя настоящую… Зря ты так… Наверное, некому тебя развеселить, поэтому живешь без радости. Чем ты занимаешься: шитьем, уборкой в доме, в огороде помогаешь, и все это со стариками, которым ты в радость, но не они тебе в утеху. Наверное, я не то говорю, но, как умею, так и думаю. Надо заняться тобой вплотную, развеселить, показать другую жизнь. Нам будет с тобой хорошо, не думай, не сомневайся. Будем жить мирно, дружно, дети пойдут, все будет у нас со временем, как у людей… А мать будет рада, что мы поженимся, ведь я ей все рассказал, ты ей понравилась…







